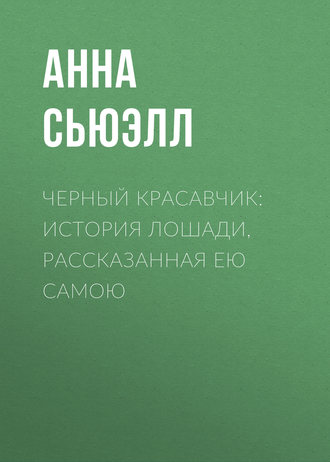
Анна Сьюэлл
Черный Красавчик: история лошади, рассказанная ею самою
IX. Резвушка
Господин Блумфильд часто присылал своих детей играть с нашими барышнями. У него были сыновья и дочери; одна из дочерей была одних лет с барышней Джесси, двое мальчиков были постарше, а остальные были малыши. Когда все они собирались у нас, Резвушке доставалось много работы, потому что все дети поочередно катались на ней верхом во фруктовом саду и по выгону.
Один раз Резвушка была очень долго занята с детьми. Когда наконец Джемс привел ее в конюшню, он сказал, надевая ей недоуздок:
– Смотри, шельма, веди себя хорошо, а то попадем мы с тобой в беду!
– Что ты сделала, Резвушка? – спросил я.
– Ничего особенного, – отвечала она, мотнув головой. – Я немножко поучила ребят, когда они не хотели знать меры. Я сбросила их, вот и всё.
– Как! – воскликнул я. – Неужели ты сбросила кого-нибудь из наших барышень? Я не ожидал этого от тебя.
Резвушка посмотрела на меня с выражением большой обиды.
– Конечно, я этого не сделала! Я бы ни за что на свете не сделала такого дела. Я берегу наших барышень не меньше, чем их собственные родители; что касается маленьких детей, я их учу, как надо ездить верхом. Чуть я замечу, что они боятся и начинают нетвердо сидеть в седле, я не иду прежним шагом, а, можно сказать, стелюсь по земле, как кошка, подкрадывающаяся к птичке. Когда они успокоятся, я снова прибавляю шагу. Нет, не трудись читать мне нравоучения. У этих детей нет лучшего друга, чем я, и лучшего учителя верховой езды. Сегодня я расправилась с мальчиками господина Блумфильда. Мальчики совсем другое дело. – Резвушка встряхнула головой. – Мальчиков надо бы учить с детства, как учат нас, жеребят. Я уже более двух часов возила детей, когда мальчикам тоже вздумалось покататься. Я ничего не имела против такого желания и с добрый час катала их рысью и галопом по саду. Каждый из них сделал себе длинную палку вместо хлыста и щедро угощал меня этой палкой. Сперва я всё терпела, но когда мне показалось, что довольно их ублажать, я начала с того, что остановилась раз, потом другой раз, надеясь, что они поймут мой намек. Мальчики, видно, думают, что лошадь не живое существо, а паровая машина, которую можно заставлять двигаться сколько угодно. Им и в ум не приходит, что животное может устать, что оно чувствует так же, как человек. Итак, видя, что мальчуган, хлеставший меня, ничего не понимает, я взяла да и стала потихоньку на дыбы, так, чтобы он скатился на траву. Он влез опять мне на спину; я повторила свою уловку; тогда другой мальчик сел на меня верхом и принялся хлестать. С ним я поступила так же, как и с его братом. Наконец они поняли, что ничего со мной не поделаешь. Они не дурные ребята, я этого не скажу, но их надо было проучить. Когда они привели меня к Джемсу и рассказали ему, что случилось, мне кажется, Джемс очень рассердился, увидав их палки. Он сказал, что только ломовые извозчики или цыгане ездят с такими палками, а не приличные мальчики.
– Я бы на твоем месте хорошенько брыкнула их, – заметила Джинджер. – Тогда бы они поумнели.
– Конечно, ты бы это сделала, – возразила Резвушка, – но я не так глупа, извини, пожалуйста, чтобы сердить нашего хозяина и осрамить Джемса. Ведь детей мне доверили. Я сама слышала, как хозяин недавно сказал госпоже Блумфильд: «Вы можете быть совершенно спокойны насчет детей. Моя Резвушка позаботится о них не хуже вас самих или меня. Я ни за какие деньги не продам эту лошадку. На нее можно вполне положиться». Неужели ты считаешь меня за такую неблагодарную тварь, что я забуду всю ласку, полученную мною здесь за пять лет жизни? Неужели я вдруг сделаюсь норовистой лошадью из-за того, что пара глупых мальчишек нехорошо со мной обращались? Нет, это невозможно. Ты, видно, не знала хорошего места, и я очень жалею тебя. Всякая лошадь становится хорошей на хорошем месте. Я ни за что не огорчу хозяев, потому что я люблю их всей душой.
Резвушка заржала при этом так, как она ржала по утрам, заслышав шаги Джемса.
– К тому же, – продолжала она, – какой был бы толк в том, если б я принялась брыкаться? Меня продали бы поскорее, чтобы избавиться от меня. И что бы сталось тогда со мной? Пожалуй, я попала бы в руки какому-нибудь молодцу из мясной лавки или стала бы до истощения сил возить на морском купанье катальщиков, которым до меня не было бы никакого дела. Я видала таких господ, выезжающих на чужой, нанятой лошади по воскресным дням: четверо рослых мужчин сядут в кабриолет, заложенный одной лошадкой, и погоняют ее, не думая о ее силах. Сохрани меня Бог от такого несчастья!
X. Разговор во фруктовом саду
Мы с Джинджер по своему среднему росту не были настоящими каретными лошадьми, но наш хозяин не держал лошадей для щеголяния в лондонских парках, а потому любил больше таких лошадей, которые годятся и в упряжь, и под верх. Он всегда говорил, что ему не нравятся ни люди, ни лошади, приспособленные только к одному делу. Что касается нас самих, мы испытывали особенное удовольствие, когда нас седлали всех для большого общества. Хозяин ездил на Джинджер, хозяйка – на мне, а барышни – на Оливере и на Резвушке.
Нам было очень весело идти дружной рысью или вместе скакать. На мою долю приходилась самая приятная наездница; она была легка как перышко, и рука у нее была такая же легкая. Я слушался ее узды незаметно для себя самого. Да, как бы хорошо было, если б люди поняли, что лучшее средство сохранить мягкость лошади – это не дергать ее поминутно! У нас очень нежный рот, и, если его не испортили грубым обращением, мы чувствуем малейшее движение руки ездока. Меня ничем не портили, вот почему хозяйка предпочитала меня Джинджер, несмотря на ее хороший ход. Джинджер часто сердилась за это и всегда жаловалась на то, что грубые лошадники испортили ее рот. Оливер, старый опытный конь, утешал Джинджер:
– Пустяки, – говорил он, – не тревожь себя понапрасну; ты должна гордиться тем, что можешь возить такого важного наездника, как хозяин. Нечего роптать и жаловаться, если люди ласковы с нами. Надо быть довольным.
Я часто дивился короткому хвосту Оливера, и раз как-то, в праздничный день, когда мы щипали траву во фруктовом саду, я решился спросить его, вследствие какого несчастного случая он потерял хвост.
– Никакого не было несчастного случая, – недовольно отвечал Оливер. – Надо мной совершили постыдное, жестокое злодеяние. Меня жеребенком отвели туда, где производят эти жестокие операции. Меня связали и привязали так, что я не мог шевельнуться; тогда пришли злодеи и отрезали мой чудный, длинный хвост.
– Как ужасно! – воскликнул я.
– Да, трудно представить что-либо бесчеловечнее. Во-первых, сколько я выстрадал боли и мучения во время операции, – ведь прорезали мясо и кость, – потом как долго я не мог поправиться; но хуже всего то, что меня на всю жизнь сделали калекой, – я говорю о моей беспомощности относительно злых слепней! Все лошади, не думая, взмахивают хвостами и сгоняют докучливых врагов. А тут… Ты не можешь себе представить, какое мучение, когда мухи вонзаются в тело и ты не можешь их прогнать! Этого зла ничем нельзя поправить. Слава богу, что теперь больше не режут лошадиных хвостов.
– Зачем же это прежде делали? – спросила Джинджер.
– Для моды! – отвечала старая лошадь, топнув ногой. – Понимаешь ли ты это глупое слово? Тогда считалось, что породистая, господская лошадь должна непременно иметь короткий хвост. Точно Бог, сотворивший нас, не знал лучше людей, что именно нам надо.
– Верно, ради моды же вздергивают двойными мундштуками наши головы, – заметила Джинджер.
– Конечно да! – сказал Оливер. – По-моему, нет хуже зла на свете, как то, что люди называют модой. Посмотри на собак: что они с ними делают? Обрезают хвосты и уши, чтобы придать им задорный вид. У меня была одна дорогая приятельница из породы такс. Звали ее Скай; она выбрала себе место в моем стойле, подле яслей, и тут у нее жила семья премиленьких щенят. Никого из них не утопили, когда они родились, потому что они были породистые. Как мать любила их! Весело было смотреть на них, когда они стали видеть и ползали около матери. Но вот раз пришел один человек и унес всех щенят. Я подумал, что их унесли от меня, чтобы я их не ушиб нечаянно, но вышло совсем не то. Вечером бедная мать принесла их по одному назад, только это уже не были прежние веселые щенки; я увидел несчастных окровавленных зверьков, которые жалобно пищали. Всем им отрезали по кусочку хвоста и мягкий пушок, окаймлявший уши. Мать неустанно лизала их и казалась страшно огорченной. Я забыть не могу этой грустной картины.
Со временем щенки выздоровели, но пушок исчез навсегда с ушей, а ведь его назначение, верно, состоит в том, чтобы защищать нежные уши от пыли и повреждений. Почему люди не обрезают ушей своим собственным детям? Если б они делали им острые уши, как собакам, может быть, у них тоже получался бы задорный вид? Какое право имеет человек мучить и уродовать божьи творения?
Оливер произнес свою речь с большой горячностью. Для меня все это были неслыханные и ужасные вещи; я почувствовал недоброе чувство к людям, которых до сих пор любил. Джинджер, конечно, очень вспылила при рассказе Оливера. Она объявила, что люди – звери и вдобавок дураки.
– Кто говорит такие нехорошие слова? – спросила Резвушка, подходя к нам. Она только что перед этим терлась о нижнюю ветку яблони.
– Для дурных дел есть и дурные слова, – сказала Джинджер, передав Резвушке то, что нам сейчас рассказал Оливер.
– К сожалению, все это правда, – грустно заметила Резвушка. – Я сама не раз видала подобное. Но зачем говорить о злых делах здесь, где все добрые, начиная с нашего хозяина и кончая Джемсом? С нашей стороны было бы неблагодарно дурно говорить о людях.
Эта мудрая речь успокоила нас всех, особенно же Оливера, который был глубоко привязан к хозяину. Чтобы переменить разговор, я спросил:
– Не может ли кто-нибудь объяснить мне пользу наглазников?
– Нет, – отвечал Оливер, – потому что в них нет никакой пользы.
– Думают, что наглазники мешают пугливой лошади пугаться и наделать вследствие испуга каких-нибудь бед, – спокойно сказал Судья.
– Тогда зачем же не надевают наглазников на верховых лошадей, особенно на дамских? – спросил я.
– Без всякой причины, – отвечал Судья. – Мода такая, больше ничего. Уверяют, будто лошадь без наглазников, видя так близко за собою колеса экипажа, непременно понесла бы; но на это можно возразить, что и верховая лошадь на каждом шагу видит близко от себя колеса на людных улицах. Мы привыкаем к ним и, конечно, без всяких наглазников не стали бы пугаться и нести. Напротив, без наглазников лошадь лучше видела бы и пугалась бы гораздо меньше, чем видя только части предметов.
Я ничего в этом не понимал и не мог выразить никакого мнения.
– Я думаю, – сказал Оливер, – что наглазники ночью – преопасная вещь. Лошадь видит ночью лучше человека, и, если б ей давали возможность смотреть свободными глазами, многих несчастий не случалось бы с людьми при езде. Несколько лет тому назад катафалк возвращался поздно вечером; проезжая по дороге мимо фермы Спаро, где пруд подходит к самому краю дороги, колеса скользнули в воду; дроги повалились, лошади утонули, и возница спасся с большим трудом. После этого пруд огородили высокой белой решеткой во избежание подобного случая, но я думаю, что его бы не надо было и огораживать, если б лошади были без наглазников. Они бы сами тогда держались подальше от берега. Незадолго до твоего прихода сюда карета хозяина опрокинулась. Тогда говорили, что, если б фонарь не потух, Джон увидал бы яму, и карета не попала бы в нее, а я думаю, что если б лошади были без наглазников, они бы и в темноте обошли яму. Между тем вышло то, что и лошадям переломали ноги, и Джон только каким-то чудом не убился.
– Я вот что думаю, – заметила с раздутыми ноздрями Джинджер, – эти люди, которые считают себя такими мудрецами, должны бы издать приказ, чтобы жеребята все родились с глазами ровно посреди лба, а не сбоку. Люди воображают, что они могут совершенствовать природу.
Разговор снова обострился. В эту минуту Резвушка подняла свою лукавую мордочку и сказала:
– Я знаю один секрет: Джон не одобряет наглазников. Я слышала его разговор с хозяином по этому поводу. Хозяин говорил, что опасно отучать лошадь, с малолетства привыкшую к наглазникам, а Джон отвечал ему, что, по его мнению, лучше было бы воспитывать жеребят без наглазников, как это делается во многих других странах. Итак, нечего нам беспокоиться на этот счет. Знаете что? Во фруктовом саду валяется много вкусных яблок, сдутых ветром. Хорошо бы нам полакомиться ими!
Нельзя было возражать на это предложение. Скоро мы все опять развеселились, жуя сладкие яблоки, разбросанные в траве.
XI. Откровенная речь
Чем дольше я жил в Бертвикском парке, тем более я гордился своим местом. Наших господ уважали все люди, живущие в округе. Они были добры со всеми – с человеком и зверем одинаково. Не было ни одного существа на свете, которое не нашло бы у них защиты против обидчика. Если кто-нибудь из деревенских мальчиков дурно обращался с животным, слух об этом тотчас доходил до господской усадьбы, и доставалось тогда провинившемуся! И чужим людям приходилось иметь дело с нашим хозяином, когда он видел какую-нибудь жестокость по отношению к зверю.
Однажды хозяин верхом на мне возвращался домой. Навстречу нам ехал высокий, сильный мужчина в кабриолете, заложенном небольшой, прелестной гнедой лошадкой, с тонкими ногами и породистой головкой. Подъезжая к воротам нашего парка, лошадка хотела повернуть к ним. Мужчина, ничего не говоря, так грубо дернул узду, чтобы повернуть ее, что она чуть не упала. Оправившись, лошадь собиралась бежать дальше, но человек не унимался: он крепко держал узду, вздернув голову бедного животного, и свирепо хлестал ее изо всех сил. Лошадь хотела дернуть вперед, но сильная рука не давала ей ходу, разрывая ее рот мундштуком. Мне было страшно смотреть на эту картину: я знал хорошо, какое это мучение для нежного рта.
– Послушайте, Сойер, – строго крикнул наш хозяин, – разве лошадь ваша не живая, что вы с ней так обращаетесь?
– Не только живая, но и норовистая, – отвечал мужчина. – Она слишком любит волю, а я этого не люблю.
По его голосу было слышно, что он взбешен на свою лошадь.
– Неужели вы думаете, что животное станет послушнее от такого обращения? – спросил хозяин.
– Ей нечего было заворачивать к воротам, перед ней была прямая дорога, – возразил Сойер грубым голосом.
– Вы часто приезжали ко мне на этой лошади, – продолжал хозяин. – Она помнит это и хотела предупредить ваше желание. Но не в этом дело. Признаюсь, Сойер, я в жизни моей не имел несчастья видеть когда-нибудь, чтобы кто-нибудь обращался с лошадью так жестоко, как вы. Отдаваясь вспыльчивости, вы приносите вред себе самому гораздо больший, нежели лошади. Помните, что мы будем отвечать за каждый поступок наш с человеком ли, со зверем ли – все равно!
Потом мы шагом поехали домой. Я слышал по голосу хозяина, как его огорчило только что случившееся происшествие.
Он одинаково свободно выражал свои мнения всем людям. Вскоре после случая с фермером Сойером мы набрели во время утренней прогулки на капитана Ланглея, хорошего знакомого нашего хозяина. Он ехал на паре чудных серых в фаэтоне. Поговорив о том о сем, капитан спросил у хозяина:
– Как вам нравятся мои новые лошади, ведь вы знаток?
Хозяин попятил меня немного назад, чтобы лучше осмотреть упряжь Ланглея.
– Необыкновенно красивая пара, – сказал он. – Если они и нравом так же хороши, то нечего желать лучшего. Но как жаль, что вы употребляете, я вижу, мундштучную узду! Ведь это только ослабляет силу лошади и мучает ее.
– Знаю, знаю, – отвечал Ланглей, – у вас решительное предубеждение против мундштука. Только, видите ли, мне нельзя иначе ездить – я люблю, чтобы лошадь высоко держала голову.
– Я тоже, – сказал мой хозяин, – но я не люблю, когда им насильно поднимают головы. Вот вы военный, и, конечно, вам приятно видеть свой полк в парадном строю, но что бы вы сказали, если б вашим солдатам привязали доски за спины для прямизны стана? Ужасно тяжко бывает лошадям, изуродованным мундштуками: если бы они были свободно взнузданы, они налегали бы изо всей силы на узду, и рот у них участвовал бы в труде вытягивания экипажа. Вместо этого, когда рот лошади испорчен мундштуком, ей приходится работать одними мускулами, и, конечно, она гораздо скорее устает. Поверьте мне, что лошади назначено ходить свободно, так же как и человеку. Мы много выиграли бы, если б жили по здравому смыслу, а не по моде. Кроме всего, что я сказал, надо еще заметить, что строго взнузданная лошадь гораздо беспомощнее, если ей случится споткнуться. Однако будет… я изрядно проехался на любимом коньке, не хотите ли и вы, капитан, оседлать его для себя? Ваш пример имел бы большое влияние.
– Я думаю, что вы, собственно, правы, – отвечал Ланглей, – я подумаю хорошенько о том, что вы сказали.
Мы разъехались каждый в свою сторону.
XII. Бурный день
Случилось мне поздней осенью везти хозяина в легкой тележке довольно далеко, по делу. Джон правил. Я любил возить эту тележку – колеса так скоро и плавно катились по дороге. Последнее время шли частые дожди; в этот день дул сильный ветер, взрывавший кучи сухих листьев. Мы очень хорошо доехали до заставы подле низкого деревянного моста. Берега реки были высокие, а мост шел ровно, так что в большую воду его заливало посередине, но так как перила моста были крепкие, то люди не боялись проезжать здесь во всякую погоду. Сторож у заставы сказал, что вода сильно поднимается и что, пожалуй, переезд будет плохой к вечеру.
Низины по дороге были уже под водою, которая доходила мне до колен, но грунт был твердый, и я ступал без страха. Когда мы доехали до города, мне задали славного корма, но дела надолго задержали хозяина, и мы могли выехать обратно только поздно, уже к вечеру. Ветер усилился; хозяин сказал Джону, что ему еще не случалось ехать в такую бурю. Я то же самое подумал, двигаясь по опушке леса, где большие ветки раскачивались, как самые легкие веточки. Шум был ужасный.
– Хотелось бы мне скорее благополучно выбраться из этого леса, – сказал хозяин Джону.
– Да, сударь, не очень-то хорошо будет, если один из этих больших сучьев упадет на нас.
Только что он произнес эти слова, как послышался стон, треск и шум падающего дерева: дуб, вырвавшийся с корнем, давя деревья и кусты на пути, свалился на дорогу немного впереди нас. Не скажу, что я не испугался. Я остановился и, кажется, весь затрясся, но, конечно, мне не пришло в голову повернуть назад и понести – таких вещей со мной не случалось, я не так был воспитан.
– Вот близка-то была беда! – сказал хозяин. – Что ж нам теперь делать?
– Через дерево нельзя ехать, – сказал Джон, – и кругом негде его объехать. Придется вернуться к перекрестку. Миль шесть будет крюка до деревянного моста. Мы запоздаем домой, но лошадь не устала.
Итак, мы поехали назад; когда же мы доехали до деревянного моста, почти стемнело; можно было только разглядеть, что середина моста была под водою. Но то же самое случалось и раньше, поэтому хозяин не остановился и поехал на мост. Я бежал хорошей рысью, но чуть только ноги мои коснулись моста, как я почувствовал что-то неладное и встал как вкопанный.
– Вперед, Красавчик! – сказал хозяин и слегка тронул меня кнутом, но я не смел двинуться.
Тогда он ударил сильнее, я привскочил, но не пошел вперед.
– Знаете, сударь, – сказал Джон, – видно, что-нибудь да неладно.
Он выпрыгнул из тележки, подошел ко мне и посмотрел кругом. Он взял меня за уздцы и хотел провести, но я упирался.
– Да что с тобой, Красавчик? – спросил он.
Я не мог объяснить ему, что я чуял опасность на мосту.
В эту минуту на другой стороне показался сторож с фонарем. Он махал им как сумасшедший.
– Гей, гей! Послушайте! Остановитесь! – закричал он.
– Что случилось? – крикнул хозяин.
– Мост сломан посередине, часть его унесена; если вы поедете, будете в реке.
– Слава Богу! – сказал хозяин.
Джон взял меня за уздечку и повернул на дорогу, шедшую направо по берегу реки.
– Ай да Красавчик! – сказал он и потрепал меня по плечу.
Солнце село; буря, выворотившая дуб на дороге, стихла наконец. На дворе сумерки сгущались и делалось все тише. Я бежал потихоньку, и колеса тележки мягко, почти бесшумно катились по дороге.
Мы ехали некоторое время в полном молчании; потом хозяин заговорил с Джоном. Я не все понимал, о чем они говорили, но одно я понял: они предполагали, что, если б я послушался хозяина, мы все упали бы в реку и, верно, утонули бы, потому что дожди подняли воду и течение было сильное. Хозяин сказал, что Бог дал людям разум, которым они могут распознавать вещи, но звери получили чутье, инстинкт, дающий им возможность угадывать многое, и благодаря этому качеству им не раз удавалось спасать жизнь людям. Джон рассказал при этом много случаев из жизни лошадей и собак и сказал, что человек не довольно умеет ценить дружбу и расположение к себе зверей. Я подумал, что Джон-то уж во всяком случае заслужил вполне нашу дружбу.
Наконец мы подъехали к воротам парка. Садовник ожидал нас. Он сказал нам, что хозяйка страшно беспокоилась с тех пор, как стемнело. Она боялась, что с нами случилось несчастье, и послала на Судье узнать о нас в сторожке подле моста.
В передней и в верхних окнах горели огни. Когда подъехали к крыльцу, хозяйка выбежала к нам.
– Ничего не случилось с тобой, друг мой? – спросила она. – Я так беспокоилась, надумала всевозможных бед.
– Все обошлось благополучно, моя милая, – отвечал хозяин. – Но могло бы быть иначе, если б твой Черный Красавчик не оказался мудрее нас. Мы могли провалиться на мосту.
Больше я ничего не слышал, так как Джон повел меня в конюшню. Какой у меня был вкусный ужин! Похлебка из отрубей с овсом и мятыми бобами! После ужина Джемс принес мне славную мягкую подстилку из свежей соломы. Я был ей очень рад, потому что сильно утомился.



