
Антология
Голоса в лабиринте
Двор – блеклый, длинный, обнесен забором, слева в конце его – тоже дощатый сарай и рядом – старая лодка. Но здесь, действительно, нет шума зала. Ноги устали, и хочется где-то присесть, но на ступенях из кухни нечисто. Двор чуть спускается к озеру… – и там, в конце, в стене забора – калитка. Гравий скрипит под ногой и ломает ступни через подошвы ботинок – кажется, что в спину выстрелят, и, в самом деле – рядом с калиткою, слева – мишень из бумаги вся в рваных ранах от пуль, и на заборе есть отщепы, дырки – значит, гостей забавляли стрельбою. Я открываю калитку – уже хорошо, вдалеке озеро, а по сухой пожелтевшей траве волнами катится ветер. Шаг на тропу – я вовне, и вожделенное – возле забора скамейка. Но – если сесть за спиной будут дыры от пуль, вот только крови не видно – или же я буду первым у них, или стреляют в затылок. Сидеть почти расхотелось, но я присел – слишком все надоело.
Тропа шла к озеру – метров пятьсот, а по бокам от нее, вероятно – болото. Если свернуть с нее к соснам, то через сорок минут можно выйти к поселку, там должна быть электричка. Туфли, конечно, промокнут – угроблю, но, еще хуже – испорчу костюм, светлые брюки потом все будут в грязных разводах. Я сделал пару шагов по хрустящей траве… – ну тут еще интересней – ржавые, черные слои «колючки» в траве, вросшие в землю с войны – кто-то здесь оборонялся. Я так и вижу – лежу с пулеметом в траве, и гимнастерка на пузе промокла – сейчас они подойдут по прямой, а, может быть, выйдут справа. И тогда кину гранату. Но сзади выстрел в меня, и, значит, нужно ползти – нужно прижаться к забору… Я снова сел на скамью, навалился на доски, стал весь песчаной скульптурой. Все напряженья лица не мои и отвратительно чужды. Во мне обрывки от прошлого – бродят, они – как линии, они живые. Здесь уходить бесполезно. Мимо лица пролетают листы, и все – формат А4…
Я разбирал в воскресенье бумаги – три моих толстых бесформенных папки. И мне попались рисунки – еще лет десять назад я хотел сделать мозаику из мраморов и рисовал к ней наброски. Месяц тогда просидел за столом, мы даже съездили с ним в то кафе, но этот кадр, что заказ обещал, больше и не появился, у них такое не редкость. Листов – штук десять, все пожелтевшие, словно вобравшие грязь этих лет – и в руки взять неприятно. Все карандашные линии почти слились – где с мутным фоном, где между собой – что-то увидеть теперь было сложно. Вот если б я сделал все это в камне – мало того, что оно было бы в палево-мягких цветах мраморов, эти цвета б не тускнели.
Первым попался мне лист с головой – лицо, проросшее стеблями – через глаза, через уши и рот, и через темя, конечно. Лист – человек целиком – тело, проросшее всюду. Тоже, конечно, лишь в карандаше, но для себя я видел все это в цвете – красном, зеленом, бордовом, как, я считаю, и есть, в самом деле – через все центры оттенков сознанья и чувств с их назначеньем по жизни. Сердце и пах, и желудок… – у каждой области тела есть свое стремленье, что можно выразить цветом. Через все – стебли и щупальца одновременно – полупрозрачные реки и страны, где, как бактерии, кто-то живет, движется, дышит, смеется. Или то змеи, а может быть, пламя – как будто женские пальцы, они сиреневы, как аметист, и так же почти прозрачны (на них, как капли на кольцах – камни различного цвета). Когда ты смотришь на все их глазами – они огромны, в размер человека, ну а ты сам – полутень. Они имеют свои сроки жизни. Все это переплетается, тонет – одно в другом и в окружающем странном пространстве. Что-то вползает вовнутрь, а что-то рвется наружу – хочет найти продолженье себя или пищу. Но оно делает все для себя и никогда для другого. От человека осталось немного – только обрывки от малых пространств, куда те стебли не шли – вот пустота за скулой, вот – как пятно что-то возле затылка. Где-то внутри в глубине островок, где горит слабая свечка, кто-то оттуда выходит – длинная тень легла на пол. Эти участки везде бесполезны, и потому оседает в них горе, сам человек их не любит. Может быть, что он притом на кресте, и с него смотрит на прочих таких же. Может быть, бабочка возле ноги – среди травы и цветов ищет лишь ей нужный запах. На ее крыльях узоры. По краям крыльев у бабочки – профили лиц – взгляды обоих, мужчины и женщины, почти пусты, так как внимание их ушло назад, чтобы там видеть друг друга. Но она скоро засохнет…
Чуть мрачновато по смыслу, но было б красиво, и оказалось ненужным. Потом зашел в то кафе – маслом написан был заяц с морквой – так они видят их стену. Ну и дешевле, конечно.
Вокруг прозрачные разные лица, при этом все они – я. Они себе заполняют все цветом и светом, но этот цвет – акварель на бумаге, а свет – пугающе-душный…
Чем глубже сон, тем больше кажется, что он – реальность. Прошло всего, может быть, полчаса – они, наверное, поев горячего, наконец, вышли на воздух. Сзади раздался пугающий гром – я втянул голову в плечи. Но, нет, они не стреляли… Еще удар, и опять по мозгам – крик, улюлюканье, визги. Я уже понял, привстал, посмотрел – у них салют, фейерверки. Снова удар об удар – снова грохот, им не живется спокойно. На их масштабе все ярко блестит, на моем – блестки на сером. Я на какой-то границе. Область большой тишины много шире. Серость, как будто открытая дверь, но мало кто это знает. Вокруг сухая трава, и мой костюм ей под цвет, и только черной футболкой под ним я от травы отличаюсь. И цвет стены ресторана такой же, и, как зрачки, так же – окна. Над гривкой леса вдали серое совсем сгустилось – там, видно, чуть моросит, но, все же, дождь уйдет вправо. Блеклое желтое в сером.
Десятилетия – просто дыра, место падения в странность. Медленно, почти застыло. Себеподобно и однообразно. Множества чисто формальны – все в них похоже. Да и они размываются, если вглядеться – они становятся частью иных и там теряют значенье. И так – пока все сольется, а это слитное – точка. Так вроде бы очевидно, но только это сознание требует чуть-чуть усилий, если без них – наползает чужое.
Как будто бы перед мембраной и после нее все, и давленье, сравнялось. И можно вывернуть, кто я – я-пустота, это всюду. Все, будто в формуле, в этом. «Есть» лишь «три нет». Нет «моих» мыслей, что есть – не мои, просто они идут мимо. Нету и слов, и, может быть, я говорить разучился, ведь говорить больше не о чем, не с кем. И нет желаний, совсем – все теперь неинтересно. Меня ничто не цепляет. Все в равной степени просто. Что это – уже маразм, или еще все же взрослость? Но, правда, есть отношенья – так все явленья, людей я стал теперь видеть четче, причем почти без иллюзий.
7. Река и кошка
Я не все помню – как оказался сейчас на реке, или откуда я знаю, как это выглядит все с вертолета – сверху все смотрится малость иначе – вода, к примеру, похожа на серый металл – блеск режет зренье. Памяти нет, она где-то внутри – слабо шуршит, что-то хочет, но ей никак не пройти через толщу меня, как не подняться песку на поверхность. Я почему-то не вижу, на чем я плыву, да и при том не пытаюсь. Вода настолько прозрачна, что мне видно дно, хотя, я знаю, его не достанешь. Я иногда смотрю вниз, кажется, что я увижу на дне города́, но вместо них только галька. Можно набрать в ладонь воду, но все равно утекает. Это большая долина, кругом острова – плоские, в зарослях ив и черемух. На середину я плыть не хочу – меня от берега и не уносит. Мое плавсредство порой развернет, только назад я смотреть не люблю, и тогда гляжу на небо – на облака и на ветер, но только кожа его не ощущает. Не ощущает она и тепла от бледно-желтого солнца. Потом опять развернет меня вперед лицом – но горизонт слишком близок. Потом возникли и скалы, как будто это дома, вдруг встали сбоку.
Все-таки тучи пришли и сюда – я наблюдал глухой фронт, наползавший с востока – он гасил небо. Я или двигаюсь, или застыл в темном тоннеле пространства. В зарослях по берегам стали теперь появляться и сосны. На галечной косе я вышел. Вода текла, ну а воздух стоял, и шорох камешков из-под сапог как будто бы зависал в нем. Я втащил лодку на берег и пошел к деревьям – пришлось взобраться наверх, на обрывистый склон через высокие стебли крапивы. Здесь, на поляне, трава была низкой, и стало видно дорогу на холм под навес веток. Стоило только войти в этот странный проход, как стало тесно и душно – зелень меня обступила, накрыла. Хотя дорога-аллея была и красивой, но идти вверх не хотелось – там дальше будут поля и леса, будут другие дороги – ну а дрова можно набрать и здесь. Однако стоило только войти вглубь, в кусты, оттуда выскочил крупный баран, весь грязно-серый и толстый, и, закричав, припустил вправо в лес – я проводил его взглядом. В каждом есть доля безумия, есть и во мне – я извернулся, поймал сам свой хвост, и он виляет моей головою – и я бы даже его отпустил, но не хочу чтобы стало как прежде. Костер пришлось пару раз раздувать, только потом можно было сидеть и глядеть, как закипает вода, и шевелить в огне палкой.
Вот прилетела прелестная птичка и села на баллон лодки, пришлось махнуть, чтоб она улетала, чтоб не смывать потом белых подтеков. Вода вскипела, я съел Доширак и обнаружил, что почти стемнело. Костер лежал возле ног почти белый от пепла – сумерки, все наползая, давили, и он почти уже сдался. Туман скользил по реке, поднимался наверх, но, не достигнув и метра, он таял.
Под черной тучей стемнело. Туча имела свою глубину из темно-серого с синим свечений. И, неожиданно, в ней заиграли зарницы. Вот внутри черного у горизонта все вдруг окрасилось белым, потом сиренево-красным – где-то мучительно ярко, а где-то, – почти пастельно. Ни звука грома, одна тишина – как будто все онемело. И снова – синяя вспышка, переходящая вдруг в анемично-лиловый. Будто эмоции – кажется, я их испытывал в жизни. Как будто звук, что-то тихо гудящее рядом, или же наоборот – как будто бы тишина где-то стала совсем уже плотной. Я сунул руку в рюкзак и, отщипнув кусок хлеба, бросил его метра на три. Тишина чуть изменилась, ну а «явленье народу» возникло минут через пять – кто-то, по-моему крыска, выйдя из ночи, приблизился к хлебу. Светлое пятнышко хлеба исчезло за слабым шорохом гальки. Пора плыть в озеро, дальше – там, если сделать ошибку, уже до берега не доплывешь, и даже до дна – «дыхалки не хватит».
Ну и зачем я подумал… Я поднимаюсь и делаю три слабых шага, чтобы отдернуть к углам обе шторы. Мир облепил меня со всех сторон. Белая кошка сидит около двух подоконных лимонов, среди белесости света, она не хочет, чтоб я ее гладил сейчас, и очень слабо кусает, только потом уже смотрит. Глаза алмазно-наивны. И один глаз – голубой, с треугольным зрачком, другой – с растянутым вверх, бледно-желтый. (Просто «Анютины глазки»; что ж то была за Анюта?) Что она видит при том – не понять, оптика совсем иная. И подлетает на форточку, чтоб погулять перед марлей в прохладе. А за окном возле дерева ходит ворона… Ну не люблю я собачек с их местечковым подходом. Все кошки – ангелы, точно. Она всегда уважает меня, и, значит, я уважаю ту кошку. Я отхожу от окна и сажусь в ставшее видимым кресло. Пока от кофе извилины не распрямились, что-то внутри копошится – о всем вчерашне-сегодняшнем-завтра. И кошка тоже пришла, как будто тряпка легла на колено.
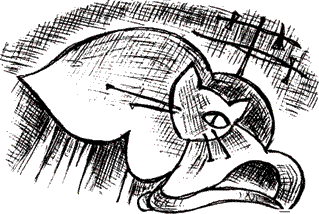
Амид Ларби
г. Монпелье (Франция)

Журналист и поэт, родился в Алжире. Член Европейской академии наук, искусств и литературы (ЕАНИЛ). Автор литературных эссе и поэтических сборников, которые переведены на испанский, итальянский и русский языки. Лауреат премии журналистской ассоциации Милана Giornalistà Estera (1995). Победитель Международного конкурса поэзии L’Amour de la liberté.
Стихи переведены с французского Анной Залевской.
Из интервью с автором:
Поэзия исходит из глубин человеческой души и стремится согреть нашу реальность, привнести в нее лирику. Магия слов похожа на проблески рассвета, скользящие по морской глади, на которой качается лодка, окутанная сплетением ароматов, бегущих от романтики до экстаза…
* * *
Тишина
И дерево
В дымке
Мгновенье застыло на взлете
Бархат поля открылся
Для ретуши алой заре
И проблеску солнца
Под сенью небесной
Камень застыл бессловесно
Терзает безмолвия бездна
И дремота рассвета
Их тишь я собрал для тебя
Забирай ее
В знойный рай
Рук своих
Я с тобой в тишине
В ней одной
Нежный шепот
И робость желанья
Без пафосных слов
Тишину заполняет восторг
Замирает душа
Дрожью каждой струны, чуть дыша.
* * *
Мой рай будоражит
Сияние
Лика, что ум не осилит,
А глаз не увидит
Жажда жизни
Вернула мне голос
Насытив слова
Пришедшим с утра озареньем
Время играет в сложение
Жизней, вёсны ушли
Но душу питает надежда
Дни будут светлы
Злу нет места.
* * *
Я в смятеньи
Всюду низость
Сознание зашло в тупик
Реальность сбилась
В мрачный крик
Что будет завтра? Неизвестно
Сбежала мудрость
В темный мир
Где шизофреник – командир
Где заблужденье – норма
Клад знаний в мелочь обратив
Утратив ориентиры
Канон, величие души
Зачахли – больше не нужны
И только древняя маслина —
Мерцающий мосток
Соединяет Запад и Восток
* * *
Тоска дрожащей нитью…
Жизнь потревожена
Обрывком мысли
С собой бы совладать
Подметить, различить и разгадать
Не цепенеть под взглядом
Придумывать, изобретать
Сорваться за пределы
Почувствовать тепло несмелой
Руки у своего лица
Но больше нет желанья
Вновь пустыня
На горизонте пустота
И ветер стынет.
* * *
Одно слово —
И человек говорит
Одно слово —
И человек молчит
Хотя слово
Говорить не умеет
Слово молчать не умеет
Вот бы очистить прошлое
Когда люди человеческий облик теряли
Вот бы очистить нынешность
О будущем и прошлом люди…
…забывают
Когда мы начнем говорить
Помня – не сегодня единым нам жить?
* * *
Не будь это столь нелепо
За пределами всё и вся
Чудесно
Бесконечно долгое эхо
Ввысь прямая стезя
В Абсолют
Не будь это столь нелепо
Не нужно огонь зажигать —
Ему бы навек воспылать
А судьбе застыть навеки
Не будь это столь нелепо
Пусть будет начало всего
Но и тогда пустое ничто
Оставаясь предметом сомнений
Порхая в пространстве
Сумеет пробраться
Сквозь завтрашний день.
* * *
Мои иллюзии эскизны
Чистейшие мелодии немы
Как будто облака обнажены
Бегу от настоящего
Ни слова никому о том, где я
Мне напросилась желчь в друзья
Изранен разум, тело неприкаяно
И всюду вакуум, обет молчания
Смятение проявится под утро, позже
От осознания, что пусто ложе
Призывом зазвучат стихи —
Попутчики
Рутины дней моих
В пустыне из сомнений
Чтоб сделать муки драгоценные мои
Приятным времяпровожденьем.
* * *
Уходили мысли, ускользали
Полусомкнуты веки
Их укрывали
Нежностью грудь наполняя
Вздох извечной надежды из нее вырывая
Свет освещал
Грустный взгляд
С лица словно маску сорвали
Я чувствовал легкий озноб
Будто в ступоре вязком
В моменты тревог тишина
Меня под защиту брала
Утоляя печали
Уступая место
Мечтам.
* * *
Я шагаю вдоль берега
Ветер, ненастье – неважно
Я шагаю вдоль памяти
Распрощавшейся с властью
Тревожно Средиземное море
Ветер коллизий и милости
Отголоски сказаний
Историй, безумий
Средиземноморья
Герои и схватки
Нации, фракции
Цивилизации
Средь океанов, морей
Многоликое море
Страстных стихов
И культур колыбель
О нас его сны
Иллюзии, думы, мечты…
* * *
Я чувствую нежность
Заката на острых волнах
Разума дерзость
В сумерках ярче. Видна
Мне вселенная моря
Вся без утаек, как на ладони
Момент ускользает
Сквозь тишину
В легкого блюза неволю
В исполнении дивного моря
И далекой земли.
Распевом слова
В гармонии, неге дрожат
Закатным лучом на парус сошла
Арабеска
Мистралем подхвачена дерзко.
* * *
Я убегаю
В закоулки памяти
В мгновений ярких свет
Где актуально прошлое
Где будущего нет
Где карты настоящего
Разложены едва,
Трамбует время годы
Побеги сумасбродные
Сводя меня с ума
* * *
Неземной поцелуй
Пленительный мощный
Ток
Облаков очертанья
Присевших на райский чертог
Грациозность и легкость
Капризность и вздох
Возмущения, что испарится
Неземной поцелуй
Пленительный мощный
Ток
Облаков очертанья
Присевших на райский чертог
Грациозность и легкость
Капризность и вздох
Возмущения, что испарится
Роман, как сладостный дым
Но жажда любви утолится
Поцелуем другим.
* * *
Душевная тонкость
В чувственность
Прорастает
Пленяет
Пламенный трепет
Слов не осталось – афазия
Перед лицом эпатажа – апатия
В жажде любви отказано
Судьба – предсказана
Иллюзиям вход воспрещен
В эту страсть запретную
Безрассудную
Безответную
Иллюзорную
Непритворную
* * *
Волна на скорости
Разум в бодрости
И существо без тени
В аллегоричное время
Идеально созвучие случая
На перепутье фонем
Я иду по наитию
Оголенной вселенной
Лишенной одежды
И слов.
* * *
Сладко звучит афоризм —
Отшлифованы грани
В изможденье язык
С дилетантством на поле брани
Утратила мысль инстинкт
И трансцендент умозрений
Грядет новый цикл
И отрезвление
Евгений Скрипин
г. Барнаул

Автор книг: «Опыт неудач», «Рожки дьявола», «Поэты без иллюзий». Родился в Джезказгане (Казахстан). Образование – Алтайский государственный университет, филология. Работал в краевых и городских газетах, в двух из них – главным редактором.
Из интервью с автором:
Писать всерьез начал со знаменитого дефолта 1998 года. Не было работы, зато появилось время. Написал роман «Джизнь Турубарова». С тех пор мои личные удачи напрямую связаны с экономическими кризисами. Все разговоры о том, что читатели в России кончились, считаю глупостью. Просто надо писать хорошо, меньше бояться, и люди к тебе потянутся.
Не раб
Я – Бог, каждое утро я давлю на клавишу «Создать». Блаженство писать несколько часов подряд, и еще большее блаженство перечесть потом несколько раз. Каким же веселым и довольным должен быть Господь, глядя сверху на нашу мешанину!
Я пил четвертый стакан кофе, когда с кухни сквозь стекло балконной двери мне помахала еще не вполне одетая жена. Была суббота, в субботу она вставала поздно. Скоро на кухне загремели сковородки. Дом оживал и наполнялся смыслом. Запах блинов проникал на балкон и вытеснял и обесценивал мои смыслы.
Начавшаяся запахом блинов суббота неожиданно продолжилась звонком на мой мобильный. Мне уже давно никто не звонит, с тех пор как я потерял работу. Звоню я, и тоже редко, только по делу, в поисках работы, потому что на мобильном почти никогда нет денег.
– Так ты идешь, или нет? – сказал голос в трубке, я узнал по голосу Федора и вспомнил, что я обещал сегодня поехать с Федором на кладбище. Я посмотрел через стекло на кухню. Вероятно, у жены имелись свои планы на мою субботу.
– Чё молчишь? – сказал голос.
Я молчал, потому что не успел придумать отговорки. Ехать на кладбище мне было неохота.
– Это… – сказал я. – Я еще не знаю.
– Ну, смотри, – буднично сказал Федор. Я думал, будет уговаривать поехать. Но он не стал уговаривать. – Звони, если что. Я буду там.
Мне стало стыдно перед будничным Федором. Видимо, никто из собиравшихся поехать не поехал.
– Ты там один, что ли? – сказал я.
– Да.
– Галкина же точно обещала?!
– Говорит, дежурство.
– Ясно. Если что, я позвоню.
– Звони.
Я не спросил у Федора, как ехать на кладбище, и он, конечно, понял, что я тоже не поеду. Сволочь Галкина…
Жена неожиданно легко согласилась, что мне надо съездить. Забыл сказать, сказал я, что обещал съездить. Помнишь же Дашкина? Здоровый такой, из отдела писем.
Я набрал Федора. Спросил, как ехать, на какое кладбище. Федор заметно оживился:
– Сядешь на вокзале. Доедешь до Власихинского кладбища. Я тебя встречу у часовни, это в центре.
Я не знал, как правильно поставить ударение в названии кладбища (в трубке оно звучало как-то без акцента) и рассчитывал, что знающие люди меня, если что, поправят.
Народ-языкотворец отвечал и так, и этак. Как проехать на Вла́сихинское кладбище, спрашивал я у группы мужиков на остановке. «На Власи́хинское?» – переспрашивали меня. На Власи́хинское, говорил я в другой группе, бабушке и внучкам. «На Вла́сихинское…», – говорила бабушка и задумывалась. Побегав по привокзальной площади, я все-таки вышел к нужной остановке, она оказалась на проспекте.
Желтенький автобус привез меня к кладбищу. Это было старое кладбище в черте города, здесь давно не хоронили, только выдающихся людей и родственников ранее похороненных. Как обычно на кладбище, здесь было солнечно и грустно. С фотографий на постаментах, начинавшихся от самых ворот, равнодушно смотрели покойники. Солнце на кладбищах всегда усталое, как будто иссякающее, бабушкино. Не как в городе. Я пошел по аллее к кирпичной часовне, крест которой и луковка сияли на солнце.
У часовни ко мне подошла русская старушка, прошамкала что-то, профессионально, как цыганка. Я отдал ей мелочь. Жена дала денег на дорогу, туда и обратно, но в автобусе с меня неожиданно взяли не десять, а тринадцать рублей, и оставшихся все равно бы ни на что не хватило. Старушка меня перекрестила.
В ожидании Федора я походил, не удаляясь от часовни, вдоль могил. Здесь, в центре, хоронили самых выдающихся людей. «Заместитель председателя облисполкома» прочитал я. Из зеленого гранита выступала суконная морда бюрократа. Поражал размер мемориала. Это было ненормально.
Из боковой аллеи вышел Федор, пожал руку. «Заглянул к отцу, – сказал он. – Он тут рядом». «Власи́хинское или Вла́сихинское?» – сказал я. Федор пожал плечами, ему это было безразлично.
Маленький, похожий на еврея Хохол Федор продирался по заросшим репьем и кустарником дорожкам. Чуть в сторону от центра кладбище казалось полностью заброшенным. Ограды покосились, почернели, кресты завалились, внутри на могилах стоял в пояс выросший бурьян. Тропинки, по которым мы двигались в сторону могилы Дашкина, перегораживали сети старой паутины. Федор в итоге заблудился, но, покружив, все же вышел к цели.
Дашкин умер от рака. Это был здоровый, похожий на бывшего боксера или тяжелоатлета сорокапятилетний мужчина. У него была жена актриса. Много ли вы знаете мужчин, жены которых играют в театре? А мы работали рядом с ним, похожим на штангиста, на Юрия Власова какого-то – такой же хряк и интеллектуал. В очках на мощной голове.
Он очень не любил давать взаймы и никогда не давал закурить. Не из жадности, а из презрения к нам, джентльменам в поиске десятки. Когда он внезапно заболел и прошел курс химиотерапии, я не узнал его, ковыряющего ключом в скважине замка своего кабинета, и только по голосу определил, кто он. «Заходи», – распахнул он дверь. Он неплохо ко мне относился, выделял, как мне казалось, из других. Высохший, как мумия, и все же водянистый, он сел на стул и бросил на стол пачку сигарет: «Закуривай, чего!»
– Здравствуй, Сергеич, – сказал Федор. Я не очень понимал заботу Федора о Дашкине, не такими уж они были друзьями. У штангиста не было друзей. Его друзьями, как у его тезки Пушкина, похоже, были книги. Его огромную библиотеку, которую он никому не показывал, мы увидали только на поминках. (Странно, что я не запомнил жену Дашкина, актрису, а ведь должен быть запомнить!)
– А где сейчас его жена? – сказал я.
– В Ленинграде. Там есть специальный дом для престарелых. Богадельня для нищих актеров.
Мы были как бы три поколения, с разницей в 10–15 лет. Я посмотрел на дату дашкинского дня рождения. Выходило, что ему сейчас было бы семьдесят. Старик. Наша задача была – выкрасить железную ограду.
Краска оказалась жидкой, Хохол Федор явно сэкономил. Я подумал, что придется красить на два раза. Мы бы долго терли кисточками ржавое железо, если бы мне не пришло в голову, что краску в банке следует элементарно размешать. Хреновые мы были с Федором работники.
Дело заспорилось. Разлив краску по банкам, мы с Федором пошли периметром оградки, изредка поглядывая друг на друга. Что-то вроде соревнования, кто гуще, кто быстрее.
Разговор наш был необязательным, мы лениво перекидывались фразами, а между ними были целые периоды молчания. В один из таких периодов я подумал, что, может быть, я сейчас проживаю свой лучший период в жизни. Как знать? За время безработицы я создал несколько рассказов, повесть, дописал роман.
Другое дело, что эта моя работа была для себя, то есть она не приносила денег, и было ясно, не могла их принести. Всего понятнее это было моим родным. Через полгода они стали смотреть на меня как на больного. Которого, конечно, жаль, но – сколько можно! Шутки мои уже не проходили, юмор им казался неуместным.
То же я мог прочесть в глазах знакомых, уцелевших на своих работах. А мне казалось, это я их должен пожалеть.
– Как у тебя с работой? – сказал Федор, словно подсмотревший мои мысли.
Я вяло махнул. Он прекрасно знал, как у меня с работой. Пару недель назад сорвалась как будто уже обещанная мне железная работа. Я уже разговаривал с директором организации, которой пофиг был мировой кризис. Но что-то опять не срослось. Я занервничал, названивал в контору, пока не надоел директору, и он указал мне мое место. «Вам позвонят, – сказал он, – при любом решении вопроса. У вас появились конкуренты». Черт с ней, с работой, решил я. Я – Бог…
Начало припекать. Федор снял кепку, обнажив хохол. За этот хохол его и звали Хохлом, а не за принадлежность к украинской нации. Мы чуть не поссорились недавно, старые приятели, когда зашла речь о Хохле, который слег в больницу, и мы собирались его навестить. Генка, один из нас, сказал, что он слышать не хочет о Хохле, с которым он не сядет на одном гектаре.
– Не знаю, – сказал Николай, старший из нас. – Кто-то где-то что-то сказал… Хочешь об этом разговаривать – валяй, но без меня.
Интересно было посмотреть на нас со стороны. Объективно все мы были уже старые (хуже – мы были пожилые). Кое-кто был седой, кое-кто – лысый. Не говоря о странгуляционных линиях на шеях. Впрочем, если смотреть не объективно, не со стороны, легко было в каждом из нас узнать мальчишку из того мальчишника конца восьмидесятых, который собрал перед свадьбой Николай.
На другой день мы с ним поехали к Хохлу.
– …Сын его тоже в Ленинграде, – сказал Федор.
Он уже дважды назвал Санкт-Петербург Ленинградом, очевидно не задумываясь. Не придавая этому значения.
– Это который сын? – сказал я. – Тот, про которого он говорил, что – одна судорога, а потом восемнадцать лет приходится платить?
Хохол отложил кисточку. Пошарил в сумке и выставил водку, неправдоподобно маленькую емкость.
– Нет, он говорил не так, – сказал Хохол. – Пять секунд удовольствия, а платишь восемнадцать лет.
Докрасив, с легким сердцем, будто выполнив ненужную, но важную работу, двинули на выход с кладбища. Решено было еще выпить, глупо было бы еще не выпить. Скупой сначала, Федор становился расточительным потом.
Мы шли по ровной земляной дороге, мимо свалки. Свалка дымилась, ее разгребал, утюжил трактор.
– Сдохну, хоронить меня придешь? – сказал Федор.
Я, чтобы не сглазить, не стал говорить обычное, что неизвестно, кто… А вдруг – правда, подумал я. Где они, к примеру, возьмут фотографию на памятник? Уже лет десять я не делал новых снимков. На старых я был неприлично молодой. Кто, вообще, возьмется хоронить, если я безработный, человек без организации?
Скоро мы шли обратно к кладбищу. Другого места, где можно спокойно выпить, не нашлось.
Федор привел меня к дыре в заборе. Мы расположились на лужайке, как бы еще не на кладбище, а рядом. Место, закрытое от чужих глаз кустарником, явно было насиженным, вокруг валялись пустые бутылки и пакеты. Я бы не удивился, обнаружив в траве и презервативы.
Выходило, что Хохлу сейчас хуже, чем мне. Я еще мог найти работу, он уже не мог. Разговор вертелся вокруг поисков работы. Хохол плохо старел. От энергичного, тридцатилетней давности Хохла в нем не осталось ничего.
Федор дал денег на автобус и ушел вглубь кладбища. Я пошел к остановочному павильону.
Остановка была сверху донизу расписана матерной бранью и изображениями гениталий.
Мне вспомнился Гоген. (Или Ван Гог? Это всегда как будто один человек. Нет, все-таки Гоген. Ван Гог – это который ухо, Гоген – Океания, туземцы.) Великий и ужасный Поль. А не уехай он на Острова? Так бы и умер жалким воскресным художником, ничтожным клерком.
Я завернул за угол павильона и с размаху выбросил в бурьян пакет с остатками хлеба и колбасы. Ну его, Вла́сихинское (или все-таки Власи́хинское?) кладбище.
Через день, рано утром в понедельник, зазвонил мобильный, и мне предложили срочно, через час явиться на работу.
– Если вы, конечно, не раздумали, – сказал директор.
Через полтора часа я бегал по забитым людьми коридорам поликлиники и собирал справки, подтверждающие мою полноценность. А вечером того же понедельника ехал в купе скорого поезда в большой промышленный сибирский город, где находилось головное учреждение организации. Во вторник в головной конторе начинался семинар для вот таких, как я.
Если вы думаете, что я тут ловко подверстал под свой рассказ мораль (поездка через не хочу на кладбище, мелочь старушке… Есть Бог! и Он все видит), то это не так. Во-первых, все, о чем я рассказал – чистая правда, ничего я не подверстывал.
А во-вторых…
Утром в больничном коридоре, дожидаясь очереди к окулисту, я обратил внимание на карточку, которую мне выдали внизу, в регистратуре. На титульной странице, крупно, было выведено шариковой ручкой в строке, следующей сразу за фамилией: НЕ РАБ. Новую карточку мне оформляли, когда я пришел сюда с простудой, безработным, с полисом, полученным на бирже.
Надпись безнадежно устарела. С понедельника я уже был на службе. РАБ. При чем тут Бог?


