
Антон Чехов
Степь. Избранное
© ООО ТД «Белый город», 2019
* * *
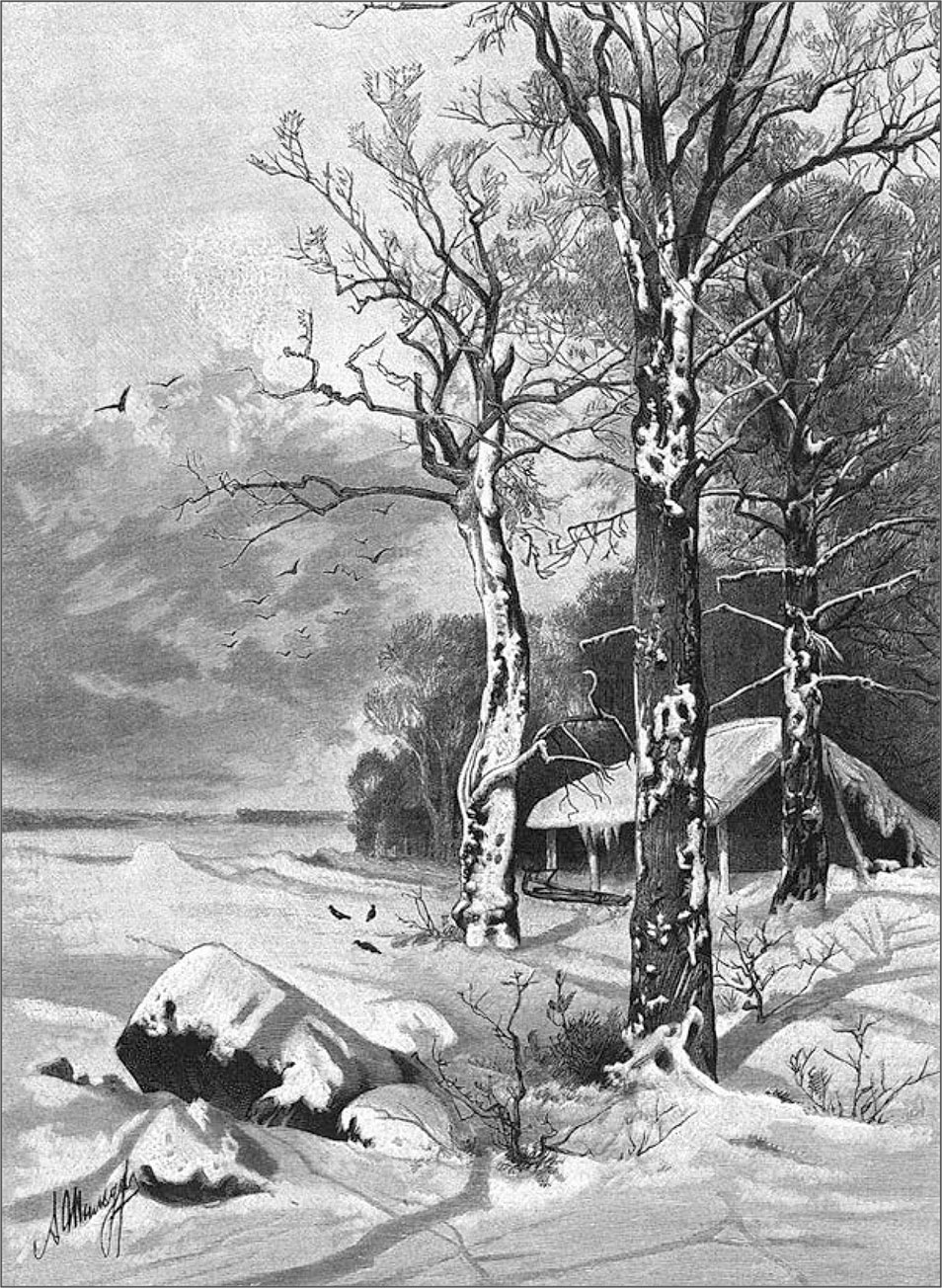
Скверная история
(Нечто романообразное)
Дело завязалось еще зимой.
Был бал. Гремела музыка, горели люстры, не унывали кавалеры и наслаждались жизнью барышни. В залах были танцы, в кабинетах картеж, в буфете выпивка, в читальне отчаянные объяснения в любви.
Леля Асловская, кругленькая, розовенькая блондинка, с большими голубыми глазами, с длиннейшими волосами и с цифрой 26 в паспорте, назло всем, всему свету и себе, сидела особняком и злилась. Душу ее скребли кошки. Дело в том, что мужчины вели себя по отношению к ней больше чем по-свински. В последние два года в особенности поведение их было ужасное. Она заметила, что они перестали обращать на нее внимание. Они стали неохотно плясать с ней. Мало того, идет, каналья, мимо – и не посмотрит даже, как будто бы она перестала уже быть красавицей. А если и взглянет какой-нибудь нечаянно, невзначай, то взглянет не с удивлением, не платонически, а так, как глядят перед обедом на сдобный расстегай или поросенка.
А между тем в былые годы…
– И этак каждый вечер, каждый бал! – злилась Леля, кусая губы. – Я знаю, почему они не замечают меня, знаю! Они мстят! Мстят мне за то, что я их презираю! Но… но когда же наконец замуж? Разве так выйдешь замуж? Время не ждет ведь, не ждет! Негодяи вы этакие!
В описываемый вечер судьбе угодно было сжалиться над Лелей. Когда поручик Набрыдлов вместо того, чтобы плясать с нею обещанную третью кадриль, напился как стелька пьян и, проходя мимо нее, как-то глупо чмокнул губами и тем показал свое полное пренебрежение, она не вынесла… Злоба ее достигла апогея. Голубые глаза обволоклись влагой, губы задрожали. Слезы готовы были брызнуть… Чтобы не показать профанам своих слез, она отвернулась к темным вспотевшим окнам, и – о, чудный миг, это ты! – у одного из окон увидела прекрасного юношу, который не спускал с нее глаз. Юноша изображал из себя картину умилительную, колющую как раз в самое сердце. Поза его была – шик, глаза полны любви, удивления, вопросов, ответов, лицо грустное. Леля моментально ожила. Она приняла надлежащую позу и принялась за надлежащее наблюдение. Последнее показало, что юноша глядел не случайно, не так себе, а не спуская глаз, упиваясь и восхищаясь.
«Боже! – подумала Леля. – Хоть бы кто-нибудь догадался его представить! Что значит свежий мужчина! Сейчас заметил!»
Вскоре юноша завертелся, заходил по залам и начал приставать к мужчинам.
«Хочет познакомиться! Просит, чтоб представили!» – подумала, захлебываясь, Леля.
И подлинно. Минуток через десять актерик-любитель, с бритой шалопайской физиономией, внял просьбам юноши и, сильно шаркая ногами, представил его Леле. Юноша оказался «нашим», до чертиков талантливым художником Ногтевым. Ногтев – юноша лет двадцати четырех, брюнет с страстными, грузинскими глазами, с красивыми усиками и с бледными щеками. Он никогда ничего не пишет, но он художник. У него длинные волосы, эспаньолка, есть золотая палитра на часовой цепочке, золотые палитры вместо запонок, перчатки до локтей и неимоверно высокие каблуки. Малый добрый, но глупый, как гусь. Имеет благородного папашу, таковую же мамашу и богатую бабушку. Холост. Он несмело пожал Лелину руку, несмело сел и, севши, начал пожирать Лелю своими большими глазами. Заговорил он нескоро и несмело. Леля тарахтела, а он говорил только: «Да… нет… я, знаете ли…», говорил чуть дыша, отвечая невпопад и то и дело в смущении почесывая (свой, а не Лелин) левый глаз. Леля духовно аплодировала. Она порешила, что художник втюрился, и торжествовала.
На другой день после бала Леля сидела в своей комнате у окна и, торжествуя, глядела на улицу. По улице, перед ее окнами, взад и вперед блуждал Ногтев. Ногтев блуждал и запускал глазенапа на ее окна. Он глядел, точно помирать собирался: грустно, томно, нежно, огненно. На третий день – то же самое. На четвертый был дождь, и его под окнами не было (Ногтева убедил кто-то, что к его фигуре не идет зонтик). На пятый день было сделано так, что он явился в дом Лелиных родителей с визитом. Знакомство затянулось гордиевым узлом: связалось до невозможности развязать. Недели через четыре был опять бал. (Зри начало.) Ногтев стоял у дверей, опершись плечами о косяк, и пожирал Лелю глазами. Леля, желая возбудить в нем ревность, кокетничала вдали с поручиком Набрыдловым, который был пьян, но не как стелька, а так, чуть-чуть, на первом взводе.
К Ногтеву боком подошел ее papá.
– Все рисуете-с? – спросил papa. – Художеством занимаетесь?
– Да.
– Тэк-с… Хорошее дело… Дай Бог, Дай Бог… Гм… Бог талант, значит, такой послал. Тэк… У всякого свой талант…
Papá помолчал и продолжал:
– А вот вы, молодой человек, знаете ли, вот что вы сделайте, коли вы того… все рисуете. Вы весной к нам пожалуйте, в деревню. Презанимательные места там есть! Виды, я вам скажу, страсть! Рахваелю таких не доводилось рисовать. Очень рады будем. Да и дочка с вами так… сдружилась… Э-э-хме… Ммолодые люди, ммолодые люди! Хе-хе-хе…
Художник поклонился и первого мая сего года вместе со своими пожитками покатил в имение Асловских. Его пожитки состояли из ненужного ящика с красками, жилетки-пике, пустого портсигара и двух сорочек. Принят он был с объятиями самыми распростертыми. Дали в его распоряжение две комнаты, двух холуев, лошадь и все, что пожелает, лишь бы только надежды подавал. Он воспользовался своим новым положением как нельзя лучше: ужасно много ел, много пил, долго спал, восхищался природой и не отрывал глаз от Лели. Леля была больше чем счастлива. Ее он был близок, был молод, хорош, был так робок… так любил! Он был так робок, что не умел подходить к ней, а глядел на нее все больше издалека, из-за портьеры или из-за кустика. «Робкая любовь!» – думала Леля, вздыхая…
В одно прекрасное утро ее papa и Ногтев сидели в саду на скамье и беседовали. Papa прохаживался насчет прелестей семейного счастья, а Ногтев терпеливо внимал и глазами искал Лелиного торса.
– Вы у отца один сын? – спросил, между прочим, papa.
– Нет… У меня есть брат, Иван… Славный Малый! Прелесть что за человек! Вы не знакомы с ним?
– Не имею чести…
– Жаль, что вы не знакомы. Он остряк такой, знаете ли, весельчак, душа человек! Литературой занимается. Все редакции его приглашают. В «Шуте» сотрудничает. Жаль, что не знакомы. Он рад был бы познакомиться… Вот что! Хотите, я напишу, чтоб он сюда приехал А? Ей-Богу! Веселей будет!
Сердце papá от этакого предложения точно дверью прищемило, но – нечего делать! – нужно было сказать: «Очень рад!»
Ногтев подпрыгнул в знак своего хорошего расположения и немедленно написал брату приглашение.
Брат Иван не замедлил явиться. Явился он не один, а вкупе со своим другом, поручиком Набрыдловым, и огромнейшим, беззубым, старым псом Туркой. Прихватил он их с собой для того, чтобы, как он выражался, дорогой разбойники не напали и выпить было бы с кем. Им отведены были три комнаты, два холуя и одна лошадь на двоих.
– Вы, господа, – сказал Иван хозяевам, – не беспокойтесь о нас! Нам ваших беспокойств не нужно. Нам ни перин, ни соусов, ни фортепианов – ничего на нужно! А вот ежели помилосердствуете насчет пивка и водочки, ну… тогда другое дело!
Если вы вообразите себе огромнейшего тридцатилетнего мордастого малого, в парусинной блузе, с паршивенькой бородкой, опухшими глазами и с галстуком в сторону, то вы избавите меня от описания Ивана. Это был несноснейший в мире человек.
Когда он был трезв, он был еще сносен: на кровати лежал и молчал. Пьяный же был он невыносим, как репейник на голом теле. Когда он пьян, он говорит не умолкая, причем сквернословит, не стесняясь ни женским, ни детским присутствием. Говорит он о вшах, клопах, штанах и черт знает о чем. Других тем, более новых, у него не водится. Papa, maman и Леля недоумевали и краснели, когда Иван, сидя за обедом, начинал острить.
К несчастью, во все свое пребывание в имении Асловских ему ни разу не удалось быть трезвым. Набрыдлов же, маленький, худенький поручик, во все лопатки старался походить на Ивана.
– Мы с ним не художники! – говорил он. – Куды нам! Мы мужички!
Иван и Набрыдлов первым делом из барских хором, где им показалось душно, перебрались во флигель к управляющему, который не прочь был выпить с порядочными людьми. Вторым делом они поснимали сюртуки и защеголяли по двору и по саду без сюртуков. Леле то и дело приходилось в саду наталкиваться на валявшегося под деревом в дезабилье брата или поручика. Брат и поручик пили, ели, кормили пса печенкой, острили над хозяевами, гонялись по двору за кухарками, громко купались, мертвецки спали и благословляли судьбу, случайно загнавшую их в те места, где можно а` la сыр в масле кататься.
– Послушай, ты! – сказал однажды Иван художнику, подмигивая пьяным глазом в сторону Лели. – Ежели ты за ней… то черт с тобой! Мы не тронем. Ты первый начал, тебе и книги в руки. Честь и место! Мы благородно… Желаем успеха!
– Отбивать не станем, нет! – подтвердил Набрыдлов. – Было бы свинством с нашей стороны.
Ногтев пожал плечами и устремил свои жадные очи на Лелю.
Когда надоедает тишина, хочется бури; когда надоедает сидеть чинно и благородно, хочется дебош устроить. Когда Леле надоела робкая любовь, она начала злиться. Робкая любовь – это басня для соловья. К великой досаде, в июне художник был так же робок, как и в мае. В хоромах шили приданое: папа денно и нощно мечтал о займе денег для свадьбы, а между тем их отношения не вылились еще в определенную форму. Леля заставляла художника по целым дням удить с собой рыбу. Но это не помогло. Он стоял возле нее с удочкой, молчал, заикался, пожирал ее глазами – и только. Ни одного сладко-ужасного слова! Ни одного признания!
– Называй меня… – сказал ему однажды papa. – Называй меня… Ты извини… что я говорю тебе «ты»… Я любя, знаешь… Называй меня папой… Это я люблю.
Художник стал сдуру величать papa папой, но и это не помогло. Он по-прежнему был нем там, где следовало возроптать на богов за то, что они дали человеку один только язык, а не десять. Иван и Набрыдлов скоро подметили тактику Ногтева.
– Черт тебя знает! – возроптали они. – Сам сена не жрешь и другим не даешь! Этакая скотина! Трескай же, дуб, коли кусок сам тебе в рот лезет! Не хочешь, так мы возьмем! То-то!
Но всему на этом свете бывает конец. Будет конец и этой повести. Кончилась и неопределенность отношений художника с Лелей.
Завязка романа произошла в середине июня.
Был тихий вечер. В воздухе пахло. Соловей пел во всю ивановскую. Деревья шептались. В воздухе, выражаясь длинным языком российских беллетристов, висела нега… Луна, разумеется, тоже была. Для полноты райской поэзии не хватало только г. Фета, который, стоя за кустом, во всеуслышание читал бы свои пленительные стихи.
Леля сидела на скамье, куталась в шаль и задумчиво глядела сквозь деревья на речку.
«Неужели я так неприступна?» – думала она, и воображению ее представлялась она сама, величественная, гордая, надменная…
Размышления ее прервал подошедший papa.
– Ну, что? – спросил papa. – Все то же?
– То же.
– Гм… Черрт… Когда же все это кончится? Ведь мне, матушка, прокормить этих лодырей дорого стоит! Пятьсот в месяц! Не шутка! На одного пса три гривенника в день на печенку сходит! Коли свататься, так свататься, а нет, так и к черту и с братцем и с псом! Что же он говорит по крайней мере? Говорил он с тобой? Объяснялся?
– Нет. Он, папа, такой застенчивый!
– Застенчивый… Знаем мы их застенчивость! Глаза отводит. Подожди, я его сейчас пришлю сюда. Покончи с ним, матушка! Нечего церемониться… Пора. Изволь-ка, матушка, того… Не молоденькая… фокусы, небось, все уже знаешь!
Papa исчез. Минут через десять, робко пробираясь кустами сирени, показался художник.
– Вы меня звали? – спросил он Лелю.
– Звала. Подойдите сюда! Полно вам меня бегать! Садитесь!
Художник тихохонько подошел к Леле и тихохонько сел на краешек скамьи.
«Какой он хорошенький в темноте!» – подумала Леля и, обратясь к нему, сказала:
– Расскажите-ка что-нибудь! Отчего вы такой скрытный, Федор Пантелеич? Отчего вы все молчите? Отчего вы никогда не откроете предо мной свою душу? Чем я заслужила у вас такое недоверие? Мне обидно, право… Можно подумать, что мы с вами не друзья… Начинайте же говорить!
Художник откашлялся, порывисто вздохнул и сказал:
– Мне вам многое нужно сказать, очень многое!
– В чем же дело стало?
– Боюсь, чтоб вы не обиделись. Елена Тимофеевна, вы не обидитесь?
Леля захихикала.
«Настала минута! – подумала она. – Как дрожит! Как он дрожит! Поймался, голубчик!»
У Лели самой затряслись поджилки. Ее охватил столь любезный каждому романисту трепет.
«Минут через десять начнутся объятия, поцелуи, клятвы… Ах!..» – замечтала она и, чтобы подлить масла в огонь, своим обнаженным горячим локтем коснулась художника.
– Ну? В чем же дело? – спросила она. – Я не такая недотрога, как вы думаете… (Пауза.) Говорите же!.. (Пауза.) Скорей!!

– Видите ли… Я, Елена Тимофеевна, ничего в жизни так не люблю, как художество… искусство, так сказать. Товарищи находят, что у меня талант, и что из меня выйдет неплохой художник…
– О, это наверное! Sans doute![1]
– Ну, да… Так вот… Люблю я свое искусство… Значит… Я предпочитаю жанр, Елена Тимофеевна! Искусство… Искусство, знаете ли… Чудная ночь!
– Да, редкая ночь! – сказала Леля и, извиваясь змеей, съежилась в шали и полузакрыла глаза. (Молодцы женщины по части амурных деталей, страсть какие молодцы!)
– Я, знаете ли, – продолжал Ногтев, ломая свои белые пальцы, – давно уже собирался поговорить с вами, да все… боялся. Думал, что вы рассердитесь… Но вы, если поймете меня, то… не рассердитесь. Вы тоже любите искусство!
– О… Ну да… Как же! Искусство ведь!
– Елена Тимофеевна! Вы знаете, зачем я здесь? Вы не можете догадаться?
Леля сильно сконфузилась и, якобы нечаянно, положила свою руку на его локоть…
– Это правда, – продолжал, помолчав, Ногтев, – есть между художниками свиньи… Это правда… Они ни в грош не ставят женскую стыдливость… Но ведь я… я ведь не такой! У меня есть чувство деликатности. Женская стыдливость есть такая… такая стыдливость, которой неглижировать нельзя!
«Для чего он говорит мне это?» – подумала Леля и спрятала в шаль свои локти.
– Я не похож на тех… Для меня женщина – святыня! Так что вам бояться нечего… Я не такой, я такой, что не позволю себе чепуху выделывать… Елена Тимофеевна! Вы позволите? Да выслушайте, я, ей-Богу, ведь искренно, потому что я не для себя, а для искусства! У меня на первом плане искусство, а не удовлетворение скотских инстинктов!
Ногтев схватил ее за руку. Она подалась чуточку в его сторону.
– Елена Тимофеевна! Ангел мой! Счастье мое!
– Н…ну?
– Можно вас попросить?
Леля захихикала. Губы ее уже сложились для первого поцелуя.
– Можно вас попросить? Умоляю! Ей-Богу, для искусства! Вы мне так понравились, так понравились! Вы та, которую именно мне и нужно! К черту других! Елена Тимофеевна! Друг мой! Будьте моей…
Леля вытянулась, готовая пасть в объятия. Сердце ее застучало.
– Будьте моей…
Художник схватил ее за другую руку. Она покорно склонила головку на его плечо. Слезы счастья блеснули на ее ресницах…
– Дорогая моя! Будьте моей… натурщицей!
Леля подняла голову.
– Что?
– Будьте моей натурщицей!
Леля поднялась.
– Как? Кем? – Натурщицей… Будьте!
– Гм… Только-то?
– Вы меня премного обяжете! Вы дадите мне возможность написать картину, и… какую картину!
Леля побледнела. Слезы любви вдруг обратились в слезы отчаяния, злобы и других нехороших чувств.
– Так вот… что? – проговорила она, трясясь всем телом.
Бедный художник! Ярко-красное зарево окрасило одну из его белых щек, когда звуки звонкой пощечины понеслись, мешаясь с собственным эхом, по темному саду. Ногтев почесал щеку и остолбенел. С ним приключился столбняк. Он почувствовал, что он проваливается сквозь всю Вселенную… Из глаз посыпались молнии…
Леля, трепещущая, бледная как смерть, ошалевшая, сделала шаг вперед, покачнулась. По ней точно колесом проехали. Собравшись с силами, она неверной, больной походкой направилась к дому. Ноги ее подгибались, из глаз сыпались искры, руки тянулись к волосам с явным намерением вцепиться в оные…
До дома оставалось только несколько сажен, когда ей еще раз пришлось побледнеть. На ее пути, около беседки, увитой диким виноградом, стоял, широко растопырив руки, пьяный мордастый Иван, непричесанный, с расстегнутой жилеткой. Он глядел в Лелино лицо, сардонически ухмылялся и осквернял воздух мефистофелевским «ха-ха». Он схватил Лелю за руку.
– Подите прочь! – прошипела Леля и отдернула руку…
Скверная история!
Барыня
I
К избе Максима Журкина, шурша и шелестя по высохшей, пыльной траве, подкатила коляска, запряженная парой хорошеньких вятских лошадок. В коляске сидели барыня Елена Егоровна Стрелкова и ее управляющий Феликс Адамович Ржевецкий. Управляющий ловко выскочил из коляски, подошел к избе и указательным пальцем постучал по стеклу. В избе замелькал огонек.
– Кто там? – спросил старушечий голос, и в окне показалась голова Максимовой жены.
– Выйди, бабушка, на улицу! – крикнула барыня.
Через минуту из избы вышли Максим и его жена. Они остановились у ворот и молча поклонились барыне, а потом управляющему.
– Скажи на милость, – обратилась Елена Егоровна к старику, – что все это значит?
– Что такое-с?
– Как что? Разве не знаешь? Степан дома?
– Никак нет. На мельницу уехал.
– Что он строит из себя? Я решительно не понимаю этого человека! Зачем он ушел от меня?
– Не знаем, барыня. Нешто мы знаем?
– Ужасно некрасиво с его стороны! Он оставил меня без кучера! По его милости Феликсу Адамовичу приходится самому запрягать лошадей и править. Ужасно глупо! Вы поймите, что это, наконец, глупо! Жалованья ему показалось мало, что ли?
– А Христос его знает! – отвечал старик, косясь на управляющего, который засматривал в окна. – Нам не говорит, а в голову к нему не залезешь. Ушел, говорит, да и шабаш! Своя воля! Должно полагать, жалованья мало показалось!
– А это кто под образами на лавке лежит? – спросил Феликс Адамович, глядя в окно.
– Семен, батюшка! А Степана нету.
– Дерзко с его стороны! – продолжала барыня, закуривая папироску. – Мсье Ржевецкий, сколько получал он у вас жалованья?
– Десять рублей в месяц.
– Если ему показалось мало десяти, то я могла бы дать пятнадцать! Не сказал ни слова и ушел! Честно это? Добросовестно?
– Говорил ведь я, что никогда не следует церемониться с этим народом! – заговорил Ржевецкий, отчеканивая каждый слог и стараясь не делать ударения на предпоследнем слоге. – Вы разбаловали этих дармоедов! Никогда не следует заразом отдавать всего жалованья! К чему это? Да и зачем вы хотите прибавить жалованья? И так придет! Он договорился, нанялся! Скажи ему, – обратился поляк к Максиму, – что он свинья и больше ничего!
– Finissez donс![2]
– Слышишь, мужик? Нанялся – так и служи, а не уходи, когда тебе вздумается, черт! Пусть только не придет завтра! Я покажу ему не слушаться! И вам достанется! Слышишь, старуха?
– Finissez, Ржевецкий!
– Всем достанется! Не являйся тогда ко мне в контору, старый собака! С вами церемониться?! Вы разве люди? Разве вы понимаете хорошие слова? Вы только тогда понимаете, ежели вас по шеям бьют и делают вам неприятности! Чтоб ходил завтра!
– Я скажу ему. Отчего не сказать? Сказать можно…
– Скажи ему, что прибавлю ему жалованья, – сказала Елена Егоровна. – Не могу же я быть без кучера. Когда найду другого, пусть тогда и уходит, если ему угодно. Завтра утром чтобы опять был у меня! Скажите ему, что я глубоко оскорблена его невежливым поступком! И вы, бабушка, скажите! Надеюсь, что он будет у меня и не заставит посылать за собой. Подойди сюда, бабушка! На́ тебе, милая! Что, небось трудно управляться с такими большими детьми? Бери, милая!
Барыня вынула из кармана хорошенький портсигар, потянула из-под папирос желтую бумажку и подала ее старухе.
– Если же не придет, – прибавила барыня, – то нам придется поссориться, что было бы крайне нежелательно. Но я надеюсь… Вы ему посоветуете. Едемте, Феликс Адамыч! Прощайте.
Ржевецкий вскочил в коляску, взял в руки вожжи, и коляска покатила по мягкой дороге.
– Сколько дала? – спросил старик.
– Рупь.
– Дай сюда!
Старик взял рубль, погладил его обеими ладонями, бережно сложил и спрятал в карман.
– Степан, уехала! – сказал он, входя в избу. – Я ей сбрехал, что ты на мельницу уехал. Перепужалась, страсть как!..
Как только отъехала коляска и скрылась из вида, в окне показался Степан. Бледный как смерть, дрожащий, он выполз наполовину из окна и погрозил своим большим кулаком темневшему вдали саду. Сад был барский. Погрозив раз шесть, он проворчал что-то, потянулся назад в избу и с шумом опустил раму.
Через полчаса после того, как уехала барыня, в избе Журкина ужинали. В кухне возле самой печки за засаленным столом сидели Журкин и его жена. Против них сидел старший сын Максима – Семен, временно-отпускной, с красным испитым лицом, длинным рябым носом и маслеными глазами. Семен был похож лицом на отца, он не был только сед, лыс и не имел таких хитрых, цыганских глаз, какими обладал его отец. Рядом с Семеном сидел второй сын Максима, Степан. Степан не ел, а, подперевши кулаком свою красивую белокурую голову, смотрел на закопченный потолок и о чем-то усердно мыслил. Ужин подавала жена Степана, Марья. Щи съели молча.
– Принимай! – сказал Максим, когда были съедены щи. Марья взяла со стола пустую чашку, но не донесла ее благополучно до печи, хотя и была печь близко. Она зашаталась и упала на скамью. Чашка выпала из ее рук и сползла с колен на пол. Послышались всхлипывания.
– Никак кто плачет? – спросил Максим.
Марья зарыдала громче. Прошло минуты две. Старуха поднялась и сама подала на стол кашу. Степан крякнул и встал.
– Замолчи! – пробормотал он.
Марья продолжала плакать.
– Замолчи, тебе говорят! – крикнул Степан.
– Смерть не люблю бабьего крику! – смело забормотал Семен, почесывая свой жесткий затылок. – Ревет и сама не знает, чего ревет! Сказано – баба! Ревела бы себе на дворе, коли угодно!
– Бабья слеза – капля воды! – сказал Максим. – Благо – слез не покупать, даром дадены. Ну, чего ревешь? Эка! Перестань! Не возьмут у тебя твоего Степку! Избаловалась! Нежная! Поди кашу трескай!
Степан нагнулся к Марье и слегка ударил ее по локтю.
– Ну чего? Замолчи! Тебе говорят! Э-э-э… сволочь!
Степан размахнулся и ударил кулаком по скамье, на которой лежала Марья. По его щеке поползла крупная сверкающая слеза. Он смахнул с лица слезу, сел за стол и принялся за кашу. Марья поднялась и, всхлипывая, села за печью, подальше от людей. Съели и кашу.
– Марья, кваску! Знай свое дело, молодуха! Стыдно сопли распускать! – крикнул старик. – Не маленькая!
Марья с бледным, заплаканным лицом вышла и, ни на кого не глядя, подала старику ковш. Ковш заходил по рукам. Семен взял в руки ковш, перекрестился, хлебнул и поперхнулся.
– Чего смеешься?
– Ничего… Это я так. Смешное вспомнил.
Семен закинул назад голову, раскрыл свой большой рот и захихикал.
– Барыня приезжала? – спросил он, глядя искоса на Степана. – А? Что она говорила? А? Ха-ха!
Степан взглянул на Семена и густо покраснел.
– Пятнадцать целковых дает, – сказал старик.
– Ишь ты! И сто даст, лишь бы только захотел! Побей Бог, даст!
Семен мигнул глазом и потянулся.
– Эх, кабы мне такую бабу! – продолжал он. – Высосал бы чертовку! Сок выжал! Ввв…
Семен съежился, ударил по плечу Степана и захохотал.
– Так-то, душа! Больно ты комфузлив! Нашему брату комфузиться не рука! Дурак ты, Степка! Ух, какой дурак!
– Вестимо, дурак! – сказал отец.
Послышались опять всхлипывания.
– Опять твоя баба ревет! Знать, ревнива, щекотки боится! Не люблю бабьего визгу. Как ножом режет! Эх, бабы, бабы! И на какой предмет вас Бог создал? Для какой такой стати? Мерси за ужин, господа почтенные! Теперь бы винца выпить, чтоб прекрасные сны снились! У барыни твоей, должно полагать, вина того тьма тьмущая! Пей – не хочу!
– Скот ты бесчувственный, Сенька!
Сказавши это, Степан вздохнул, взял в охапку полсть и вышел из избы на двор. За ним следом отправился и Семен.
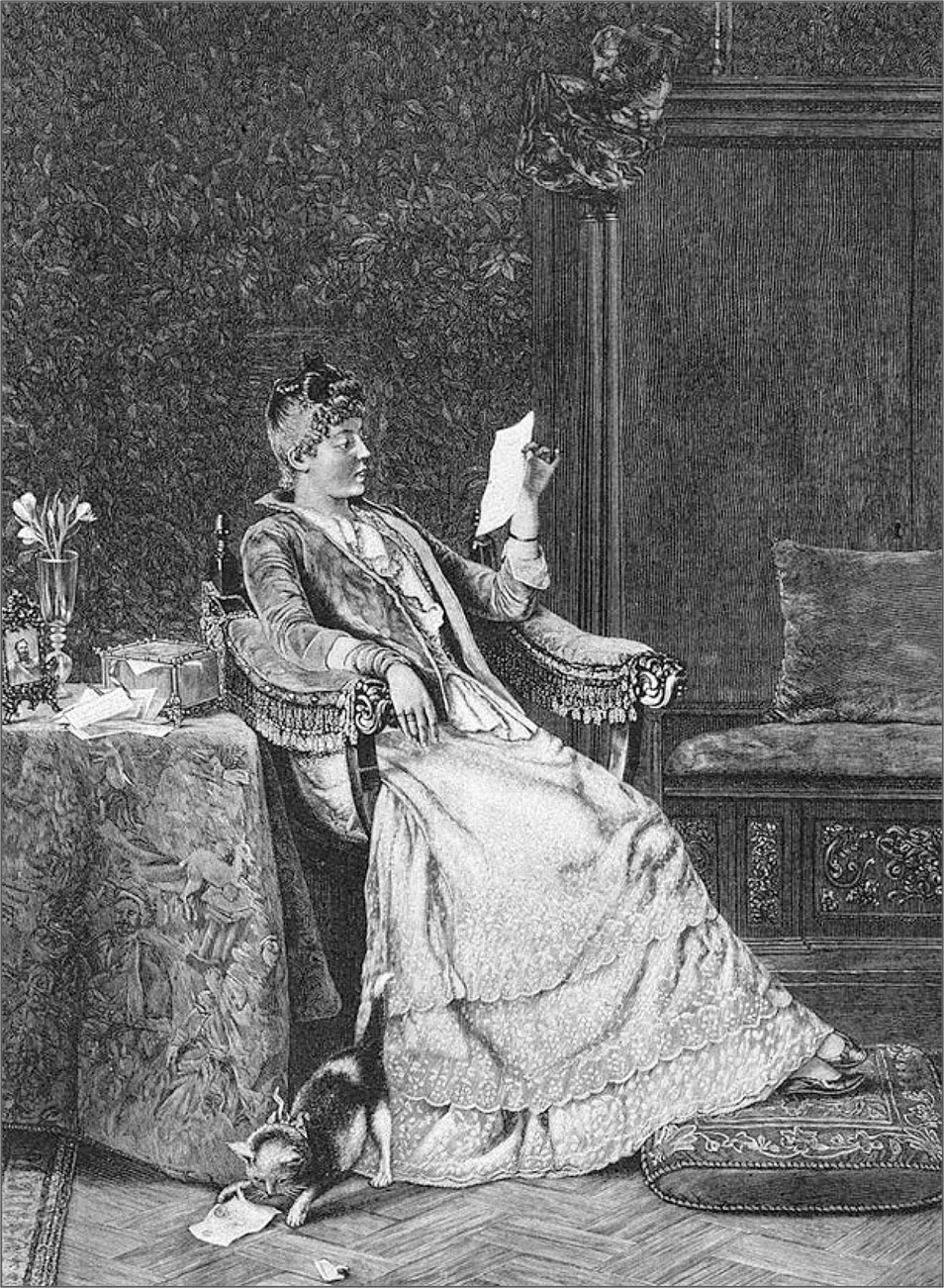
На дворе тихо, безмятежно наступала летняя русская ночь. Из-за далеких курганов всходила луна. Ей навстречу плыли растрепанные облачки с серебрившимися краями. Небосклон побледнел, и во всю ширь его разлилась бледная, приятная зелень. Звезды слабей замелькали и, как бы испугавшись луны, втянули в себя свои маленькие лучи. С реки во все стороны потянуло ночной, щеки ласкающей влагой. В избе отца Григория на всю деревню продребезжали часы девять. Жид-кабатчик с шумом запер окна и над дверью вывесил засаленный фонарик. На улице и во дворах ни души, на звука… Степан разостлал на траве полсти, перекрестился и лег, подложив под голову локоть. Семен крякнул и сел у его ног.
– М-да… – проговорил он.
Помолчав немного, Семен сел поудобней, закурил маленькую трубочку и заговорил:
– Был сегодня у Трофима… Пиво пил. Три бутылки выпил. Хочешь покурить, Степа?
– Не желаю.
– Табак хороший. Чаю бы теперь выпить! Ты у барыни пивал чай? Хороший? Должно, очень хороший? Рублей пять за фунт сто́ит, должно быть. А есть такой чай, что за фунт сто рублей сто́ит. Ей-Богу, есть. Хоть не пил, а знаю. Когда в городе в приказчиках служил, я видал… Одна барыня пила. Один запах чего сто́ит! Нюхал. Пойдем к барыне завтра?
– Отстань!
– Чего ж ты сердишься? Я не ругаюсь, говорю только. Сердиться не след. Только отчего же тебе не идти, чудак? Не понимаю! И денег много, и еда хорошая, и пей, сколько душа хочет… Цигарки ее курить станешь, чаю хорошего попьешь…
Семен помолчал немного и продолжал:
– И красивая она. Со старухой связаться беда, а с этой – счастье! (Семен сплюнул и помолчал.) Огонь баба! Огненный огонь! Шея у ней славная, пухлая такая…
– А ежели душе грех? – спросил вдруг Степан, повернувшись к Семену.
– Гре-ех? Откудова грех? Бедному человеку ничего не грех.
– В пекло к черту и бедный пойдет, ежели… А нешто я бедный? Я не бедный.
– Да какой тут грех? Ведь не ты к ней, а она к тебе! Пугало ты!
– Разбойник, и рассуждение разбойничье…
– Глупый ты человек! – сказал, вздыхая, Семен. – Глупый! Счастья своего не понимаешь! Не чувствуешь! Денег, должно быть, у тебя много… Не нужны, знать, тебе деньги.
– Нужны, да не чужие.
– Ты не украдешь, а она сама, собственной ручкой тебе даст. Да что с тобой, дураком, толковать. Как об стену горохом… Мантифолию на уксусе разводить с тобой только.
Семен встал и потянулся.
– Будешь каяться, да поздно будет! Я с тобой апосля этого и знаться не хочу. Не брат ты мне. Черт с тобою… Возись с своей дурой коровой…
– Марья-то корова?
– Марья.
– Гм… Ты этой самой корове и под башмак не годишься. Ступай!
– И тебе было бы хорошо, и… нам хорошо. Дурак!!
– Ступай!
– И уйду… Бить тебя некому!
Семен повернулся и, посвистывая, поплелся к избе. Минут через пять около Степана зашуршала трава. Степан поднял голову. К нему шла Марья. Марья подошла, постояла и легла рядом с Степаном.
– Не ходи, Степа! – зашептала она. – Не ходи, мой родной! Загубит тебя! Мало ей, окаянной, поляка, ты еще понадобился. Не ходи к ней, Степунька!
– Не лезь!
На лицо Степана мелким дождем закапали Марьины слезы.
– Не губи ты меня, Степан! Не бери греха на душу! Люби меня одну, не ходи к другим! Со мной повенчал Бог, со мной и живи. Сирота я… Только один ты у меня и есть.
– Отстань! Аа… сатана! Сказал – не пойду!
– То-то… И не ходи, миленький! В тягости я, Степушка… Детки скоро будут… Не бросай нас, Бог накажет! Отец-то с Семкой так и норовят, чтобы ты пошел к ней, а ты не ходи… Не гляди на них. Звери, а не люди.
– Спи!
– Сплю, Степа… Сплю.
– Марья! – послышался голос Максима. – Где ты? Поди, мать зовет.
Марья вскочила, поправила волосы и побежала в избу. К Степану медленно подошел Максим. Он уже разделся и в нижнем платье был похож на мертвеца. Луна играла на его лысине и светилась в его цыганских глазах.
– Идешь к барыне завтра аль послезавтра? – спросил он Степана.
Степан не отвечал.
– Коли идти, так идти завтра, да пораньше. Небось лошади не чищены. Да не забудь, что пятнадцать обещала. За десять не иди.
– Я никак не пойду, – сказал Степан.
– Чего так?
– Да так… Не желаю…
– Отчего же?
– Сами знаете.
– Так… Смотри, Степа, как бы мне не пришлось драть тебя на старости лет!
– Дерите.
– Можешь ли так родителям отвечать? Кому отвечаешь? Смотри ты! Молоко еще на губах не высохло, а грубости отцу говоришь.
– Не пойду, вот и все! В церковь ходите, а греха не боитесь.
– Тебя же, глупого, отделить хочу! Избу новую надоть строить аль нет? Как по-твоему? К кому за лесом пойдешь? К Стрельчихе небось? У кого денег взаймы взять? У ней или не у ней? Она и лесу даст и денег даст. Наградит!
– Пущай других награждает. Мне не нужно.
– Отдеру!
– Ну и дерите! Дерите!
Максим улыбнулся и протянул вперед руку. В его руке была плеть.
– Отдеру, Степан.
Степан повернулся на другой бок и сделал вид, что ему мешают спать.
– Так не пойдешь? Ты это верно говоришь?
– Верно. Побей Бог мою душу, ежели пойду.
Максим поднял руку, и Степан почувствовал на плече и щеке сильную боль. Степан вскочил как сумасшедший.
– Не дерись, тятька! – закричал он. – Не дерись! Слышишь? Ты не дерись!
– А что?
Максим подумал и еще раз ударил Степана. Ударил и в третий раз.
– Слушай отца, коли он велит! Пойдешь, прохвост!
– Не дерись! Слышишь?
Степан заревел и быстро опустился на полсть.
– Я пойду! Хорошо! Пойду… Только помни! Жизни рад не будешь! Проклянешь!
– Ладно. Для себя пойдешь, а не для меня. Не мне новая изба нужна, а тебе. Говорил – отдеру, ну и отодрал.
– По… пойду! Только… только помянешь эту плеть!
– Ладно. Стращай. Поговори ты мне еще!
– Хорошо… Пойду…
Степан перестал реветь, повернулся на живот и заплакал тише.
– Плечами задергал! Расхныкался! Реви больше! Завтра пораньше пойдешь. За месяц вперед возьми. Да и за четыре дня, что прослужил, возьми. Твоей же кобыле на платок сгодится. А за плеть не серчай. Отец я… Хочу – бью, хочу – милую. Так-то-ся… Спи!
Максим погладил бороду и повернул к избе. Степану показалось, что Максим, вошедши в избу, сказал: «Отодрал!» Послышался смех Семена.
В избе отца Григория жалобно заиграло расстроенное фортепиано: в девятом часу поповна обыкновенно занималась музыкой. По деревне понеслись тихие странные звуки. Степан встал, перелез через плетень и пошел вдоль по улице. Он шел к реке. Река блестела, как ртуть, и отражала в себе небо с луной и со звездами. Тишина царила кругом гробовая. Ничто не шевелилось. Лишь изредка вскрикивал сверчок… Степан сел на берегу, над самой водой, и подпер голову кулаком. Мрачные думы, сменяя одна другую, закопошились в его голове.







