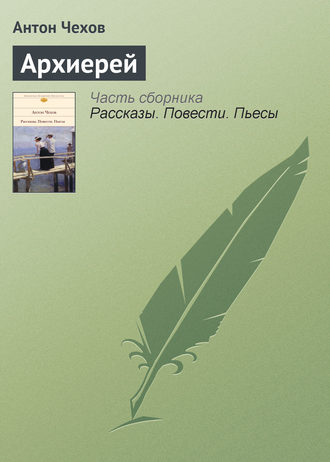
Антон Чехов
Архиерей
И преосвященный засмеялся. В восьми верстах от Лесополья село Обнино с чудотворной иконой. Из Обнина летом носили икону крестным ходом по соседним деревням и звонили целый день то в одном селе, то в другом, и казалось тогда преосвященному, что радость дрожит в воздухе, и он (тогда его звали Павлушей) ходил за иконой без шапки, босиком, с наивной верой, с наивной улыбкой, счастливый бесконечно. В Обнине, вспомнилось ему теперь, всегда было много народу, и тамошний священник отец Алексей, чтобы успевать на проскомидии, заставлял своего глухого племянника Илариона читать записочки и записи на просфорах «о здравии» и «за упокой»; Иларион читал, изредка получая по пятаку или гривеннику за обедню, и только уж когда поседел и облысел, когда жизнь прошла, вдруг видит, на бумажке написано: «Да и дурак же ты, Иларион!» По крайней мере до пятнадцати лет Павлуша был неразвит и учился плохо, так что даже хотели взять его из духовного училища и отдать в лавочку; однажды, придя в Обнино на почту за письмами, он долго смотрел на чиновников и спросил: «Позвольте узнать, как вы получаете жалованье: помесячно или поденно?»
Преосвященный перекрестился и повернулся на другой бок, чтобы больше не думать и спать.
– Моя мать приехала… – вспомнил он и засмеялся.
Луна глядела в окно, пол был освещен, и на нем лежали тени. Кричал сверчок. В следующей комнате за стеной похрапывал отец Сисой, и что-то одинокое, сиротское, даже бродяжеское слышалось в его стариковском храпе. Сисой был когда-то экономом у епархиального архиерея, а теперь его зовут «бывший отец эконом»; ему 70 лет, живет он в монастыре в 16 верстах от города, живет и в городе, где придется. Три дня назад он зашел в Панкратиевский монастырь, и преосвященный оставил его у себя, чтобы как-нибудь на досуге поговорить с ним о делах, о здешних порядках…
В половине второго ударили к заутрене. Слышно было, как отец Сисой закашлял, что-то проворчал недовольным голосом, потом встал и прошелся босиком по комнатам.
– Отец Сисой! – позвал преосвященный.
Сисой ушел к себе и немного погодя явился уже в сапогах, со свечой; на нем сверх белья была ряса, на голове старая, полинялая скуфейка.
– Не спится мне, – сказал преосвященный, садясь. – Нездоров я, должно быть. И что оно такое, не знаю. Жар!
– Должно, простудились, владыко. Надо бы вас свечным салом смазать.
Сисой постоял немного и зевнул: «О господи, прости меня грешного!»
– У Еракина нынче электричество зажигали, – сказал он. – Не ндравится мне!
Отец Сисой был стар, тощ, сгорблен, всегда недоволен чем-нибудь, и глаза у него были сердитые, выпуклые, как у рака.
– Не ндравится! – повторил он, уходя. – Не ндравится, бог с ним совсем!
II
На другой день, в вербное воскресение, преосвященный служил обедню в городском соборе, потом был у епархиального архиерея, был у одной очень больной старой генеральши и наконец поехал домой. Во втором часу у него обедали дорогие гости: старуха мать и племянница Катя, девочка лет восьми. Во время обеда в окна со двора всё время смотрело весеннее солнышко и весело светилось на белой скатерти, в рыжих волосах Кати. Сквозь двойные рамы слышно было, как шумели в саду грачи и пели скворцы.
– Уже девять лет, как мы не видались, – говорила старуха, – а вчера в монастыре, как поглядела на вас – господи! И ни капельки не изменились, только вот разве похудели и бородка длинней стала. Царица небесная, матушка! И вчерась во всенощной нельзя было удержаться, все плакали. Я тоже вдруг, на вас глядя, заплакала, а отчего, и сама не знаю. Его святая воля!
И несмотря на ласковость, с какою она говорила это, было заметно, что она стеснялась, как будто не знала, говорить ли ему ты или вы, смеяться или нет, и как будто чувствовала себя больше дьяконицей, чем матерью. А Катя не мигая глядела на своего дядю, преосвященного, как бы желая разгадать, что это за человек. Волоса у нее поднимались из-за гребенки и бархатной ленточки и стояли, как сияние, нос был вздернутый, глаза хитрые. Перед тем как садиться обедать она разбила стакан, и теперь бабушка, разговаривая, отодвигала от нее то стакан, то рюмку. Преосвященный слушал свою мать и вспоминал, как когда-то, много-много лет назад, она возила и его, и братьев, и сестер к родственникам, которых считала богатыми; тогда хлопотала с детьми, а теперь с внучатами и привезла вот Катю…
– У Вареньки, у сестры вашей, четверо детей, – рассказывала она, – вот эта, Катя, самая старшая, и бог его знает, от какой причины, зять отец Иван захворал, это, и помер дня за три до Успенья. И Варенька моя теперь хоть по миру ступай.
– А как Никанор? – спросил преосвященный про своего старшего брата.
– Ничего, слава богу. Хоть и ничего, а, благодарить бога, жить можно. Только вот одно: сын его Николаша, внучек мой, не захотел по духовной части, пошел в университет в доктора. Думает, лучше, а кто его знает! Его святая воля.
– Николаша мертвецов режет, – сказала Катя и пролила воду себе на колени.
– Сиди, деточка, смирно, – заметила спокойно бабушка и взяла у нее из рук стакан. – Кушай с молитвой.
– Сколько времени мы не видались! – сказал преосвященный и нежно погладил мать по плечу и по руке. – Я, маменька, скучал по вас за границей, сильно скучал.
– Благодарим вас.
– Сидишь, бывало, вечером у открытого окна, один-одинешенек, заиграет музыка, и вдруг охватит тоска по родине, и, кажется, всё бы отдал, только бы домой, вас повидать…







