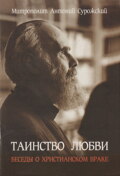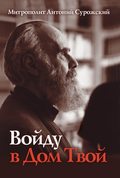митрополит Антоний Сурожский
Беседы о вере и Церкви
Диалог верующего с неверующим [1]
I
Анатолий Максимович Гольдберг: Митрополит Антоний, мне недавно довелось слышать Вас по телевидению; Вы тогда говорили, обращаясь к английским слушателям, о Воскресении Христа. И меня это заинтересовало; потому что в том, как относятся все христианские Церкви к этому вопросу, есть, как мне всегда казалось, что-то парадоксальное. Ведь согласно христианскому учению, главное – не материя, а дух; и одним из основных догматов христианства является бессмертие души. Почему же христианство делает такой упор на физическое Воскресение Христа и на последовавшее за этим физическое вознесение? Казалось бы, именно с христианской точки зрения это совершенно неважно. Мало того, это представляется как попытка дать христианству материалистическую основу – несмотря на то, что материализм должен бы быть совершенно чужд христианству.
Митрополит Сурожский Антоний: Вот тут-то я с Вами не согласен. Я думаю, и вся библейская традиция, и христианская, которая выросла из нее и является, с моей точки зрения, завершением ее, считают, что и материя, и дух существуют в человеке как бы на равных началах. Я бы сказал так: из всех мировоззрений, которые я знаю, христианство – единственное подлинно материалистическое мировоззрение в том смысле (конечно, я немножко играю словами), что христианство принимает материю всерьез; оно учит, что материя не является временным или случайным обрамлением жизни человека, что человек не является духом, который на время «воплощен», что материя, которая нас окружает, не является просто сырым материалом для нашей жизни, для постройки материального мира, а имеет окончательное значение, и что человек рассматривается не как дух, завязший в материи, а как совокупность материи и духа, составляющая одно целое.
И то, что Вы говорите дальше: что христианство верит в бессмертие души, – да, это правда, но в более основном, глубоком смысле. Христианство утверждает (это Вы найдете и в Символе веры, и в сознании христианской Церкви) воскресение мертвых: нам представляется, что полнота человеческого бытия – именно воплощенность, а не развоплощенность витающих духов.
Анатолий Максимович: Скажите, такова была всегда христианская установка? Потому что, насколько мне помнится, раньше говорили совершенно иначе. Меня, например, учили, что в средние века христианская Церковь считала, будто жизнь на земле – преходящее состояние; оно, конечно, преходящее и теперь, но, во всяком случае, считалось, что это менее «важное» состояние, чем то, что будет после.
Митрополит Антоний: Мне кажется, что тут есть два момента. Во-первых, в течение многих столетий было среди христиан несколько, скажем, выжидательное, даже подозрительное отношение к плоти, потому что казалось, будто плоть, телесность человека связывает его с животным миром, делает его чем-то ниже того духовного существа, которым человек должен бы быть. Это – позднейшая установка, это установка христианского мира, который уже как-то потерял первобытный, радостный, всеобъемлющий импульс. Скажем, в пятом веке один из отцов Церкви писал, что никогда нельзя упрекать или обличать плоть в том, что она «виновата» в человеческом грехе, что грехи плоти – это грехи, которые дух совершает над плотью. Так что подозрительность, которая постепенно развилась в связи с аскетической установкой, с борьбой за целостность человека, сознание, что человек иногда тяжелеет под гнетом своей плоти, не является богословской, а только практической установкой.
С другой стороны, всегда была в христианстве жива вера, что, правда, человек живет на земле временно; правда, будет разлучение души и тела; правда, будет какой-то период, когда душа будет жива, тогда как тело будет костьми лежать в земле; но что в конечном итоге будет воскресение плоти и что полнота человеческого блаженства – это не развоплощенный дух, а воплощенный человек, после той катастрофы, того события, которое мы называем Страшным судом, концом мира – назовите, как хотите, после момента, когда все будет завершено и человек снова станет полным человеком, а не только получеловеком.
Анатолий Максимович: Значит, отношение христианства к этому вопросу, если я Вас правильно понял, действительно менялось на протяжении веков; может быть, не в основном, но в том смысле, что одно время делался упор на одно, а в другие времена – на другое? Вы сказали, что подозрительное отношение к плоти характерно для более позднего периода христианства, то есть для средних веков; теперь от этой установки отказались, и плоть и дух снова рассматриваются как равные?
Митрополит Антоний: Видите ли, сказать, что теперь от такой установки отказались, конечно, было бы немножко оптимистично; но основная, первичная вера христианской Церкви, библейской традиции сейчас переживается и осмысливается с новой глубиной и силой.
Анатолий Максимович: Я отметил Ваше слово «оптимистично». Но в связи с Воскресением Христа – все-таки я Вам должен сказать совершенно откровенно, что с точки зрения неверующего человека, который вовсе не относится враждебно к религии, напрашивается следующий вывод: что этот догмат был сформулирован для того, чтобы отличить Христа от обыкновенных людей, и для того, чтобы побудить обыкновенных людей уверовать в Его Божественную природу; другими словами, пользуясь современным термином, этот догмат был сформулирован для пропагандистских целей. Я могу Вам пояснить. Если было бы просто сказано, что Христа надо считать Богом в силу Его этического учения, в силу той жертвы, которую Он принес, то одни поверили бы этому, а другие – нет. И вот для того, чтобы убедить в этом большее число людей, нужна была ссылка на какое-то сверхъестественное событие – ибо от Бога многие ждут чуда.
Митрополит Антоний: Я думаю, что это исторически неправильно; я думаю, что христианская вера началась с момента, когда у каких-то людей – у апостолов, у нескольких женщин, которые пришли ко гробу Спасителя после Его распятия и смерти, у все увеличивающегося количества людей – был непосредственный опыт, то есть реальный опыт того, что Тот, Кого они видели в руках Его врагов, Тот, Кого они видели умирающим на кресте и лежащим во гробе – ЖИВ, среди них. Это не поздний догмат, это одна из первых вещей, о которых говорит Евангелие; это основной мотив, основная тема евангельской проповеди: что Христос жив, и раз Он жив, все остальное делается достоверным, правдоподобным; Он, значит, действительно то, что Он о Себе говорил и что они о Нем думали. Я думаю, что как раз наоборот: это не довод, который позднее был выдуман или приведен сознанию людей для достижения пропагандистских целей, это – первичная вера, без этого ученики просто разбежались бы, как разбитое войско, как разогнанное стадо, и были бы уже окончательно уничтожены.
Анатолий Максимович: Естественная реакция, другими словами?
Митрополит Антоний: Что значит «естественная реакция»? Я Вас не понял.
Анатолий Максимович: Другими словами, тот факт, что после смерти Христа Его ученики почувствовали, что Он жив, было естественной реакцией на Его смерть?
Митрополит Антоний: Это не то что «естественная реакция»; реакция – это было бы внутреннее переживание. То, о чем здесь идет речь, это целый ряд физических явлений: скажем, жены мироносицы видели и физически, руками своими трогали живое тело воскресшего Христа; апостолы, когда Христос явился среди них, были так же изумлены и недоверчивы, как Вы сейчас; но Христос им сказал: не бойтесь, Я – не дух, не привидение, у привидения нет плоти и костей, как у Меня; дайте мне что-нибудь съесть… И перед ними ел (Лк.24,36–43). Апостол Фома был приглашен коснуться Его (Ин.20,27). В конце евангельского рассказа евангелисты настойчиво говорят о том, что раз за разом им пришлось обнаружить факт, что умерший несколько дней до того Христос – жив во плоти, физически среди них. И это их удивляло не меньше, чем современного человека.
Анатолий Максимович: Но почему Вы говорите, что без этого ученики разбежались бы, оказались бы разогнанными? Разве этического учения Христа не было достаточно для того, чтобы сплотить их?
Митрополит Антоний: Мне кажется, что центр всего Евангелия не в этическом учении.
Анатолий Максимович: Не может быть!
Митрополит Антоний: Этическое учение – производное и почти второстепенное для меня. Мне кажется, что для христианина абсолютный центр Евангелия – историческая личность Христа, Который был и Бог, и человек, и если это изъять, то учение Христа является одним из учений, которое можно воспринимать в большей или меньшей мере. Ученики, может быть, и остались бы вместе как этическая группа, но никогда бы не вышли на проповедь о Христе. Апостол Павел говорит, что вся его проповедь заключается в проповеди о Христе распятом и воскресшем, что если не воскрес Христос, то Его ученики – самые несчастные из людей, потому что они строят свое мировоззрение и жизнь на фантазии, на галлюцинации, на лжи (1 Кор., гл. 15).
Анатолий Максимович: Почему же на галлюцинации и на лжи? – строят на определенных этических принципах. Ведь это – принципы, которые явно стоило проповедовать. Неужели Вы можете себе представить, что если бы не было этих этических принципов, то христианство получило бы такое распространение, которое оно получило на самом деле?
Митрополит Антоний: Я думаю, что нет. Я думаю, что на этических принципах христианство получило бы, может быть, даже большее, но другого рода распространение, что центр христианства не только и не столько в этих этических принципах, сколько в историческом событии, которое ставит мир в совершенно новое соотношение с Богом, заставляет нас совершенно пересмотреть и природу и масштаб человека, и природу и Личность Самого Бога, и даже материальный наш мир. Потому что если этот материальный мир оказался способным вместить Самого Бога, если какая-то частица, физическая частица этого мира могла соединиться с Самим Богом и в этом не сгореть, не быть разрушенной, а остаться неприкосновенной, – то, действительно, и материя разверзается в наших глазах в совершенно небывалые масштабы. Почему я и говорю, что христианство – единственный материализм, который придает предельное значение материи, а также и истории человека, через Воплощение Бога вдруг получающего вечное измерение, Божественное измерение, трансцендентальное измерение: не в будущем, а вот сейчас, потому что Бог среди этой истории – и человек делается каким-то удивительно большим.
Анатолий Максимович: Да, это последнее – реалистическое замечание, потому что в остальном Ваши доводы представляются мне именно трансцендентальными. Но для Вас они, явно, имеют значение – реальное и живое значение. Большое Вам спасибо, митрополит Антоний.
Анатолий Максимович: Митрополит Антоний, я слушал много Ваших выступлений по радио и телевидению, и Вы часто говорите об общении с Богом. С моей точки зрения, общение с Богом имеет, в сущности, лишь символическое значение и означает соблюдение этических норм, установленных христианством и другими религиозными учениями; другими словами, под общением с Богом подразумевается: делать то, что нужно, и не делать того, чего нельзя делать. Но я полагаю, что для Вас этот термин имеет более глубокое значение. Что же это означает для Вас конкретно? Идет ли речь только о молитве или о чем-то другом?
Митрополит Антоний: Ваш вопрос очень многогранный и, честно признаюсь, очень трудный, в том смысле, что говорить о каком-то опыте, который тебе кажется достоверным, можно, но сделать его убедительным или понятным, или помочь другому человеку его уловить – очень трудно… Отвечая на ваш вопрос, я бы сказал следующее. Во-первых, в нашем общении с Богом есть, конечно, этический момент: соблюдение божественных заповедей, следование каким-то путем, который предуказан нам Богом; но, с другой стороны, это общение тоже предполагает, что в пределах если не моего личного опыта, то в пределах чьего-то опыта было какое-то веление от Бога, было какое-то указание, данное Им о том, что эти заповеди – закон жизни, что этот путь ведет к жизни; и вот за пределом этического момента, который присутствует и который необходим, без которого просто нет никакого смысла в общении, должен быть где-то момент встречи – или моей лично, или чьей-то еще. Скажем, в христианской, в библейской традиции речь будет идти о том общении, которое имели с Богом святые, пророки, законодатели; и если они рассматриваются как глашатаи закона Божия, это предполагает где-то личную встречу с Богом.
Анатолий Максимович: Значит, это примерно сводится к тому, что понятия зла и добра исходят от Бога, не правда ли? что иначе этих понятий не было бы вообще? Это я очень хорошо понимаю, и я всегда считал это самым убедительным доводом в пользу религии, в пользу существования Бога; это так. А вот момент встречи – причем, я думаю, можно оставить в стороне пророков и святых: в конце концов, веруют же не только пророки и святые, веруют обыкновенные люди – что означает для обыкновенного человека встреча с Богом?
Митрополит Антоний: Вы упомянули о молитве. Я к этому прибавлю опыт, который в христианской Церкви мы называем таинствами. В молитве некоторые люди (не столь редкие) и в некоторые моменты (не в любое время, не по их собственному мгновенному выбору) испытывают порой сознание, что к ним приблизилась какая-то реальность, что они оказались лицом к лицу с каким-то присутствием, что кто-то встал перед ними, открыл себя; они вдруг осознают, что в этом невидимом мире, который вокруг них, кто-то присутствует. Это такое же явственное, такое же четкое ощущение, какое бывает иногда, например, когда находишься с человеком и вдруг прорвешься до него…
Анатолий Максимович: Устанавливается контакт?
Митрополит Антоний: Устанавливается живой, настоящий контакт, который вас заставляет признать, что кто-то там есть; так же, как иногда бывает: сидишь с человеком, и он для тебя просто – предмет, никак до него не докричаться, не достучаться; и вдруг он открывается перед тобой в своем человеческом облике: живой, глубокий, отзывчивый. Вот это один из моментов, который заставляет человека говорить об общении. Теперь второе: я упомянул о таинствах. Таинства, с точки зрения христианина, это непосредственные Божии действия, которые через материю этого мира каким-то образом до нас доносят, доводят какую-то искорку жизни Самого Бога. Это, конечно, объяснить, передать нельзя. Это некоторые люди испытали с большой силой и скажут: да, когда я приобщился этого Хлеба и Вина, я вдруг обнаружил, что это не были только хлеб, только вино, что они до меня донесли какой-то сверхъестественный опыт.
Анатолий Максимович: Вы имеете в виду Причастие?
Митрополит Антоний: Я имею в виду Причастие, но можно было бы так же говорить о Крещении, если речь шла бы о крещении взрослого человека; это могло бы быть помазание елеем, освященным маслом в случае болезни. Возникает яркое, четкое сознание, что через это вещество вдруг коснулась до нас Божественная действительность, которая приобщила нас к новой жизни, восстановила нас в каком-то новом образе.
Анатолий Максимович: Приобщила вас к новой жизни – что это значит? К лучшей жизни, в которой этические правила будут соблюдаться более строго, во всей их полноте?
Митрополит Антоний: Я думаю, здесь два аспекта: с одной стороны, появляется чувство и сознание, что открылся какой-то источник внутри, что вдруг я ожил, что во мне бьет ключом жизнь; а с другой стороны, что эта жизнь – не просто моя жизнь, которая «оживилась» и которая будет течь по-прежнему, но что это жизнь другого свойства, которая от меня неумолимо, торжествующе требует какого-то нового качества – этического, внутреннего и внешнего.
Анатолий Максимович: Такому человеку, как мне, это, конечно, очень трудно понять. Я понимаю, что есть факторы, которые требуют от человека новой жизни, лучшей жизни, более строгого соблюдения этических правил. Но скажите: общение с Богом – не означает ли это в трудную минуту просто диалог с самим собой или, вернее, диалог со своей совестью?
Митрополит Антоний: Я думаю, что это начинается часто диалогом с самим собой в поисках большей правды, чем та правда, к которой мы привыкли; если мы будем внимательно, строго, с честностью говорить с самим собой и прислушиваться к тому, чтo говорит наше нутро, какая правда звучит в нас, то, вероятно, мы услышим то, что Вы называете голосом совести. Говорить о совести, в конце концов, так же абстрактно, как говорить о Боге (А.М.: Совершенно верно.), потому что она физически так же неуловима; это какая-то внутренняя правда, правда жизни, правда межчеловеческих отношений, правда человеческого достоинства, что ли; но где-то за пределом совести (которая тоже обусловлена, потому что совесть, наше понимание человеческих отношений, собственного достоинства в значительной мере зависит от того, как мы воспитаны, в какой обстановке, на каких принципах), прорываясь за пределы совести, мы вдруг обнаруживаем, что есть что-то более глубинное и решительное, чем моя совесть, какой-то голос, который говорит: твоя совесть это говорит, но она ограничена; есть бo льшая правда… В отношении, например, молитвы, когда мы обращаемся внутрь себя, мы проходим – да, через себя; не может быть молитвы углубленной, молитвы, где мы ощущали бы присутствие Божие, которая сначала не коснулась бы и не охватила бы нас самих; если мы сами невнимательны, если наше сердце не участвует, если мы не хотим найти правду жизни, истину и просто жизнь, то мы не дойдем до той глубины, где может быть та встреча, о которой я говорил. То же самое бывает в отношениях с людьми.
Анатолий Максимович: Это все верно, но возьмем такой пример: что Вы делаете, когда предстоит трудное решение, когда Вы не знаете, как поступить правильно? Такие моменты, конечно, очень часто бывают, и, скажем, когда речь идет о чем-то очень важном, что Вы делаете: Вы только думаете, или Вы обращаетесь к Богу с молитвой?
Митрополит Антоний: И то, и другое; я стараюсь сначала самым честным образом, сколько у меня хватает честности и ума, и доброй совести, продумать вопрос, который передо мной стоит.
Анатолий Максимович: Продумать с какой точки зрения – с этической?
Митрополит Антоний: С этической точки зрения, с человеческой точки зрения. Это сводится к одному и тому же, но подход иногда бывает несколько иной; не в порядке правил, применения «норм», а в порядке какого-то чутья правды. А затем – я лично не умею просить Бога о том, чтобы было так или сяк; это мне чуждо; я стараюсь стать перед Ним и просто молитвенно предстоять перед Ним, то есть открыться, отдаться и сказать, что я хочу правды, я хочу добра, я хочу, чтобы была воля Божия, которая может идти наперекор всему тому, о чем я мечтаю, но пусть она будет, потому что я верю, что эта воля Божия более мудрая, чем моя, и содержит в себе гораздо большую любовь и человеческую правду, чем моя.
Анатолий Максимович: Значит, все сводится к тому, что Вы обращаетесь к Богу за советом?
Митрополит Антоний: Да.
Анатолий Максимович: И Вы ждете от Него чего – прозрения?
Митрополит Антоний: Я жду от Него – да, прозрения, более глубокого разумения; и на опыте иногда это прозрение, это разумение так резко идет наперекор со всем тем, чего бы мне хотелось, что я не могу это воспринять просто как новую точку зрения, которая во мне открылась. Иногда бывает явственное сознание, что, действительно, я коснулся какой-то надмирной области, какой-то области, превосходящей весь мой опыт человеческих, психологических, общественных отношений.
Анатолий Максимович: Мне лично этот процесс представляется просто продолжением первого. Вы сами сказали, что когда Вам предстоит принять важное решение, трудное решение, Вы начинаете с того, что Вы его стремитесь как можно более тщательно или как можно более честно продумать, а затем обращаетесь к Богу с молитвой. Эта мне представляется просто продолжением первого процесса, другими словами, Вы продолжаете думать, но, по-видимому. Вы начинаете думать уже в каком-то ином состоянии.
Митрополит Антоний: Я бы сказал, что думать я перестаю, а начинаю слушать и прислушиваться как можно более внимательно…
Анатолий Максимович: К чему?
Митрополит Антоний: К тому, что прозвучит во мне…
Анатолий Максимович: В том-то и дело!
Митрополит Антоний: Да, разумеется, я не ожидаю какого-то голоса извне. Видите, тут такой момент, который я не могу передать, который относится к внутреннему сознанию: иногда прорываешься до какой-то глубины и сознаешь, что дошел до новой глубины в себе самом; а минутами такое явственное, сильное, яркое чувство, что в тебе заговорил иной, что тебя направляет некто отличный от тебя; и вот этого я не могу передать, в том же смысле, в котором нельзя передать субъективное переживание иначе как субъективное. Я не могу его «объективировать», я не могу доказать его объективность – и однако, эта объективность порой для меня очень яркая, ясная. Бывает, что я нахожусь перед какой-нибудь проблемой и ставлю себе вопрос; но бывают моменты, когда человек ничего не ищет – и вдруг войдет в это сознание внезапного присутствия Божия, вдруг ощутит, что он находится перед Богом, что Бог тут. Это мой собственный первичный опыт, почему я и стал верующим: в момент, когда я хотел доказать себе, что нет Бога, что Евангелие – чушь сплошная, что не во что верить, что смысла жизни нет – вдруг мне стало совершенно ощутимо ясно, что я нахожусь в присутствии живого Христа. Конечно, Вы можете сказать, что это была галлюцинация, это был бред, это была иллюзия и…
Анатолий Максимович: По-моему, Вам просто пришла в голову мысль – простите за такое прозаическое определение.
Митрополит Антоний: Нет, то-то и дело, что это не была мысль. Я читал, и мне пришлось поднять глаза, потому что мне было совершенно, разительно ясно, что по ту сторону стола, перед которым я сидел, кто-то находится; мне пришлось посмотреть – так же, как бывает иногда, что идешь по улице и обернешься, потому что кто-то тебе в спину смотрит. И потому я и говорю о галлюцинации, о такой внешней иллюзии: я ничего не видел; но уверенность в этом объективном, вне меня присутствии была такая яркая, что она при мне осталась до сих пор; конечно, не с той же яркостью, но с той же убедительностью и конкретностью.
Анатолий Максимович: Ну, как всегда, я вижу (это, конечно, очень старая истина), что веру от разума отделяет черта; вера находится по ту сторону этой черты. Большое Вам спасибо, митрополит Антоний.
III
Митрополит Антоний: Анатолий Максимович, Вы говорите, что Вы неверующий; это значит, что у Вас есть какое-то представление о Боге и что это представление Вы отвергаете, что оно не укладывается в Ваше представление о мире, о жизни. Можно мне поставить такой вопрос: в какого Бога Вы не веруете?
Анатолий Максимович: Начнем с самого элементарного. Я не верю в Бога злого, мелочного, глупого и самовлюбленного, Который наказывает людей за то, что они не исполняют формальных правил, нарушая при этом элементарные нормы, Им же установленные или установленные религиозным учением, Который якобы получает удовлетворение от того, что люди во славу Божию творят зло, независимо от того, идет ли речь о массовых убийствах, религиозных войнах или еврейских погромах или просто о том отношении, которое иногда проявляют верующие друг к другу и к неверующим по чисто формальным причинам. Я не верю в Бога, Который допускает и якобы даже получает удовлетворение от того, что Ему постоянно лгут. Такого Бога, по-моему, нет и быть не может. Тем не менее, я упоминаю об этом, потому что, насколько можно судить и по личным наблюдениям в повседневной жизни, и по ходу всей истории, были и есть верующие, которые именно так себе и представляют Бога. Это совершенно не вяжется с моим представлением о том, каким Бог должен быть.
Митрополит Антоний: Я думаю, что ничего не могу сказать против отрицания такого Бога. Мне вспоминается маленькая книжечка Бердяева «О достоинстве христианства и недостоинстве христиан», где он выводит именно эту мысль… Что Вы хотели сказать, когда сказали: «Бог, Который хочет, чтобы Ему лгали или Который допускает, что Ему бесконечно лгут, и этим удовлетворяется»?
Анатолий Максимович: От верующих часто приходится слышать, что они оправдывают себя перед Богом чисто формальным образом, и это значит, что они лгут себе и другим, и, конечно, Богу, потому что лгать себе это то же самое, что лгать Богу; и думать, что Бог удовлетворится такой ложью, по-моему, безбожно и даже кощунственно.
Митрополит Антоний: Да, я с этим согласен.
Анатолий Максимович: Я хотел бы добавить, что я, например, не могу себе представить, что Бог предпочитает одно вероисповедание другому, что Он считает верующих людьми лучше неверующих. Не может быть, чтобы у Бога не было столько ума, чтобы не понять, что это неправильно; а тем не менее, от верующих приходится часто слышать, что они считают себя лучше, чем неверующие.
Митрополит Антоний: Да. В общем, получается так: представление, которое Вы получаете о Боге через верующих, просто кощунственно и Вас возмущает.
Анатолий Максимович: Ну, я бы не сказал – через всех верующих, верующий верующему рознь. Вы упомянули о Бердяеве; представление, которое я получаю о Боге, читая Бердяева, конечно, не является кощунственным. Но меня всегда удивляло, что Церковь, священнослужители не прилагают достаточных усилий для того, чтобы внедрить среди верующих правильное представление о Боге.
Митрополит Антоний: А можно Вас спросить: каким должен быть Бог и каким мы должны Его представлять верующим?
Анатолий Максимович [очень быстро, категорично]: Умным. В первую очередь – умным. Кроме того, Бог считается олицетворением этики, олицетворением добра; почему Он допускает зло – это другой вопрос; но ведь нельзя же считать религиозные войны добром? – а тем не менее, такие войны происходили; ведь нельзя же считать мелочные сплетни о неверующих среди верующих добром? Это же явное зло! Не в таком масштабе, как религиозные войны, но тем не менее это и есть зло. Так что, по-моему, Бог должен руководствоваться разумом – потому что для меня разум и добро это одно и то же. Вы, конечно, можете мне сказать, что пути Господни неисповедимы, что мы не можем понять Божьего разума, не можем понять Божьих побуждений. С точки зрения верующего человека это, пожалуй, понятно; но поскольку у нас представления о Божьем разуме нет и, по-видимому, быть не может, мы должны руководствоваться теми этическими нормами, которые Бог, по мнению верующих, установил, и ожидать от Бога, что Он ими тоже руководствуется, а не наказывает людей за то, что они не подчиняются каким-то формальным правилам, игнорируя при этом этические нормы.
Митрополит Антоний: Да. Это меня, в общем, очень радует, с одной стороны, потому что, значит, даже Ваши представления допускают, что Бог существует, при условии, что Он окажется не таким, каким Он явно выступает из жизни и слов недостойных верующих. Но вот Вы упомянули об этике, и в одной из предыдущих бесед мы с Вами говорили, что христианская этика внесла что-то ценное в жизнь хотя бы нашего европейского общества. Как Вам представляется: что ценного внесла христианская этика в нашу жизнь?
Анатолий Максимович: Каждая религия вносила очень много ценного в нашу жизнь; я придаю большое значение религии, потому что религия явилась одним из средств обуздания человеческих страстей, борьбы со злом и упорядочения жизни. Отрицать это, по-моему, совершенно неправильно. Разумеется, существуют и другие средства. В Китае, например, пытались создать разумное устройство жизни исключительно на рационалистическо-этических началах, не прибегая к религии. Религия во времена Конфуция фактически большой роли не играла. Китайская этика была основана на том, что если люди будут вести себя разумно, каждому будет лучше. Не скажу, что они добились большого успеха, но, во всяком случае, не меньшего успеха, чем в других странах мира. В Китае, пожалуй, было то преимущество, что поскольку философы не вносили религиозный элемент в процесс установления этических норм, они сохранили терпимость. Они относились с огромной терпимостью к любому другому философскому учению, при условии, что такое философское учение служит борьбе со злом и внедрению добра. Но, конечно, как я уже сказал, зло продолжало существовать и там.
В других частях света, в частности, в Европе, зло также продолжало существовать, но совершенно ясно, что без религиозных учений возник бы совершеннейший хаос, и иудаизм – поскольку мы говорим о западном мире, – а затем и христианство внесли огромный вклад в дело борьбы с хаосом и со злом.
Митрополит Антоний: А какие особенности христианские Вам кажутся интересными, какие черты Вы находите в христианстве, которых Вы не нашли в других вероисповеданиях и которые сыграли роль, скажем, в общественной, в личной нравственности Запада?
Анатолий Максимович: Христианство является продолжением иудаизма. Иудаизм возник тогда, когда народ находился в совершенно первобытном, диком состоянии, его нужно было как-то организовать, ему нужно было как-то объяснить, почему нужно жить так, а не иначе; и это было сделано – с помощью Десяти заповедей. Христианство было продолжением этого процесса; оно внесло некоторые другие элементы в процесс внедрения этических норм: элемент милосердия, элемент сожаления, элемент доброты. Формулы Христа были преувеличенными, педагогичными; можно себе представить, что когда Он говорил, что нужно подставить другую щеку, Он не верил, что люди подставят другую щеку, но эта формулировка была направлена на то, чтобы люди, по крайней мере, не сразу растерзали того, кто обидел их.
Митрополит Антоний: А вот в области, например, человеческих отношений – как Вам кажется: внесло ли христианство что-то совсем новое в оценку человеческой личности, в то, как человек к человеку должен относиться, – не только в поведении, но как-то глубже, чем в поведении, или в то, как человеческое общество должно рассматривать отдельного своего члена: как частицу ли общества, частицу механизма, или как что-то гораздо более ценное, что должно быть принято в учет?
Анатолий Максимович: Пожалуй, христианство в какой-то степени внесло в философское учение понятие человеческого достоинства. Иудаизм рассматривал человека исключительно как пешку в руках Божиих; пожалуй, это так. Это понятно: чтобы воспитать первобытный народ, ему нужно было внушить, что он является лишь пешкой. Пешкой не в фаталистическом смысле: в конце концов все зависит от человека, от того, что человек делает, но в том смысле, что он не так уж много значит. Христианство, пожалуй, подчеркнуло, что человек значит больше. С другой стороны, практика христианства, в основном, была страшная; и понятие человеческого достоинства, понятие, что человек является человеком, что он является чем-то ценным, в основном развили гуманисты и рационалисты. Таково мое мнение.