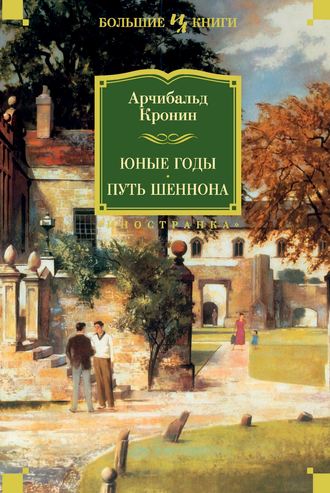
Арчибальд Кронин
Юные годы. Путь Шеннона
Глава 3
С дедушкой нелегко было спать: он громко храпел, непрестанно ворочался на свалявшемся тюфяке и прижимал меня к стенке. И все же спал я как убитый, только на заре мне приснился нехороший сон. Я увидел отца в длинной белой ночной рубашке; он дышал зеленым чаем, который кипел в небольшом медном чане с красными резиновыми трубками, – средство, к которому один из его товарищей по службе посоветовал прибегнуть, когда другие лекарства уже не помогали. Время от времени отец прерывал лечение и, задорно блестя карими глазами, смеялся и шутил с моей мамочкой, которая наблюдала за ним, судорожно сжав руки. Потом вошел доктор – пожилой человек с серым, сумрачным лицом. Не успел он войти, как раздался удар грома, в комнату ворвалась большая черная лошадь с развевающимися черными перьями на голове; в горе и ужасе я спрятал лицо в ладони, а мои мама и папа вскочили на лошадь и умчались.
Я был весь в поту, и сердце у меня подступило куда-то к горлу, когда я открыл глаза и увидел, что комната залита солнцем. У окна стоял дедушка, почти одетый, и скатывал скрипучую деревянную штору.
– Это я разбудил тебя? – Он обернулся ко мне. – День сегодня великолепный, и тебе давно пора вставать.
Я спустил ноги с постели и стал одеваться, а дедушка тем временем сообщил мне, что Кейт уже отправилась в школу и Мэрдок тоже ушел – ему ведь надо ехать на поезде в Уинтон: он занимается в колледже Скерри, чтобы потом поступить на государственную службу в почтовое ведомство. Теперь дело только за папой – как только он уйдет на работу, мы можем спуститься вниз. Я был немало удивлен, когда дедушка сообщил мне, что папа хоть и носит такую красивую форму, а работает всего лишь районным санитарным инспектором. Папе очень хочется стать управляющим водопроводным хозяйством, но пока – и тут дедушка еле заметно усмехнулся – ему приходится следить за тем, чтобы помойные ведра и уборные содержались в порядке.
В эту минуту мы услышали, как хлопнула входная дверь и мама позвала нас снизу.
– Ну как вы там ужились вдвоем? – При виде нас на ее озабоченном лице появилась слабая, все понимающая улыбка, точно перед ней были два школьника, от которых только и жди всяких шалостей.
– Отлично, Ханна, спасибо, – вежливо ответил дедушка, усаживаясь в папино кресло с деревянными ручками, стоявшее в конце стола.
Как я вскоре узнал, дедушка только к завтраку выходил из своей комнаты и потому придавал этому ритуалу особое значение. В плите потрескивал огонь, и на кухне было тепло и уютно; возле того места, где сидел Мэрдок, скатерть была вся в пятнах и усеяна крошками. Нам хорошо было втроем; мама взяла жестяную коробку с вангутеновским какао, положила по ложечке в каждую из трех чашек и долила кипятку из большого чайника с черной крышкой.
– Скажите, папа, – начала она, – вы не взяли бы Роберта с собой на утреннюю прогулку?
– Конечно возьму, Ханна. – Дедушка отвечал вежливо, но сдержанно.
– Я знаю, вы всегда стараетесь помочь. – Она говорила так, точно меня тут и не было. – Нелегко это, наверно, будет на первых порах.
– Глупости! – Дедушка обеими руками поднял чашку и поднес ее ко рту. – К чему заранее тревожиться, моя ласточка?
Мама продолжала смотреть на него с грустной, еле уловимой улыбкой; по этой улыбке да по чуть заметному наклону головы я понял, как она его любит. Когда мы заканчивали завтрак, она на минутку вышла и вскоре вернулась с его палкой и шляпой, а также бумагами, которые он переписывал при мне накануне. Она старательно почистила квадратную шляпу, старую и выцветшую, потом затянула потуже тонкую красную тесемку, которой были связаны бумаги.
– Не вам бы заниматься этим, отец. Но вы знаете, какое это для нас подспорье.
Дедушка неопределенно улыбнулся, встал из-за стола и с важным видом надел шляпу. Мама проводила нас до двери. У порога она подошла совсем близко к дедушке и долгим многозначительным взглядом, в котором читалась затаенная тревога, впилась в его голубые глаза. Затем тихо сказала:
– Обещайте мне, папа.
– Тсс, Ханна! До чего же ты беспокойная женщина! – Он снисходительно улыбнулся ей, взял меня за руку, и мы двинулись в путь.
Вскоре мы добрались до конечной остановки трамвая, где стоял красный вагон – еще совсем диковинка в ту пору; кондуктор переставлял дугу, и, когда она соприкасалась с проводами, в воздухе тучей рассыпались голубые искры. Дедушка провел меня на открытую верхнюю площадку и усадил на переднее место. Я крепче сжал его руку, а он искоса бросил мне ободряющий взгляд; в этот момент мы тронулись и с возрастающей скоростью – так, что воздух засвистел в ушах, – покатились, слегка подпрыгивая, под уклон от Толла к Ливенфорду.
– Билеты, пожалуйста. Прошу всех предъявить билеты.
Я услышал щелканье компостера, которым кондуктор на ходу прокалывал билеты, и позвякиванье монет в его сумке, но дедушка продолжал глядеть прямо перед собой, опершись подбородком на рукоятку палки; волосы его разлетались по ветру, и ни мой молящий взгляд, ни требование кондуктора не могли вывести его из этого транса. Всецело занятый своими мыслями, он точно окаменел, так что кондуктор в нерешительности остановился возле нас; тогда дедушка, не меняя позы, всем своим видом изобразил такое возмущение: просто, мол, непонятно, как это старинный приятель может так себя вести, а потом с таким заговорщическим и многообещающим видом подмигнул кондуктору, что тот расплылся в смущенной улыбке.
– Ах, это вы, Дэнди, – сказал он и, помедлив еще немного, прошел наконец мимо нас.
Я был потрясен этим доказательством уважения к моему дедушке. Но тут мы увидели, что прибыли на Главную улицу и находимся как раз напротив муниципалитета. Дедушка с достоинством сошел на нижнюю площадку и, выйдя из трамвая, направился к низкому зданию; несколько ступенек вели к двери с большой медной дощечкой, на которой едва можно было прочесть: «Дункан Мак-Келлар, поверенный». Окна по обе стороны двери были до половины затянуты тонкой белой материей; на одном из них выцветшими золотыми буквами было написано: «Ливенфордское строительное общество», на другом – «Страховая компания Рока». Как только мы подошли к конторе, вся важность дедушки исчезла, он явно присмирел; однако это не помешало ему состроить забавную гримасу, когда весьма неприглядная женщина, в платье с засаленными манжетами, высунулась из окошечка и сурово заявила нам, что мистер Мак-Келлар занят – у него мэр – и нам придется подождать. Я скоро убедился, что дедушка вообще терпеть не может уродливых женщин – на лице его при виде их неизменно появлялась этакая забавная гримаса.
Минут через пять дверь, ведущая в комнаты, отворилась, и дородный мужчина с темной бородой вышел в приемную, на ходу надевая шляпу. Его внимательный взгляд смутил меня; внезапно, хмуро и неодобрительно взглянув на дедушку, он остановился перед нами.
– Так это и есть тот самый мальчик?
– Да, мэр, – ответил дедушка.
Мэр пристально оглядел меня еще и еще раз, точно знал мою жизнь лучше меня самого; он явно припоминал какие-то события, связанные со мной, и были они такими страшными и возмутительными, что я весь задрожал от стыда и ноги у меня подкосились.
– Ты, конечно, еще не успел завести приятелей среди мальчиков твоего возраста?
Мягкость его тона сразу успокоила меня.
– Нет, сэр.
– Можешь играть с моим сыном Гэвином. Он не намного старше тебя. Приходи к нам как-нибудь на днях. Мы живем совсем рядом – на Драмбакской дороге.
Я опустил голову. Не мог же я сказать ему, что у меня нет ни малейшего желания играть с этим незнакомым мне Гэвином. А мэр с минуту постоял, нерешительно потирая подбородок, потом кивнул еще раз и вышел.
Теперь мистер Мак-Келлар освободился и мог принять нас. Его кабинет был обставлен хотя и старомодно, но красиво – большой стол красного дерева, красный узорчатый ковер, в котором так и утопали ноги, на каминной доске – несколько серебряных чаш, а на стенах мутно-зеленого цвета – фотографии каких-то важных мужчин в рамках. Мистер Мак-Келлар сидел во вращающемся кресле; не глядя на нас, он заговорил:
– Пришлось вам подождать немного, Дэнди. Вы что, принесли работу? Или, может быть, какая-нибудь девчонка подала на вас в суд…
Тут он поднял голову и, заметив меня, умолк с таким видом, точно я испортил лучшую его шутку. Это был плотный краснолицый мужчина лет пятидесяти, гладко выбритый, коротко остриженный, строго одетый. Глаза его под бурыми мохнатыми бровями смотрели бесстрастно и проницательно, и все-таки что-то добродушное было в них. Принимая от дедушки бумаги, он глубокомысленно выпятил пухлую красную нижнюю губу и бегло просмотрел их.
– Ну и пишете же вы, Дэнди, дай бог всем так писать. Настоящая каллиграфия. Вот только почему вы жизнь свою не смогли так ладно построить, как переписали этот документ?
Дедушка несколько принужденно рассмеялся:
– Человек предполагает, а Бог располагает, стряпчий. Я вполне доволен работой, которую вы мне даете.
– В таком случае держитесь подальше от соблазнов Сатаны. – Мистер Мак-Келлар сделал какую-то пометку в лежавшей перед ним книге. – Гонорар за эту работу я припишу к счету за прошлую. Наш друг Лекки, – он оттопырил щеку языком, – получит чек в конце месяца. А у вас, я вижу, новый член семьи.
Он выпрямился и стал меня рассматривать, пожалуй, еще более пронизывающим взглядом, чем мэр. Затем, словно признавая что-то, никак не вяжущееся со здравым смыслом, – более того, всем своим видом как бы говоря, что после той жуткой цепи событий, какая промелькнула перед его мысленным взором, он ожидал увидеть поистине страшное, омерзительное существо, – мистер Мак-Келлар пробормотал: – А он довольно славный малый. Едва ли с ним будет много хлопот – так мне, во всяком случае, кажется.
Вытащив из кармана пригоршню мелких монет, он не торопясь выбрал шиллинг и протянул его через стол дедушке.
– Купите этому внуку Белиала[1] стаканчик лимонада, Дэнди. А теперь идите. Мисс Гленни даст вам новый документ для переписки. Я же чертовски тороплюсь.
Дедушка вышел из конторы в отличнейшем расположении духа, выпятив грудь, точно он с наслаждением вдыхал свежий воздух. Когда мы спускались со ступенек, дедушка обратил мое внимание на двух женщин, шедших по противоположной стороне улицы. Это были бедные труженицы: с корзинами и плетенками своего изделия они обходили дома. Одна из них – та, что помоложе, – рослая, с загорелым лицом и огненно-рыжими волосами, какие можно так часто видеть у бродячих шотландских цыган, несла свою ношу на голове, придерживая ее руками; при ходьбе она слегка покачивалась всем своим сильным телом, а поднятые над головой руки подчеркивали упругость ее груди.
– Посмотри-ка, мальчик! – чуть ли не с благоговейным восторгом воскликнул дедушка. – А ведь приятно увидеть такое, да еще в погожий, свежий осенний денек!
Я лично не видел в этом ничего особенно приятного: подумаешь, две цыганки, укутанные в шали, да и кто на таких внимание обращает! Но я был слишком удручен мрачными намеками, таившимися в словах мэра и юриста, и, чувствуя, как вокруг меня сгущается атмосфера тайны, не стал оспаривать мнение дедушки, а лишь, нахмурившись, последовал за ним. Почему я вызываю такое любопытство у всех этих людей? Что заставляет их покачивать головой при виде меня?
А дело объяснялось очень просто, хотя, конечно, знать я этого не мог. В Ливенфорде – маленьком, пропитанном предрассудками шотландском городке – считалось, что моя мать, которая была очень красивой, пользовалась большим успехом и «могла увлечь кого угодно», опозорила себя, выйдя замуж за моего отца, Оуэна Шеннона, чужеземца, с которым она познакомилась на каникулах, дублинца, человека без всяких родственных связей, занимавшего весьма незначительную должность в фирме, импортирующей чай, человека, у которого не было иных заслуг, кроме ума и красоты, если вообще эти качества можно считать заслугами. То, что за этим браком последовали многие годы безмятежного счастья, не принималось никем в расчет. Смерть отца, за которой вскоре последовала и смерть моей матери, рассматривалась как справедливое возмездие. А мое прибытие к Лекки без всяких средств к существованию – как очевидное доказательство приговора, вынесенного Провидением.
Дедушка избрал для нашего возвращения домой дорогу, пролегавшую мимо городского пруда; не прошло и получаса, как перед нами из-за поворота вынырнула деревушка Драмбак, по окраине которой мы с мамой проходили накануне, и в ту же минуту, отмечая полдень, пронзительно завыла сирена Котельного завода, оставшегося теперь далеко позади.
Живописная деревушка раскинулась у подножия пологого холма, поросшего лесом; ее пересекал ручей, через который было перекинуто два каменных мостика. Мы прошли мимо лавчонки, где торговали сластями; в окне были выставлены «сюрпризные» мешочки с конфетами, фигурки из марципана, палочки из лакрицы, над входом висела вывеска: «Тибби Минз. Разрешено торговать табаком»; у открытой двери соседнего домика сидел старик и прял шерсть. Через дорогу в кузнице кузнец подковывал белую лошадь; он склонился над зажатым в кожаный передник копытом, позади него в темной глубине ярко пылал горн, из раскрытых дверей вырывался приятный запах паленого рога.
Дедушка, казалось, знал здесь всех, даже уличного торговца, продававшего копченую пикшу с лотка, и женщину, выкрикивавшую: «Ревень, кому желе из ревеня! Два медяка за кварту!»
Пока мы шли по деревне, дедушка без конца встречал знакомых, с которыми сердечно раскланивался или которые сердечно раскланивались с ним, – я чувствовал, что со мной идет поистине великий человек.
– Как поживаешь, Сэдлер?
– А вы как, Дэнди?
Тучный краснолицый мужчина, стоявший в одной рубашке без пиджака на пороге «Драмбакского герба», так дружелюбно приветствовал дедушку, что тот в предвкушении удовольствия остановился, сдвинул на ухо шляпу и даже вытер сразу вспотевший лоб.
– Мы чуть не забыли про твой лимонад, мальчик.
И он вошел в «Драмбакский герб», а я присел на теплые от солнца каменные ступени у раскрытой боковой двери и стал наблюдать за белыми цыплятами, которые с жадностью и поспешностью непрошеных гостей клевали на пыльном дворе рассыпанное зерно; вокруг стояла сонная тишь, какая наступает в деревнях после полудня; за зеленым стеклом лавчонки со сластями, что была напротив, я увидел ее владелицу, мисс Минз, которая с любопытством глядела на меня; стекло было неровное, и она казалась мутной изогнутой тенью, точно маленькое морское чудовище, помещенное в аквариум.
Вскоре появился дедушка: он принес мне стакан с лимонадом, от которого у меня защипало язык и приятно защекотало во рту, вызывая слюну. А сам вернулся в кабачок к дневным завсегдатаям этого прохладного сумеречного уголка, одним глотком опорожнил маленькую пузатую рюмку и принялся напыщенно и высокопарно разглагольствовать, потягивая пиво из большой пенящейся кружки и как бы закрепляя действие выпитой ранее более крепкой золотистой влаги.
Тут внимание мое было отвлечено появлением двух девочек, которые, громко перекликаясь, катили обручи по лужайке напротив гостиницы. Я был совсем один; дедушка, как видно, надолго засел в «Гербе», а потому я встал и не спеша, кружным путем подошел к краю лужайки. Будь это мальчики, я бы и внимания на них не обратил, – у мисс Барти большинство учеников составляли девочки, я привык к ним и не робел в их обществе.
Одна из девочек продолжала яростно погонять свой обруч, а другая, та, что была помладше, решила отдохнуть и присела на скамейку. Эта девочка в клетчатой юбочке на лямках была примерно одних со мною лет; она тихо напевала что-то вполголоса. Чтобы не мешать ей, я тихонько опустился на самый край скамейки и принялся рассматривать царапину у себя на колене. Вот она кончила песенку, и наступило молчание; потом, как я и рассчитывал, она с дружелюбным интересом повернулась ко мне.
– А ты умеешь петь?
Я грустно покачал головой. Ведь я не мог правильно и ноты взять; и знал я всего-навсего одну песню, которой пытался научить меня отец: песню о прекрасной даме, умершей в изгнании. Эта девочка с карими глазками и черными кудрями, которым полукруглая гребенка не давала падать на белый лобик, понравилась мне. И мне очень захотелось продолжить с ней разговор.
– Это колесо у тебя железное?
– Ну конечно. Только почему ты говоришь «колесо»? Мы называем это «обручем», а палочку – «погонялочкой».
Мне стало очень стыдно за свою неосведомленность, которая ясно указывала, что я приезжий, и я посмотрел вдаль на подружку моей соседки, которая катила теперь свой обруч прямо на нас.
– Это твоя сестра?
Она улыбнулась кроткой, доброй улыбкой.
– Луиза – моя кузина, она приехала к нам из Ардфиллана. А меня зовут Алисон Кэйс. Мы живем с мамой вон там. – И она указала на крышу большого дома, видневшуюся среди деревьев в дальнем конце деревни.
Еще больше смутившись от допущенной мною новой ошибки и оттого, что она живет в таком хорошем доме, я встретил подбежавшую к нам Луизу вызывающей улыбкой.
– Хелло! – Луиза, слегка запыхавшись, с большим мастерством остановила прямо подле нас свой обруч и вопросительно посмотрела на меня. – Откуда ты взялся такой?
Ей было лет двенадцать; у нее были длинные льняные волосы, которые она то и дело отбрасывала назад с таким высокомерно важным видом, что мне сразу захотелось чем-то блеснуть перед ней, показать, что и мы с Алисон чего-нибудь стоим.
– Я приехал вчера из Дублина.
– Дублина? Господи боже мой! – И она добавила своим певучим голоском: – Ведь Дублин – это столица Ирландии. – Потом, помолчав немного, спросила: – Ты там и родился?
Я кивнул, с удовольствием подметив, как загорелись ее глаза.
– Ты, значит, ирландец?
– Я и ирландец, и шотландец, – не без хвастовства ответил я.
Но на Луизу это не произвело никакого впечатления, и она со снисходительным видом посмотрела на меня.
– Нет, так не бывает – нельзя быть и тем и другим сразу. Странно все-таки, очень странно. – Тут ей в голову, видимо, пришла какая-то мысль, потому что она вдруг сурово поджала губы и с видом инквизитора подозрительно вскинула на меня глаза. – А в какую церковь ты ходишь?
Я высокомерно усмехнулся: ну и вопрос! «Святого Доминика», – хотел было я ответить, но какой-то блеск, внезапно появившийся в ее загоревшихся глазках, пробудил во мне первобытный инстинкт самозащиты.
– В самую обыкновенную. С таким большим шпилем. Она была рядом с нами в Феникс-Кресчент. – Разговор этот взволновал меня, и, решив положить ему конец, я вскочил и принялся «вертеть колесо» – единственное, в чем я мог показать свою сноровку, – трижды перекувырнувшись через голову.
Когда я выпрямился, весь красный от натуги, я встретил обезоруживающий взгляд Луизы, и она сказала так просто, что лучше бы обругала:
– А я было испугалась, что ты католик. – И улыбнулась.
Покраснев до корней волос, я пролепетал:
– С чего ты это взяла?
– Право, не знаю. Но хорошо, что я ошиблась.
Потрясенный этим признанием, я молча уставился на свои ботинки, но особенно озадачило меня то, что в глазах Алисон я прочел что-то похожее на мое собственное смятение. Все еще улыбаясь, Луиза отбросила назад свои длинные волосы.
– И ты приехал сюда насовсем?
– Да, насовсем. – Я говорил, с трудом разжимая непослушные губы. – Если хочешь знать, я через три недели поступаю в Академическую школу.
– В Академическую?! Да ведь это твоя школа, Алисон! О господи, какое счастье, что я ошиблась и ты не католик. В Академической школе ведь нет ни одного такого. Правда, Алисон?
Алисон утвердительно кивнула, не отрывая глаз от земли. Я почувствовал, что у меня защипало веки, а Луиза, присев, весело рассмеялась.
– Нам пора завтракать. – Она решительно взялась за обруч и сказала, вконец уничтожив меня своим веселым состраданием. – Не горюй! Все будет в порядке, если то, что ты сказал, правда. Пойдем, Алисон.
Сделав несколько шагов, Алисон обернулась и через плечо бросила на меня взгляд, исполненный грустного сочувствия. Но я даже не обрадовался – так я был сражен этой страшной и непредвиденной катастрофой. Терзаясь раскаянием, я оцепенело смотрел вслед их удаляющимся фигуркам и очнулся, лишь услышав голос дедушки, окликнувшего меня с противоположной стороны улицы.
Когда я подошел к нему, он улыбнулся мне широкой улыбкой, глаза его блестели, а шляпа была сдвинута набекрень. Мы зашагали в направлении «Ломонд Вью», и он, одобрительно похлопав меня по спине, заметил:
– Я смотрю, ты преуспеваешь с дамами, Роби. Ты ведь разговаривал сейчас с маленькой Кэйс, не так ли?
– Да, дедушка, – пробормотал я.
– Милые люди. – Дедушка говорил самодовольным и почему-то снисходительным тоном. – Отец ее был капитаном «Равальпинди»… до самой смерти. Мать у нее прекрасная женщина, правда немножко болезненная. Она замечательно играет на рояле… А девочка поет, как жаворонок. Что это с тобой?
– Ничего, дедушка. В самом деле ничего.
Он сокрушенно покачал головой и, к моему величайшему смущению, вдруг принялся насвистывать. Свистел он хорошо, звонко и мелодично, нимало не тревожась тем, что свист его разносится по всей улице. А когда мы подходили к дому, он принялся напевать себе под нос:
О любовь моя, красная, красная роза Расцвела пышным цветом в июне[2].
Он положил в рот дольку чеснока и доверительно шепнул мне:
– Только смотри не рассказывай маме, что мы с тобой выпили немножко. Она ужасная придира.







