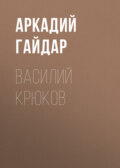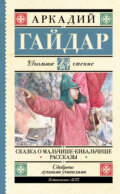Аркадий Гайдар
Повести для детей. Восемь произведений в одной книге
Глава третья
Каждую неделю, в среду, в общем зале перед началом занятий происходила торжественная молитва о даровании победы.
После молитвы все поворачивались влево, где висели портреты царя и царицы.
Хор начинал петь гимн «Боже, царя храни», – все подхватывали. Я подпевал во всю глотку. Голос у меня для пения был не особенно приспособлен, но я старался так, что даже надзиратель заметил мне однажды:
– Вы бы, Гориков, полегче, а то уж чересчур.
Я обиделся. Что значит – чересчур?
А если у меня на пение нет таланта, то пусть другие молятся о даровании победы, а я должен помалкивать?
Дома я поделился с матерью своей обидой.
Но мать как-то холодно отнеслась к моему огорчению и сказала мне:
– Мал еще. Подрасти немного… Ну, воюют и воюют. Тебе-то какое дело?
– Как, мам, мне какое дело? А если германцы нас завоюют? Я, мам, тоже об ихних зверствах читал. Почему германцы такие варвары, что никого не жалеют – ни стариков, ни детей, а почему же наш царь всех жалеет?
– Сиди! – недовольно сказала мне мать. – Все хороши… Как взбесились ровно – и германцы не хуже людей, и наши тоже.
Мать ушла, а я остался в недоумении: то есть как это выходит, что германцы не хуже наших? Как же это не хуже, когда хуже? Еще недавно в кино показывали, как германцы, не щадя никого, всё жгут – разрушили Реймсский собор и надругались над храмами, а наши ничего не разрушили и ни над чем не надругались. Наоборот даже, в том же кино я сам видел, как один русский офицер спас из огня германское дитя. Я пошел к Федьке. Федька согласился со мной:
– Конечно, звери. Они затопили «Лузитанию» с мирными пассажирами, а мы ничего не затопили. Наш царь и английский царь – благородные. И французский президент – тоже. А их Вильгельм – хам!
– Федька, – спросил я, – а почему французский царь президентом называется?
Федька задумался.
– Не знаю, – ответил он. – Я что-то слышал, что ихний президент вовсе и не царь, а так просто.
– Как это – так просто?
– Ей-богу, не знаю. Я, знаешь, читал книжку писателя Дюма. Интересная книжка – кругом одни приключения. И по той книжке выходит, что французы убили своего царя, и с тех пор у них не царь, а президент.
– Как же можно, чтобы царя убили? – возмутился я. – Ты врешь, Федька, или напутал что-нибудь.
– А ей-богу же, убили. И его самого убили, и жену его убили. Всем им был суд, и присудили им смертную казнь.
– Ну, уж это ты непременно врешь! Какой же на царя может быть суд? Скажем, наш судья, Иван Федорович, воров судит: вот у Плющихи забор сломали – он судил, Митька-цыган у монахов ящик с просфорами спер – опять он судил. А царя он судить не посмеет, потому что царь сам над всеми начальник.
– Ну, хочешь – верь, хочешь – нет! – рассердился Федька. – Вот Сашка Головешкин прочитает книжку, я тебе ее дам. Там и суд вовсе не этакий был, как у Ивана Федоровича. Там собирался весь народ и судили, и казнили… – добавил он раздраженно, – и даже вспомнил я, как казнили. У них не вешают, а машина этакая есть – гильотина. Ее заведут, а она раз-раз – и отрубает головы.
– И царю отрубали?
– И царю, и царице, и еще кому-то там. Да хочешь, я тебе эту книжку принесу? Сам прочитаешь. Интересно… Там про монаха одного… Хитрый был, толстый и как будто святой, а на самом деле ничего подобного. Я как читал про него, так до слез хохотал, аж мать рассердилась, слезла с кровати и лампу загасила. А я подождал, пока она заснет, взял от икон лампадку и опять стал читать.
Пронесся слух, что на вокзал пригнали пленных австрийцев. Мы с Федькой тотчас же после уроков понеслись туда. Вокзал у нас находился далеко за городом. Нужно было бежать мимо кладбища, через перелесок, выйти на шоссе и пересечь длинный извилистый овраг.
– Как по-твоему, Федька, – спросил я, – пленные в кандалах или нет?
– Не знаю. Может быть, и в кандалах. А то ведь разбежаться могут. А в кандалах далеко не убежишь! Вон как арестанты в тюрьму идут, так еле ноги волочат.
– Так ведь арестанты – они же воры, а пленные ничего не украли.
Федька сощурился.
– А ты думаешь, что в тюрьме только тот, кто украл либо убил? Там, брат, за разное сидят.
– За какое еще разное?
– А вот за такое… За что ремесленного учителя посадили? Не знаешь? Ну и помалкивай.
Меня всегда сердило, почему Федька больше меня все знает. Обязательно, о чем его ни спроси – только не насчет уроков, – он всегда что-нибудь да знает. Должно быть, через отца. Отец у него почтальон, а почтальон, пока из дома в дом ходит, мало ли чего наслушается.
Ремесленного учителя, или, как его у нас звали, Галку, ребятишки любили. Приехал он в город в начале войны. Снял на окраине квартирку. Я несколько раз бывал у него. Он сам любил ребят, учил их на своем верстаке делать клетки, ящики, западки. Летом, бывало, наберет целую ораву и отправляется с нею в лес или на рыбную ловлю. Сам он был черный, худой и ходил немного подпрыгивая, как птица, за что и прозвали его Галкой. Арестовали его совершенно неожиданно, за что – мы толком и не знали. Одни ребята говорили, что будто бы он шпион и передавал по телефону немцам все секреты о передвижении войск. Нашлись и такие, которые утверждали, что будто бы учитель раньше был разбойником и грабил людей на проезжих дорогах, а вот теперь правда и выплыла наружу.
Но я не верил: во-первых, отсюда ни до какой границы телефонный провод не дотянешь; во-вторых, про какие военные секреты и передвижения войск можно передавать из Арзамаса? Тут и войск-то вовсе было мало – семь человек команды у воинского присутствия, офицер Балагушин с денщиком да на вокзале четыре пекаря из военно-продовольственного пункта, у которых одно только название, что солдаты, а на самом деле – обыкновенные булочники. Кроме того, за все это время у нас только и было одно передвижение войск, когда офицер Балагушин переехал с квартиры Пырятиных к Басютиным, а больше никаких передвижений и не было.
Что же касается того, что учитель был разбойником, – это была явная ложь. Выдумал это Петька Золотухин, который, как известно всем, отчаянный враль, и если попросит взаймы три копейки, то потом будет божиться, что отдал, либо вовсе вернет удилище без крючков и потом будет уверять, что так и брал. Да какой же из учителя – разбойник? У него и лицо не такое, и походка смешная, и сам он добрый, а к тому же худой и всегда кашляет.
Так мы добежали с Федькой до самого оврага.
Тут, не в силах более сдерживать свое любопытство, я спросил у Федьки:
– Федь… так за что ж, на самом деле, учителя арестовали? Ведь это же враки и про шпиона и про разбойника?
– Конечно, враки, – ответил он, замедляя шаг и осторожно оглядываясь, как будто бы мы были не в поле, а среди толпы. – Его, брат, за политику арестовали.
Не успел я подробнее повыспросить у Федьки, за какую именно политику арестовали учителя, как за поворотом раздался тяжелый топот приближающейся колонны.
Пленных было около сотни.
Они не были закованы, и сопровождало их всего шесть конвоиров.
Усталые, угрюмые лица австрийцев сливались в одно с их серыми шинелями и измятыми шапками. Шли они молча, плотными рядами, мерным солдатским шагом.
«Так вот какие они, – думали мы с Федькой, пропуская колонну. – Вот они, те самые австрийцы и немцы, зверства которых ужасают все народы. Нахмурились, насупились – не нравится в плену. То-то, голубчики!» Когда колонна прошла мимо, Федька погрозил ей вдогонку кулаком:
– Газы выдумали! У, немецкая колбаса проклятая!
Возвращались домой мы немного подавленными. Отчего – не знаю. Вероятно, оттого, что усталые, серые пленники не произвели на нас того впечатления, на которое мы рассчитывали. Если бы не шинели, они походили бы на беженцев. Те же худые, истощенные лица, та же утомленность и какое-то усталое равнодушие ко всему окружающему.
Глава четвертая
Нас распустили на летние каникулы. Мы с Федькой строили всевозможные планы на лето. Работы впереди предстояло много.
Во-первых, нужно было построить плот, спустив его в пруд, примыкавший к нашему саду, объявить себя властителями моря и дать морской бой соединенному флоту Пантюшкиных и Симаковых, оберегавшему подступы к их садам на другом берегу.
У нас и до сих пор был маленький флот – спущенная на воду садовая калитка. Но в боевом отношении он значительно уступал силам неприятеля, у которого имелась половина старых ворот, заменявшая тяжелый крейсер, и легкий миноносец, переделанный из бревенчатой колоды, в которой раньше кормили скот.
Силы были явно неравны.
Поэтому мы решили усилить наше вооружение постройкой колоссального сверхдредноута по последнему слову техники.
Как материал для постройки мы предполагали использовать бревна развалившейся бани. Чтобы не ругалась мать, я дал ей обещание, что наш дредноут будет построен с таким расчетом, чтобы его можно было всегда использовать вместо подмостков для полоскания белья.
С противоположного берега неприятель, заметив наше перевооружение, забеспокоился и начал тоже что-то сооружать, но наша агентурная разведка донесла нам, что противник в противовес нам не может выставить ничего серьезного за неимением строительного материала. Попытки же спереть со двора доски, предназначенные для обшивки сарая, не увенчались успехом: семейный совет не одобрил самовольного расходования материалов не по назначению, и враждебные нам адмиралы – Сенька Пантюшкин и Гришка Симаков – были беспощадно выдраны отцами.
Несколько дней мы возились с бревнами. Построить дредноут было нелегко. Требовалось много денег и времени, а мы с Федькой как раз испытывали тогда полосу финансовых затруднений. Одних только гвоздей ушло больше чем на полтинник, а оставалось еще приобрести веревки для якоря и материал для флага.
Чтобы раздобыть все необходимое, мы вынуждены были прибегнуть к тайному займу в семьдесят копеек под залог двух учебников закона Божьего, немецкой грамматики «Глезер и Петцольд» и хрестоматии по русскому языку.
Зато дредноут наш вышел на славу. Спускали мы его уже под вечер. Помогали спускать Тимка Штукин и Яшка Цуккерштейн. В качестве зрителей пришли все ребятишки сапожника, моя сестренка и дворовая собачка Волчок, она же Шарик, она же Жучка – звал ее каждый, как хотел. Плот затрещал, заскрипел и тяжело бухнул в воду. Тотчас же раздалось громкое «ура», салют из пугачей, и над дредноутом взвился флаг.
Флаг у нас был черный с красными каемками и желтым кругом посредине.
Развеваемый слабым теплым ветром, он эффектно затрепыхался – мы снялись с якорей.
Близился закат. Слышалось далекое звяканье бубенцов возвращавшегося стада коз, которых в Арзамасе бесчисленное множество.
На дредноуте были я и Федька. Позади нас, на почтительном расстоянии, плыла наша маленькая калитка, предназначенная быть посыльным судном.
Наша эскадра медленно, сознавая свою силу, выплыла на середину пруда и продефилировала перед чужими берегами. Тщетно мы вызывали противника и в рупор и сигналами – он не хотел принимать боя и постыдно прятался в бухте под полусгнившей ветлой.
В бессильной ярости береговая артиллерия открыла по нашим судам огонь, но мы сразу же поставили себя вне пределов досягаемости орудий противника и спокойно отплыли в свой порт без всякого урона, если не считать легкой контузии картофелиной, полученной в спину Яшкой Цуккерштейном.
– О-го-го! – закричали мы, уплывая. – Что, слабо́ вам выйти навстречу?
– Подождите! Выйдем, не хвалитесь раньше времени, не испугались!
– То-то, оно и видно, что не испугались… Трусы! Немцы несчастные!
Мы благополучно вошли в свой порт, бросили якоря и, крепко на цепь закрепив плоты, выскочили на берег.
В тот же вечер мы с Федькой чуть не поссорились. Мы не договорились заранее, кто будет командовать флотом. На мое предложение командовать ему посыльным судном Федька ответил презрительным плевком. Тогда я предложил ему, кроме этого, быть начальником порта, начальником береговой артиллерии, а также воздушных сил, как только они у нас появятся. Но даже воздушные силы не соблазнили Федьку, и он упорно стоял на том, что хочет быть адмиралом, а в противном случае пригрозил предаться неприятелю.
Тогда, не желая терять ценного помощника, я плюнул и предложил быть адмиралом по очереди: день – он, день – я. На этом мы и порешили.
Мы смастерили два лука, запаслись десятком стрел и отправились в перелесок. В запасе у нас было несколько «лягушек». «Лягушками» назывались бумажные трубочки, сложенные в несколько раз, туго перетянутые бечевой и начиненные смесью бертолетовой соли с толченым углем. Мы привязывали «лягушку» к концу стрелы, один натягивал бечеву, другой поджигал у «лягушки» шнур. Тотчас же стрела взвивалась в небо, и «лягушка», разрываясь высоко в воздухе, металась огненными зигзагами, спугивая галок и ворон.
Перелесок примыкал к кладбищу. Перелесок был густ, весь изрыт ямами, покрыт маленькими прудами. На тенистых зеленых лужайках цвели желтые кувшинки, куриная слепота и рос папоротник.
Вдоволь наигравшись, мы перелезли через каменную стену и очутились в самом отдаленном и глухом углу кладбища. Тишина, нарушаемая только разноголосым щебетом укрывшихся в листве пташек, действовала успокаивающе на наше возбужденное игрой настроение. Пробираясь через пустырь мимо надмогильных холмиков, иногда едва выступавших над землей, мы разговаривали вполголоса.
– Смотри, – сказал я Федьке, – сейчас за поворотом начнутся солдатские могилы. На прошлой неделе здесь похоронили Семена Кожевникова из лазарета. Я, Федька, хорошо помню Кожевникова. Еще задолго до войны, когда я был вовсе маленьким, он приходил к моему отцу. Он один раз подарил мне резинку для рогатки. Хорошая была резинка. Только ее потом мать в печку выбросила – будто бы я камешком у Басютиных стекло разбил.
– А нет, что ли?
– Ну так что ж, что я? Да ведь это же доказать надо было, а то никто не видел, а по одному только подозрению… Какая же это справедливость выходит? Вдруг бы не я разбил, тогда, значит, все равно бы на меня?
– Все равно бы, – согласился Федька. – Они, матери, всегда такие. У девчонок ничего не трогают, а как мальчишкину какую игру заметят, так и выбрасывают. У меня мать две стрелы с гвоздем сломала да потом крысу из клетки выкинула. А один раз еще хуже было… Свинтил я шарик пустой. Знаешь, которые на кроватях для украшения привернуты. Мать как раз в церковь ушла. Сижу себе, достал селитры, угля. Ну, думаю, начиню шарик порохом, а потом в перелеске взрыв устрою. И так занялся делом, что и не заметил, как мать сзади очутилась. «Ты зачем, говорит, шар с кровати свернул? Ах ты, проклятый! А я смотрю, куда у меня шары делись?» Да как треснет меня по башке! Хорошо, что отец вступился. Спрашивает: «Зачем шар взял?» – «Разве, – отвечаю ему, – не видишь?.. Бомбу делать». Нахмурился он: «Брось, говорит, не балуй этакими вещами, ишь какой террорист выискался!» А сам засмеялся и по голове погладил.
– Федька, – сказал я ему спокойно, – а я знаю, что такое террорист. Это – которые бомбы в полицейских бросают и против богатых. А мы, Федька, какие – бедные или богатые?
– Средние, – ответил Федька, подумавши. – Чтобы очень бедные, этого тоже не сказать. У нас как отец нашел место, то каждый день обед, а по воскресеньям еще пироги мать стряпает да иной раз компот. Я беда как люблю компот! А ты любишь?
– И я люблю. Только я кисель яблочный еще больше люблю. Я тоже так думаю, что средние. Вон у Бебешиных фабрика целая. Я один раз был у ихнего Васьки. У них одной прислуги сколько и лакей! А Ваське отец живую лошадь подарил… пони называется.
– У них, конечно, все есть, – согласился Федька, – у них денег очень много. А купец Синюгин вышку над домом построил и телескоп поставил. Огро-о-омный! Как надоест ему все на земле, так и идет Синюгин на ту вышку, туда ему закуску несут, бутылку… И сидит он всю ночь да на звезды и планеты смотрит. Только недавно он на той вышке выпивку со знакомыми устроил, так, говорят, после ихнего просмотра какое-то стекло лопнуло, теперь ничего уже не видать.
– Федька! А почему же Синюгин, например, и на звезды, и на планеты, и всякое ему удовольствие, а другому – фига? Вон Сигов, который на его фабрике работает, так тому не то чтобы на планеты, а просто жрать нечего. Вчера приходил вниз к сапожнику полтинник занимать.
– Почему?.. Вот еще… почем я знаю? Ты спроси у учителя или у батюшки.
Федька помолчал, сорвал на ходу ветку душистого одичавшего жасмина, потом добавил уже тише:
– Отец говорил, что скоро все будет наоборот.
– Что наоборот?
– Все как есть. Я, Борька, и сам еще хорошо не разобрался. Я будто бы спал, а на самом деле нарочно, а отец с заводским сторожем разговаривал, что будто бы опять забастовки, как в пятом году, будут. Ты знаешь, что было в пятом году?
– Знаю, но только не особенно, – ответил я, покраснев.
– Революция была. Только не удалась. Это значит, чтобы помещиков жечь, чтобы всю землю крестьянам, чтобы все от богатых к бедным. Я, знаешь, все это из их разговора услыхал.
Федька умолк. И опять меня взяла досада, почему Федька знает больше меня. Я бы тоже узнал, да не у кого. И в книжках про это ничего не написано. И никто про это со мной не разговаривает.
Дома уже, после обеда, когда мать прилегла отдохнуть, я сел к ней на кровать и сказал:
– Мама, расскажи мне что-нибудь про пятый год. Почему с другими говорят об этом? Федька все интересное знает, а я никогда ничего не знаю.
Мать быстро повернулась, нахмурила брови, по-видимому, собираясь выругать меня, потом раздумала ругать и посмотрела с таким любопытством, как будто бы увидала меня в первый раз.
– Про какой еще пятый год?
– Как про какой? Ты сама знаешь, про какой. Ты вон какая здоровая. Тебе тогда уже много лет было, а мне всего один год, и я вовсе даже ничего не запомнил.
– Да чего же тебе рассказывать? Это у отца надо бы спрашивать, он мастер про это рассказывать. А я в пятом году света из-за тебя, сорванца, не видела. Тоже… такой был деточка, что и не приведи Бог… горластый, крикастый, ни минуты покоя не давал. Как начнешь орать целую ночь подряд, так тут, бывало, про белый свет и про себя позабудешь.
– А с чего же, мама, я орал? – спросил я, немного обидевшись. – Может, я боялся тогда? Говорят, стрельба была и казаки. Может, с перепугу?
– С какого там еще перепугу! Так просто, блажной был – и орал. Какой у тебя тогда мог быть перепуг? К нам с обыском один раз ночью жандармы пришли, и чего искали – сама не знаю. Тогда у многих подряд обыски были. Всю как есть квартиру перерыли, ничего не нашли. Офицер этакий вежливый был. Пальцем тебя пощекотал, а ты смеешься. «Хороший, говорит, мальчик у вас». А сам, будто шутя, на руки тебя взял и между тем мигнул жандарму, а тот стал чего-то в твоей люльке высматривать. Вдруг как потекло с тебя! Батюшки, прямо офицеру на мундир. Ах ты, боже мой! Я тебя скорей схватила, тащу офицеру тряпку. Подумать только! Мундир новый – и весь насквозь; и на штаны попало, и на шашку. Всего как есть опрудил, шельмец этакий! – И мать рассмеялась.
– Ты, мам, вовсе мне про другое рассказываешь, – совсем обидевшись, прервал я. – Я про революцию спрашиваю, а ты ерунду какую-то…
– Да ну тебя… привязался еще! – отмахнулась мать.
Но тут, заметив мое огорченное лицо, она подумала, достала связку ключей и сказала:
– Что я тебе рассказывать буду? Пойди отопри чулан… Там в большом ящике вверху всякий хлам, а внизу целая куча отцовских книг была. Поищи… Если не все он разодрал, то, может, и найдешь какую и про пятый год.
Я быстро схватил связку ключей и бросился к дверям.
– Да ежели ты, – крикнула мне вдогонку мать, – вместо ящика с книгами в банку с вареньем залезешь или опять, как в прошлый раз, с кринок сметану поснимаешь, то я тебе такую революцию покажу, что и своих не узнаешь!
Несколько дней подряд я был занят чтением. Помню, что из двух отобранных книг в первой я прочел только три страницы. Называлась эта наугад взятая книга – «Философия нищеты». Из этой мудреной философии я тогда ровно ничего не понял. Но зато другая книга – рассказы Степняка-Кравчинского – была мне понятна, я прочел ее до конца и перечел снова.
В тех рассказах все было наоборот. Там героями были те, которых ловила полиция, а полицейские сыщики, вместо того чтобы возбуждать обычное сочувствие, вызывали только презрение и негодование. Речь в этих книгах шла о революционерах. У революционеров были свои тайные организации, типографии. Они готовили восстания против помещиков, купцов и генералов. Полиция боролась с ними, ловила их. Тогда революционеры шли в тюрьмы и на казни, а оставшиеся в живых продолжали их дело.
Меня захватила эта книга, потому что до сих пор я не знал ничего про революционеров. И мне обидно стало, что Арзамас такой плохой город, что в нем ничего не слышно про революционеров. Воры были: у Тупиковых с чердака начисто все белье сняли; конокрады-цыгане были, даже настоящий разбойник был – Ванька Селедкин, который убил акцизного контролера, а вот революционеров-то и не было.