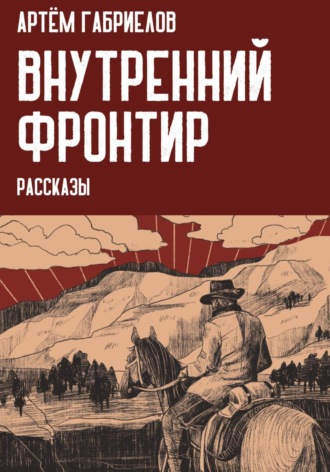
Артём Михайлович Габриелов
Внутренний Фронтир
Рабочий день, к счастью, близился к концу. Нужно было отработать ещё всего один наряд, а в восемь часов всем разрешат разойтись и использовать оставшееся до сна время по своему усмотрению. Отец, наверное, закурит. Она не пойдёт к нему, но хотя бы увидит его, окажется рядом, будет точно знать, что всё в порядке. То сообщение из репродуктора всё ещё звучало у неё в ушах тревожным эхом – но почему, с чего?
Соберись.
Между Пэйт и распределителем Смитом было четыре человека.
Смутное опасение за отца перекинулось на неё саму, и тогда она вспомнила. В её карточке пропущено полтора часа рабочего времени, ведь бригадир в прачечной, влепивший ей пощёчину, не поставил свою подпись! Она достала книжечку, нашла нужную страницу. Точно. И как она могла забыть!
Исправить это было нельзя: текст в карточке хоть и сплошной, без пропусков, но по цифрам Смит обязательно поймёт, что между стойлами и обувным цехом был ничем не занятый отрезок времени. И тогда… Наверное, всё-таки карцер. Со слов отца и других арестантов Пэйт могла живо представить себе карцер. Даже слишком живо.
Подошла её очередь. Встав на цыпочки, Пэйт протянула свою книжку и очень вежливо спросила, не мог бы мистер Смит выдать ей наряд.
Да, сейчас будет карцер. Точно карцер.
А может, и к лучшему, может, в карцер ей и надо? Пока она будет тихо-мирно сидеть там в одиночестве, отец по ней соскучится…
– Плеть!
Весь лагерь замер. Затихли птицы, в небе остановились облака.
– Плеть! – завопил Дерил Смит. – Плеть и ничего больше!
Длинный и нескладный, он стал с артритной медлительностью подниматься со своей кафедры, будто раскладываясь на застарелых шарнирах.
– Час и пятьдесят минут простоя! – гремел он. – Час и пятьдесят минут, и это сейчас, когда наша армия так нуждается в снабжении! Когда враги и предатели почувствовали силу и знай себе тявкают!
Растянувшись, наконец, во весь рост, он расстегнул пуговицу на воротнике, обнажив бледную пупырчатую шею.
Пэйт была лагерным ребёнком. Мимо карцера и в тени кнута ходят все арестанты. Она знала, что однажды это случится и с ней – её спину тоже рано или поздно украсят багровые полоски. Она стиснула зубы.
Папа, где же ты?..
– Индеец!!!
Пэйт обернулась.
Вдруг исчез деревянный помост. Исчез разъярённый Дерил Смит. Возникли ноги, руки, все куда-то бежали, и она вместе с ними.
Индеец?
Перед Анпэйту расступались взрослые. Они протягивали куда-то руки, ахали, зажимали глаза и рты. Объясните, спрашивала Пэйт одного, другого, скажите, в чём дело, но все лишь отворачивались или строили гримасы.
Чья-то ладонь – грязная, пропахнувшая чернозёмом – прикрыла ей глаза.
Кто-то вытолкнул её вперёд.
Индеец, кричали они, индеец, индеец!
И показывали куда-то вверх.
Оплавленным куском масла солнце медленно стекало по небу за горизонт. В его рыжеватом сиянии вырисовывалась северная стена резервации с четырьмя сторожевыми вышками. На стене между двух вышек-зубцов располагались большие механические часы, но теперь что-то частично заслоняло циферблат, обычно хорошо видный – что-то неопределимое, что-то, чего там быть не должно.
Индеец! Индеец!
Прямо перед часами кто-то положил тыкву…
Нет, бурый кожаный мяч…
Нет.
Отрезанную голову её отца.
Часы показывали половину восьмого.
***
Тот осенний день врезался в память не только Пэйт – его помнил весь лагерь, пока не пришла армия освобождения и самого лагеря не стало. Подобного не случалось там ни до, ни после. Спустя пару дней последний арестант мог без запинки рассказать эту историю во всех подробностях.
Было так.
В половине шестого вечера охранник Эндрю Роджерс мылся в корыте, как вдруг взревел репродуктор номер три и назвал его имя. От неожиданности Роджерс выронил мыло и завалился набок вместе с корытом. Мыльная вода залилась под шкафы и койки, промочила лежавшее рядом полотенце.
Самые ехидные рассказчики в этом месте вворачивали что-нибудь вроде «Он метался по комнате, как ошпаренный индюк».
Репродуктор требовал, чтобы Роджерс немедленно явился на участок. У Роджерса ушло некоторое время на то, чтобы прибраться, надеть форму («Думаете, индюк когда-нибудь показывался неподпоясанным, с расстёгнутым воротником? Да ни в жизнь!»), отдать распоряжения дежурному («Поорал, чтобы душонку свою хилую отвести»), взять пушку («Любил он тыкать стволом во что ни попадя») и добежать до зоны 4А («Видели бы вы, как он бегал – разведя ручонки, как баба!»).
В зоне 4А лупили друг друга трое арестантов, причём один из них размахивал горящей головней, отгоняя тех, кто рвался разнять драку.
Роджерс окрикнул их по форме, и свидетели свары разбежались. На небольшом пятачке остались стоять сам Роджерс с пушкой наизготовку и трое заключённых. Они уставились на него совершенно дикими глазами и… продолжили драться.
Идти на них врукопашную Роджерс не стал, здраво рассудив, что втроём они без труда его одолеют. Через пару минут на шум сбежались другие охранники, и вместе они растащили дерущихся.
От них не добились ни единого вразумительного слова. Их трясли и охаживали дубинками, но те лишь по-звериному рычали и огрызались. Всех троих, и ещё нескольких, что попались под руку, заперли в карцер.
Арестантов, затеявших драку, звали Джордж Колетти (з/к №2/1913), Джейсон Ирвин (з/к №2/3233) и «учёный нигер» Мартин Эванс – это были те единственные, кого казнённый пару часов спустя индеец мог бы назвать друзьями.
О таких происшествиях было положено лично докладывать начальнику охраны. Роджерс как раз и собирался к Чэту Соккету – они условились встретиться в шесть вечера, и Роджерс уже опаздывал.
Из-за этой задержки Роджерс подошёл к прачечной в районе двадцати минут седьмого. Дверь, как и ожидалось, была не заперта. Хотя все работы давно закончились, внутри горел свет. Начальник охраны мог позволить себе включать генератор в неурочное время.
Предвкушая долгожданную встречу, Роджерс вошёл, тихо прикрыл дверь и зашагал через ряды спящих стиральных машин в подсобку. Он был одет с иголочки, только сапоги не стал чистить. Пускай индеец повторит свой трюк – даром, что ли, они позволяют ему курить эту нелепую трубку. Пускай отрабатывает.
– Малыш, извини, там трое ублюдков устроили драку. Вы тут без меня не скучали?
Никто ему не ответил.
Роджерса насторожил гул стиральной машины, доносившийся из подсобки. Он ускорил шаг. Возможно, перешёл на бег. Когда Роджерс вошёл, ему открылось безумное зрелище.
На этом месте бывалые рассказчики брали паузу.
На полу напротив стиральной машины сидел индеец – сложив ноги и упершись руками в колени. Кругом были разбросаны останки его реликвии: каменная чаша трубки разбилась на несколько крупных осколков, черенок разломился надвое. На осколках мяслянисто поблескивала кровь.
Индеец сосредоточенно смотрел на машину, будто бы приводя её в действие силой мысли. Нехотя он перевёл взгляд на Роджерса и произнёс всего три слова.
Индеец сказал: «Я его очистил».
Мы не знаем, как долго Эндрю Роджерс переваривал эти слова, но мы точно знаем, что когда он подошёл к стиральному агрегату и заглянул в окошко, то завизжал так пронзительно, что его услышала половина лагеря.
Отец Анпэйту хорошо запомнил, какие кнопки надо нажимать. В машине с максимально высокой температурой воды отстирывался Чэт Соккет, начальник лагерной охраны.
***
Отца казнили на месте, не потрудившись даже поставить штамп на типовой приказ.
От отца осталось всего ничего: маленький осколок каменной чаши, который Анпэйту с тех пор носила у сердца, и по-индейски скупые прощальные слова, переданные ей через друзей: «Трубка для человека, не человек для трубки. Я понял это только с твоей помощью. Береги себя. Вполне возможно, ты последняя из нас».
И ещё: «Митакуйе ойазин», что значит «Да пребудет вечно вся моя родня, все мы до единого».
***
Когда-то давно она, возможно, сомневалась. Возможно, когда-то ей и приходило в голову, что отец всё выдумал – что вольных детей природы, сильных и свободных икче вичаза никогда не существовало в действительности.
Но не теперь.
Сомнения исчезают, стоит ей взглянуть на осколок трубки и сжать его сильно – так сильно, чтобы грани впились в кожу; так сильно, чтобы выступила кровь.
Интермедия I
– Авангард – в атаку! – хрипит старый генерал.
Драгуны пришпоривают коней. Кавалерия прокатывается вдоль вражеских рядов и сминает пехоту противника.
– Пушки! – командует генерал. – Пушки, пушки!
Из зарослей выкатываются дула орудийных стволов.
– Огонь! Стреляй, касатики! – надрывается генерал, готовый швырять ядра в супостата хоть голыми руками.
Вражеские редуты разносит в щепки, пыль стоит столбом. Сражение выиграно!
– Молока! – велит генерал, охрипший от крика. – Молока, живо! Ротозеи!
После сражений ему страстно хочется молока.
Слуга приносит кружку, дожидается, пока генерал выпьет, и ведёт старика спать, пока тот бормочет приказы, имена офицеров и неясные проклятия.
– Всех поставлю на карачки…. На карачки… Всех!..
Другие слуги собирают с пола исцарапанных оловянных пехотинцев, знаменосцев и барабанщиков, пушки и обозы, лошадей и горнистов.
Слуги знают – завтра всё повторится вновь. Злополучное сражение, стоившее генералу рассудка, разыгрывается каждый божий день, такой уж в этом доме порядок.
Ненужные вещи
Да, эт правду говорят, что Билли Каннингем содрал себе с лица всю кожу бритвой. Чистая правда, миста, я тому свидетель.
Только вы и половины не знаете, чего тут у нас творилось.
С нашим братом мало охотников поболтать, но вы, кажись, без предрассудков, миста – так выслушайте. Я расскажу всё без прикрас и кратко, да ещё с моралью в конце, не хуже, чем в басенке. Солнце высоко, настоечка ваша смерть как хороша, да и неплохо бы мне передохнуть, уже не мальчик.
Записывать будете, миста? Для книжки, что ли? А пожалуйста, не возражаю.
Ну, так эт всё со старшего Каннингема началось – хозяин наш бывший, Джозеф Каннингем. Он тогда был на плантации главный.
А вы, миста, хоть не тутошный, но всяко слыхали о том Каннингеме, который Роджер. Слыхали, точно говорю. Эт который ещё ногу свою похоронил. Неужто не знаете?
Ногу ему на прошлой войне ядром оторвало по самый огузок. Так этот строптивец не поленился, сберёг её, привёз домой и велел схоронить со всеми почестями. Да! Что вы! Тот ещё был балаган! Спросите меня, миста, так я вам прямо скажу: не всякий покойник того заслуживает, чтобы отвлекать людей от дел и битый час читать им жалостливые стишки из Библии – не всякий цельный покойник, а тут нога, отдельная! Ну такой вот был человек, ничего не попишешь.
Да. А Джозеф Каннингем, наш бывший хозяин, он, стал быть, его сынок.
А когда, значится, затеяли эту новую войну, тут по всей округе стали колесить рукретёры – эт которые в армию людей рукретируют, ну. Их воля, они бы и меня внесли в списки – страсть как любят людей в списки вносить, да только какой от старика толк на войне, если только он, скажем, не дохтур. А вот многих молодых с плантации забрали.
Мы, конечно, ждали, что сам-то хозяин ни на какую войну не поедет, откупится – с его-то деньжищами он мог хоть от дюжины рукретёров откупиться. Куда там! Записывайте, говорит, и меня! Желаю, говорит, исполнить гражданский долг. Это плантатор-то! Вы можете себе представить? Вчера ещё бушевал, как Сатана, если ему кофе подали не того нагреву или там бороду подстригли неровно, а тут нате – поехал гнуть спину на фронте, копать окопы или чем там занимаются, не знаю…
И ладно бы он один поехал – всяк белый человек себе хозяин. Да только он и сына прихватил, старшего, того самого Билли – из трёх сыновей он единственный в армию годился. Билли на войну не хотел, но беднягу никто не спрашивал.
Сели они с отцом, значится, в кибитку, приладили сзади флаг да поехали воевать. Для нас, миста, это был истинный праздник. Даже не верилось, что этот Навуводоносер уехал. Эт за что ж такое счастье-то? Вы человек учёный – что на иных плантациях делается, не мне вам рассказывать, а хозяин был из тех самых плантаторов, из жестоких.
Только пыль за кибиткой осела, жизнь у нас по-новому пошла. Старому управляющему хозяйка дала расчёт, а на его место взяла какого-то городского модника. Хозяйка его интересовала до крайности, а вот плантация ему была до известного места, и все от нас отстали – работаете, мол, и ладно. Хорошее было время, да жаль, недолго…
Через полгода с войны возвращается Билли. Один, без отца. Целый-невредимый, но как будто немой. Говорить отказывается. А в сумке у него письмо от ихнего командира: так мол и так, сержант Джозеф Каннингем был убит на задании. Сына его, рядового Уильяма Каннингема, отправляем домой, потому как он нервически потрясённый и к несению службы непригоден.
Такие дела, миста.
Вы ещё не заскучали? Ежели я что излагаю, так неспроста, щас сами увидите. К фляжке вашей позволите приложиться? Ай, спасибо.
Значится, Джозефа, хозяина нашего, на войне убили. Хозяйка как узнала, стала сама не своя. Человек он вообще-то был злой, холодный. Не только рабынь поколачивал, хозяйку тоже, когда думал, что никто не видит. Уж не знаю, какие могли быть резоны любить Джозефа Каннингема – сдаётся мне, что никаких, – да только у бедной женщины всё в голове перепуталось.
Уйму денег она сразу в церковь отдала, чтобы там приладили табличку с их фамилией. Всё увешала мужниными картинками, даже статую ему у большого дома поставила, будто он президент был или пионер-первопроходец. Всем говорила, что муж её был лучший из людей, прям образчик мужа и отца. Хорош образчик! Ну, да оно понятно – мёртвого любить не штука, ты поди-ка его живым люби, когда он мельтешит у тебя перед глазами. А умер – так ряди во что хошь.
Теперь слушайте внимательно, миста. Чуть погодя, значитса, пришла из армии посылка с вещами покойного Джозефа. Деревянный ящик такой, бечёвка, штемпель – чин по чину.
Значится, что там лежало… Во-первых, бритва, ей ещё его деда Роджера брили. Карманные часы Джозефовы, серебряные. Трубка его, вычурная такая, с ангелом. И косточка… Как это по-научному… Ну, вот эта. Точно, миста – фаланга! Фаланга пальца, которым, значитса, сержант Каннингем нажимал на спуск винтовки, выполняя долг. Волосы и кости погибшего, понятно, идут на нужды родины: волосы на сукно для палаток, костная мука на хлеб. Короче говоря, ничего особенного. Особенное, миста, потом началось, да.
Эти вещи хозяйка раздала своим мальчишкам, как ей городские кумушки присоветовали – чтобы, мол, «продолжали традиции». Старший, Билли, получил бритву, средний, Фред, – трубку, а маленькому Джонасу дали часы, потому как в них попала пуля и они не ходили. Наверное, это та самая пуля, что хозяина и прикончила. А кость пальца осталась у миссис.
Лежало бы всё это добро в комоде у хозяйки между веерами да щётками, ничего не случилось бы! Только что теперь об этом думать…
Позвольте ещё глоточек, миста, – сейчас самое оно и начнётся.
С кого начать-то? Видать, с Джонаса, с младшего. В общем, до того, как ему дали часы, парнишку считали недоделанным. Идиотом. Конечно, слово эт было запретное, да только запрещай – не запрещай, а он с детства был тупой и страшный: глаза пустые – смотришь в них всё равно что в лужу, рожа сикось-накось и говорит, как младенец, «ка-ка» да «пи-пи».
Если такой рождается у рабов, от него живо избавляются, ну а хозяину плантации каково иметь такого сына? Джентльмену! Он, может, и рад бы сплавить это недоразумение по реке, как младенца Моисея, да нельзя. Ну и рос мальчишка, как сорняк: слонялся по округе, бил посуду, пену изо рта пускал и всё служанок подлавливал. Выскочит из-за угла и кажет свой корешок – гляди, мол, девка, чего выросло.
Но что бы вы думали, миста? Как вручили ему часы, c ним прям чудо случилось, преображение. Цельными днями он на них пялился, – а они ведь даже не ходят, – пялился и шлёпал губами, будто разговаривал с ними. А потом и впрямь заговорил!
Вы так на меня не смотрите, миста – мои слова вам кто хошь подтвердит. Через месяц, самое большее, этот бывший идиот уже расхаживал по плантации и орал: «Прорыв! Атака! Пли!». Недели через две – заговорил связно! А вдобавок ещё как-то вытянулся, раздался в плечах, и сделался такой детина, какому никто не указ.
Хозяйка-то – бедная женщина, вот уж кто настрадался! – сперва всё радовалась. Ещё бы, сынишка исцелился, в разум вошёл. То-то было б радости отцу, жаль, не дожил. Да только очень скоро малыш Джонас уже гонял её по хозяйству, как рабыню, разве что не бил. Нового управляющего он выдернул из матушкиной постели, пинками выгнал за ворота и взял тут всё в свои руки. Ему ж четырнадцать лет всего было, но до того он стал здоровенный и жуткий, что никто слова поперёк не смел сказать. Даже взрослые белые мужики на него лишний раз глядеть боялись.
Страшное время пришло, миста. Работать заставляли ещё больше, чем раньше, а за любую малость били смертным боем.
Вдобавок Джонас играться с нами стал. Ну вроде как солдатики мы игрушечные. То построит он нас перед домом и давай ходить вдоль ряда и бить по головам – прислушивался, у кого как черепушка звенит. То погонит наперегонки или велит, чтоб дрались на кулаках.
Всех заново пересчитал, потом стал делить нас на сорта, как фрукты или овощи: на мужчин и женщин, потом на старых и молодых, на сильных и слабых, на спесивых и смирных, и всё эт записывалось в отдельную книжку. Думать не хочу, что он собирался делать с нами дальше, если бы его не остановили. Но эт я уж вперёд забегаю.
Есть там у вас ещё настоечка, что ли? Премного благодарен, миста. Это ж всё на моих глазах творилось. Как вспомню, в дрожь бросает…
Так вот. Это, значится, младшенький. А среднему, Фреду, досталась отцовская трубка. Ох и красивая вещица, миста! Фигурка такая, ангел в белых одеждах, а на конце труба. Мне аж завидно было видеть хозяина с этой трубкой. Всё думал я, старый пень, вот если привалит вдруг счастье и стану свободным – из кожи вон вылезу, а найду где-нибудь мастера, чтобы вырезал мне такую же! Да…
И тут понимаете, какая штука: малыш Джонас, когда ему дали часы, обозлился как бы наружу, а Фред, наоборот, как бы внутрь.
Стал он уходить из дому почитай что каждый день, как петух пропоёт. Посылали за ним и находили: то он на краю обрыва сидит, трубкой пыхтит и пялится перед собой, то дерево ножичком режет, а бывало выроет ямку в земле, ляжет, обхватит себя руками и лежит – и дышит часто-часто, как сурок. Решили, что это он из-за отца переживает, да только дело было куда серьёзнее.
Как умер хозяин, к Каннингемам стали часто заезжать с визитами. Что ни день – на тебе, прискакали, встречай их – угощай. Это уж как водится: если кто в семье нашёл вечный покой, так живых в покое не оставят, да.
Особливо часто заезжали Риверсы, с соседней плантации. Фред положил глаз на дочку ихнюю, Сэйди. Хорошая такая девчушка, тихая, не заносчивая, всегда с книжкой. И он ей тоже глянулся. Её вообще-то с Билли женихать хотели, но Билли как с войны вернулся, носа за порог не казал, какая уж тут женитьба…
И вот уже Сэйди с Фредом стали убегать из дома, когда пешком, а когда на лошадях, и встречаться где-то в чистом поле. Можете представить, миста, что тут творилось: и дома-то их запирали, и слуг-то к ним приставляли, хоть бы хны. Оно и понятно: молодая кровь!
Но потом что-то между ними случилось – вроде как поссорились, и бегать друг к дружке перестали. А через недельку-другую Сэйди как-то вышла из дому и не вернулась. Подумали на Фреда – хвать! а его и след простыл.
И Риверсы, и Каннингемы всех на уши подняли, даже рабов, кого не боязно было на поиски послать. Я тоже искал.
Я их и нашёл, миста, нашёл обоих на третий день. Другие не подумали заглянуть в старый рудник – мол, не станут молодые господа спать на голом камне, не к тому они привыкши. Да и рудник далеко, подмётки стопчешь. А я вот не поленился, пошёл туда на свою беду, да…
Такое, миста, не забывается. Такое в бутылке не утопишь. Вхожу я, значится, с фонарём, окликаю молодого хозяина и вижу: лежит он себе в углу пещеры, зверь зверем, рядом – костерок погасший и вертел, и на вертеле мясо. Миста Фред, говорю, шли бы вы домой, все ж беспокоятся. А где, спрашиваю, мисс Риверс?
А он достаёт револьвер – стащил у кого-то из наших ковбоев, – эдак им поигрывает и говорит… Спокойно так говорит… Упаси Господь такое услышать, миста.
«Не бойся, – говорит, – старик, чести я её не порушил. Сладко было отрезать от нее кусочек за кусочком, нежная на вкус была, а что не любила – так от этого только слаще. Жаль, это у меня в последний раз».
Слушаю его, а о чём толкует, не разберу. Я ж и подумать не мог, что мясо на вертеле это девочка Риверсов и есть! Он съел её, миста! Изжарил на костре и ел все эти три дня!
Стою я перед этим мальчишкой, и хоть живу дольше него в четыре раза, а страшно – смерть! А он затянулся напоследок из той самой отцовской трубки, револьвер поднял, ткнул себе в подбородок да и выстрелил. Я где стоял, там и рухнул, прям на камень.
Вот так-то, миста… Вот так-то…
Как с таким назад вернёшься? Я даже думал, бежать, что ли, на Север, но далеко не убегу, в мои-то годы. Как обратно шёл, не помню. Рассказал всё. Джонас меня выпороть велел, да… Несколько дней я в хлеву лежал в лёжку, а врачевать меня запретили…
Там настоечка-то осталась ещё, миста? Спасибо…
Дослушайте, немного осталось.
В общем, схоронили Фреда в семейном мавзолее, не в земле. Побоялись, что родители девочки могилу осквернят. Священника пришлось аж из города выписывать, местный пастор мальца отпевать отказался. Страшно сказать – людоед, и самоубийца к тому же… Трубку положили в гроб – все знали, что Фред с ней не расставался. Но спокойно ему там лежать было не суждено, и вовсе не из-за Риверсов, как можно было подумать.
Как Фреда схоронили, малыш Джонас вдруг притих, не видно его было день или два. А потом – что бы вы думали – нагрянул он в мавзолей, сторожа прогнал, а сам киркой расколотил плиту, открыл гроб собственного брата, да трубку эту проклятую с его тела и стащил.
Ну, тут уж самые твердолобые заподозрили, что дело нечисто.
Но вы помните, миста, что с войны прислали ещё палец, фалангу! Преподобный Риз, из тутошной церкви, выпросил эту фалангу у миссис Каннингем. Думается, обидно ему было, что в его церкви ни обломка ковчега, ни даже туфельки святого старца. А тут останки бравого воина, уважаемого человека! Положили косточку в стеклянный ящик и на видное место в церкви поставили – чтоб, значится, всякий мог полюбоваться.
И что бы вы думали? И с преподобным тоже… началось.
Человек он был вообще-то мирный, скромный, всё про жалостливое рассказывал и нашего брата-раба привечал. А тут его как подменили. В церкви стал всё больше про потоп, Содом с Гоморрой, казни египетские, побивание младенцев и ещё всякое сказывать, да такое жуткое – даже и не поверишь, что оно взаправду из Библии. Народ стал в церковь набиваться, как на праздник, даже под окнами толпились, слушали. Преподобный заважничал, ходит фатом, глаз блестит.
Но кости ему было мало. Удумал он и остальные вещи Каннингема заграбастать. Пришёл к хозяйке. Так, мол, и так, извольте отдать реликвии церкви, там они нужнее. Вы бы его видели – толкует о реликвиях, а у самого руки трясутся, как у пьяницы, который в баре кредит выпрашивает. А Джонас как услышал, что у него хотят часы с трубкой отнять, так и вышвырнул преподобного вон.
Ну, преподобный такого не стерпел. Да и как он мог стерпеть? Он же уже был того – тронутый, вещами-то этими.
На следующей мессе он стал прямо бушевать. Каннингемы впали в грех! Оскверняют память своего отца-героя! А если кто сомневается, что вещи Каннингема благодатные, то могут хоть щас прикоснуться к его мощам – к фаланге, то бишь – и убедиться.
Я своими ушами всё это слышал, миста, я там был! Я как раз оправился после той порки и решил сходить глянуть, что там такое пастор людям говорит, что всем так невтерпёж послушать. Но трогать кость я не стал. Ну ж нет! Была б жива моя старуха, ей бы точно стало любопытно, а сам я не стал. Посмотрел на всё на это и ушёл подобру-поздорову.
А те, кто косточку-таки потрогал – то есть почитай все, кто был тогда в церкви – они как рехнулись. Преподобный велел им пойти к Каннингемам, да и отнять у них святые вещи – трубку, бритву и часы. Слуги знали владения Каннингемов, у кое-кого были ключи от ворот. Да…
Это резня была, миста. Настоящая резня.
За преподобного пятьсот долларов посулили, за живого или мёртвого. Его потом в соседнем штате нашли. Сказывают, что он сидел в гостинице и, видите ли, писал письмо президенту. Требовал прислать батальон, чтобы отбить с плантации Каннингемов священные вещи и отправить нашим парням на фронт – они бы их трогали и зверели, чтобы лучше воевать, да.
А ещё писал – не может быть, чтобы благодать сошла только на вещи одного-единственного Джозефа Каннингема. Надобно разрывать могилы всех наших солдат, вытаскивать оттуда любые вещи и раздавать народу – авось ещё что-нибудь найдётся тоже священное. Он уж потом, в тюрьме, пришёл в себя и покаялся, но от петельки это его не спасло.
Ну а Билли… Малыш Джонас, бывший идиот, взял плантацию в свои руки, Фредди лежал в гробу, а о старшем сыне все подзабыли. Он как с войны вернулся, из дому почти не выходил. Мы его толком и не видели, а если видели, то глазам не верили – призрак был, не человек.
В ту ночь, когда преподобный послал людей громить усадьбу, Билли на шум не вышел. И когда внизу дрались, не вышел, и даже когда какая-то шельма запалила шторы и начался пожар.
Оружия-то у них не было, шли с тем, что нашли по дороге: с ножичками, палками, дубинками. Вот с дубинкой Делайла и влезла к Билли в окно. Делайла прачкой была, ну и по этой самой части, когда хозяин был жив. Шибко набожная была, любила голосить псалмы по воскресеньям…
Комната Билли на третьем этаже большого дома, окошко – аккурат возле башенки, а на ту башенку при желании даже ребёнок может залезть. Билли как увидел, что Делайла лезет к нему в окно, так схватил со стола подсвечник, такой, знаете, со штырём посередине, да и засадил ей в глаз, она тут же и померла, в момент.
А потом… Не знаю, миста, как объяснить то, что он сделал, эт вы сами решайте. Он, значится, оставил мёртвую Делайлу где была, и пошёл в ванную на том же этаже. Взял отцовскую бритву и стал бриться. А как добрил, вытер лезвие об полотенце и стал скрести дальше – аж в дрожь бросает, как представлю, миста. Он всё мясо себе с лица соскоблил.
Когда за ним пришли, увидели, что зеркало разбито кулаком, и лежит этот несчастный, с месивом вместо лица, ревёт и плачет – не то от боли, не то от чего-то похуже…
Так вот дом Каннингемов и кончился. Джозефа убили на войне, Фред застрелился, Билли изуродовал себя и скоро загнется. Что до малыша Джонаса, то у него отняли часы и трубку, он присмирел и снова стал мычать да блеять. Эт и к лучшему – так и так он ничего хорошего не говорил. И это ещё не забыть бедняжку Сэйди Риверс, преподобного Риза и многих, кто погиб на плантации в ту жуткую ночь. Много зла случилось, много…
Я вам обещал мораль, миста, но вы, кажется, и без меня всё поняли. Слава Богу, людям хватило разумения оставить чёртовы вещи в покое. Мне поручили спрятать их, закопать – ведь я могильщик. Да и не соблазняют меня такие штуки.
Вот докопаю яму, сложу туда трубку, бритву, и часы, и палец, засыплю их землицей, разровняю и никому не скажу, где лежат.
И вы, миста, не говорите. Не надо.



