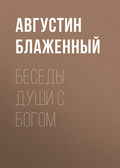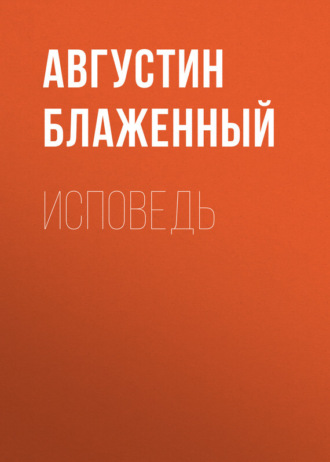
Блаженный Августин
Исповедь
Книга пятая
ГЛАВА I
Прими жертву мою, приносимую языком моим, который Ты сотворил и побудил исповедать имя Твое. «Все кости мои скажут Господи! кто подобен Тебе?» (Пс. XXXIV, 10), ибо исцелены. Что нового может сказать Тебе человек, исповедуясь пред Тобою: открыто Тебе сердце его; Тебе ведома жестокость его, которую Ты смягчаешь, когда хочешь, милостиво прощаешь или караешь, ибо «ничто не укрыто от теплоты» Твоей (Пс. XVIII, 7). Хвалит Тебя душа моя, желая возлюбить. Хвалят Тебя все творения Твои, всякая душа, обратившаяся к Тебе, все живое и неодушевленное устами созерцающих их. Да воспрянет душа от усталости, да взойдет к Тебе через творения Твои, дивно Тобою сотворенные, да обновится у Тебя и станет сильной.
ГЛАВА II
Пусть бегут от Тебя нечестивцы; Ты видишь их и различаешь эти тени и призраки. И в то же время – все у Тебя прекрасно, хотя они – позор и нечестие. Чем могут они повредить Тебе, чем обесчестят власть Твою, справедливую от небес и до края земли? Куда бегут, скрываясь от лица Твоего? Где найдешь Ты их? Они бегут, чтобы не видеть Тебя, видящего их, и в слепоте своей наткнутся на Тебя, ибо Ты не оставляешь творений Своих. В неправде своей они наткнутся на правду Твою, дабы понести наказание; не видя милосердия Твоего, они узнают справедливый гнев Твой. Ибо Ты повсюду, и нет такого места, где бы не было Тебя; они бегут от Тебя, но Ты всегда рядом, ибо создания Твои могут оставить Тебя, но Ты не оставляешь Своих созданий. Пусть же обратятся они к Тебе, пусть взыскуют Тебя-и вот, Ты уже в сердцах исповедующихся Тебе, плачущих на груди Твоей после долгих скитаний своих. И Ты, милосердный, отираешь слезы их. утешаешь и обновляешь. Где же был я, когда искал Тебя? Ведь Ты был радом, я же – далеко, но не от Тебя, Господи, а от себя; я не находил себя, а потому не мог найти и Тебя.
ГЛАВА III
Расскажу теперь пред лицом Господа моего о замечательном двадцать девятом годе жизни моей[11]. В этот год прибыл в Карфаген известный епископ манихеев по имени Фавст, могучий ловец диавольский, многих прельстивший своим красноречием[12]. Но я искал не красивых слов, а знаний, которыми, как сообщала молва, блистал Фавст, будучи сведущим не только в высоких учениях, но и в свободных науках. К тому времени я прочел немало книг разных философов и, сравнивая их положения с бесконечными манихейскими баснями, начал приходить к выводу, что слова тех, у кого хватило ума исследовать временный мир, хотя они и не обратились к Господу, звучат убедительней. «Высок Господь, и смиренного видит, и гордого узнает издали» (Пс. CXXXVII, 6), но приближается лишь к смиренным; гордецы же далеки от Тебя, хотя бы и сочли они все звезды на небе и все песчинки в море, проследили и измерили пути светил. Они исследуют, руководствуясь разумом и способностями, дарованными Тобою; им уже удалось немало найти, предсказать на многие годы вперед солнечные и лунные затмения, и их расчеты и предсказания неизменно сбываются. Дивятся неосведомленные, ликуют и кичатся знающие, в нечестивой гордыне своей удаляясь от истинного Света: они предвидят будущие затмения светил, но не могут увидеть собственного затмения, происходящего с ними уже сейчас. Они не вопрошают благоговейно, откуда у них эти способности, и даже поняв, что Ты создал их, они не вручают себя Тебе, дабы Ты сохранил их, не приносят в жертву Тебе ни мыслей своих, парящих в вышине наподобие птиц небесных, ни любопытства, блуждающего глубинными тропами наподобие рыб морских, ни распутства, в коем уподобляются полевым скотам, дабы Ты, Господь, «огнь поядающий, Бог ревнитель» (Втор. IV, 24), уничтожил их мертвенные заботы, обновил их для жизни вечной.
Они не познали пути Слова Твоего, Которым Ты создал и исчисляемое, и исчисляющих, и чувства их, с помощью которых они различают исчисляемое, и разум, с помощью которого они исчисляют, ибо «разум Его неизмерим» (Пс. CXLVI, 5). Единородный же Сын Твой сам стал для нас мудростью, праведностью и освящением, хотя и был как один из нас и платил подать кесарю. Они не познали этого пути, чтобы спустившись от себя к нему, через него подняться к Тебе. Они думали, что исчисляя звезды сами сияют среди них; и вот рухнули они, и омрачились их безумные сердца. Много верного сообщают они о твари, Творца же не ищут, а потому и не находят. А если некоторые из них и находили, то «познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце: называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся… Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись и служили твари вместо Творца» (Рим. 1,21 – 2 5).
Но было у них сказано много верного о природе, их разумные объяснения подтверждались вычислениями, сменой времен, движением звезд. Я сравнивал все это со словами Мани, приведенными в его многочисленных сочинениях, и не находил ни одного стоящего рассуждения ни о солнцестояниях, ни о равноденствиях, ни о затмениях, ни вообще о чем-либо таком, о чем говорилось в книгах мирской премудрости. Нам предписывалось верить тому, что никак не соответствовало ни доказанному и подтвержденному строгими вычислениями, ни тому, что видели мои глаза; более того, многие положения были этому прямо противоположны.
ГЛАВА IV
Неужели же тот, кто обогатился подобными знаниями, тем самым угоден и приятен Тебе, Господи, источник всякой истины? Несчастен тот, кто все это знает, а Тебя не знает; блажен, кто знает Тебя, хотя бы он и не знал ничего другого. Ученого же, познавшего Тебя, сделают блаженными не его науки, а если он, «познав Тебя, как Бога, возблагодарит Тебя и не осуетится в умствованиях своих». Куда лучше иметь дерево и разумно пользоваться плодами его, возблагодарив Создавшего его, и не знать при этом его высоты и ширины, чем знать, как измерить его и сосчитать ветви, но не иметь его и не любить Создавшего его. Так и праведным принадлежит весь мир; «они ничего не имеют, но всем обладают» (II Кор. VI, 10), прилепившись к Тому, от Кого – все. Пускай они не знают, где находятся септентрионы[13] – неужто от этого им хуже, чем тому, кто измеряет небо, считает звезды, взвешивает вещества, но при этом пренебрегает Тобою, расположившему все мерою, числом и весом?
ГЛАВА V
Кому нужно было, чтобы какой-то Мани писал о том, без познания чего можно обучиться благочестию? Ты ведь сказал человеку: «Вот, страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум» (Иов. XXVIII, 28). Поэтому, даже в совершенстве овладев наукой, можно быть неразумным. Однако, он был невежествен и в науках, осмеливаясь при этом поучать. О самой же мудрости, разумеется, он не знал ничего. Проповедовать мирское знание, даже хорошо известное, дело суетное, исповедовать Тебя – благочестивое. Последнего он не делал, в первом же был опровергнут учеными мужами. Но он горделиво отвергал любое недоумение, утверждая, что Дух Святой, утешитель верных Твоих, обитает в нем во всей полноте Своего авторитета. Его уличили в лживых утверждениях о небе и звездах, о движениях солнца и луны; хотя все это далеко от предметов веры, но и в этом видна кощунственность его проповедей. Ведь мало того, что он пустословил о том, чего не знал, но при этом еще старался приписать свои измышления как бы божественному лицу.
Когда мне приходится слышать, как кто-либо из братии, будучи несведущим в науках, судит о научных предметах вкривь и вкось, я отношусь к такому снисходительно, ибо вижу, что подобные суждения ему не во вред, если он при этом благоговеет пред Тобою, Господи, Творец всего, и неверно судит лишь о положениях и свойствах телесной природы. Вредным оно станет только в том случае, если он решит на основании этих заблуждений судить о сущности вероучения, осмеливаясь утверждать то, чего не знает. Подобную немощность, впрочем, материнская любовь допускает утех, кто верой еще младенец, ожидая, пока такой «не станет мужем совершенным, дабы не был более младенцем, колеблющимся и увлекающимся всяким ветром учения» (Еф. IV, 13, 14). Кому же не будет ненавистным такой безумец, который, будучи столько раз уличенным во лжи, осмелился проповедовать как такой учитель, вождь и глава, что ученики его думали, будто они следуют не за простым человеком, а за Духом Святым? Впрочем, сам я сомневался, можно ли принять его объяснения смены дней и ночей, затмения светил и многого другого подобного, о чем я немало прочел в других книгах. И даже если бы это оказалось возможным, я все равно остался бы в нерешительности. Но у меня сохранялась еще вера в его святость, он был еще в моих глазах большим авторитетом.
ГЛАВА VI
В продолжение почти девяти лет, проведенных мною в томлениях и колебаниях душевных среди этих людей, я ждал и не мог дождаться прибытия этого самого Фавста, ибо другие манихеи, которые не могли развеять многие мои сомнения, утверждали, что этот человек при личной с ним встрече без труда разрешит самые сложные задачи. И вот, когда он приехал, я нашел в нем человека милого и речистого; его рассуждения о манихейских доктринах звучали умно и приятно. Но к этому времени уши мои уже пресытились такими речами; они не казались мне лучшими лишь потому, что лучше лились, истинными лишь потому, что были красноречивы. Душа оратора не казалась мне более мудрой только потому, что жесты его были изысканны и выражения – уместны. Люди, превозносившие Фавста, оказались негодными судьями: они посчитали мудростью красивые речи. Впрочем, мне известна и другая порода людей: им кажется подозрительной и самая истина, если только ее им преподносят в приятной и пространной речи. Но Ты наставил меня, Господи, дивным и неизреченным образом, ибо кто же еще мог наставить меня, как не Ты, учитель истины. Я узнал от Тебя, что красноречие – это только красноречие, и истина заключена не в нем, хотя и косноязычие – отнюдь не показатель истины. И простая речь бывает лживой, и красноречивая – истинной. Мудрое и глупое – это как пища, полезная и вредная, а слова, изысканные и простые, – как посуда, городская или деревенская, в которой можно подавать любую пищу.
Жажда, с которой я столько времени ожидал этого человека, находила утоление в оживленном ходе его рассуждений, радовали глаз те легкие и красивые одежды, в которые он одевал свои мысли. Я наслаждался вместе с другими, хвалил его с особым усердием, но досадовал, что не могу в толпе задать мучившие меня вопросы, поделиться своими сомнениями и обменяться мыслями, как это бывает в дружеской беседе. Но когда подобный случай представился, что же я увидел? А увидел я человека, совершенно не знавшего свободных наук, за исключением грамматики, да и то в самом скромном объеме. Но так как он прочел несколько речей Цицерона, кое-что из Сенеки, немного поэзии и книги тех манихеев, которые умели хорошо излагать по-латыни, то когда ко всему этому добавилась ежедневная практика в пустословии, отсюда и получилось его красноречие, которое вкупе с изворотливостью ума и большим обаянием делало его речи столь соблазнительными. Так ли вспоминаю я, Господи, праведный судия совести моей? Сердце мое и память открыты Тебе. Ты обратил лицо мое к заблуждениям моим, дабы узрел я их и возненавидел.
ГЛАВА VII
После того, как сей знаменитый манихеи явил мне в полной мере невежество свое в тех науках, в которых все считали его сведущим, я стал уже было отчаиваться в том, что он сможет разъяснить волновавшие меня вопросы. А ведь не будь он манихеем, он вполне мог бы обладать истиною веры, даже ничего не понимая в науках. Книги их были полны всевозможных басен о небе и звездах, о солнце и луне, и мне очень бы хотелось, чтобы он, сравнив все сказанное там с теми вычислениями, которые я почерпнул в других книгах, или доказал, что правильно судят об этом именно манихеи, или, по крайней мере, убедил, что их доказательства не уступают по силе другим. Но когда я предложил ему обсудить эти вопросы, он скромно отказался, не осмеливаясь судить о том, чего не знал; он не принадлежал к тем велеречивым болтунам, которые поучали о том, чего не понимали, и не стыдился сознаться в своем невежестве. Сердце его было «не право пред Богом» (Деян. VIII, 21), но право пред собой. Он знал о своем незнании и не хотел увязать в споре, понимая, что может зайти в тупик Этим он понравился мне еще больше; скромное признание было прекрасней того знания, которое я хотел тогда обрести. Он же, как я заметил тогда, во всех тонких и трудных вопросах вел себя неизменно скромно.
Рвение мое к писаниям Мани охладело окончательно, когда я увидел, что даже знаменитый Фавст оказался несведущим во многих волновавших меня вопросах. Я продолжал с ним встречаться, ибо он страстно увлекался литературой, которую я, карфагенский ритор, преподавал юношам. Я читал с ним книги, или те, с которыми он просил меня его познакомить, или те, что я сам выбирал для него, поняв его вкусы и склад ума. Дружба с этим человеком остудила мои желания подвизаться в их секте, но я и не оставлял их, ибо не находил тогда ничего лучшего, ожидая, когда случай предоставит мне что-либо более заслуживающее внимания. Таким образом Фавст, бывший для многих «сетями смерти» (Пс. XVII, 6), начал, сам о том не подозревая, распутывать те, в которые попался я. Рука Твоя, Господи, в неисповедимости промысла Твоего, не оставляла души моей. Мать моя приносила Тебе в жертву за меня лившиеся денно и нощно из самого ее сердца слезы, и Ты дивным образом поступил со мною. Воистину, «Господом утверждаются стопы человека, и Он благоволит к пути его» (Пс. XXXVI, 2 3). Кто подает нам спасение, как не рука Твоя, обновляющая создания Твои?
ГЛАВА VIII
Итак, в путях промысла Твоего мне было положено, чтобы я отправился в Рим, думая заняться там преподаванием того, что до сих пор преподавал в Карфагене. Что же побудило меня к этому, как не Твоя неисследимая глубина и милосердие Твое, всегда соприсутствующее нам. Ведь не уговоры же друзей, не обещание больших денег и почестей, хотя они тогда еще волновали меня, стали тому причиной; нет, привлекли меня рассказы о том, что в Риме ученики вели себя достойно, сдерживаемые большей строгостью и дисциплиной. Говорили, что там они не смеют шумно и беспорядочно врываться в помещения к чужим учителям, ибо только учитель может открыть доступ в школу. Здесь же, в Карфагене, напротив, в школах царила мерзейшая распущенность. Здесь ученики могли запросто вламываться в школу, шуметь и срывать уроки, нарушать порядок, заведенный учителем для их же пользы. С удивительным легкомыслием наносили они тысячи обид, за которые следовало бы наказывать по закону, но этому противился обычай. Они были тем более жалки, что полагая дозволенным то, что недозволено по вечному закону Твоему, они чувствовали себя безнаказанными, в то время как сами наказывали себя. Когда я сам учился, то избегал таких, став же учителем, вынужден был их терпеть. Поэтому мне и захотелось отправиться туда, где, по рассказам людей осведомленных, ничего подобного не было. Но это был Ты, «прибежище мое и часть моя на земле живых» (Пс. CXU, 5), Который побудил меня ради спасения души моей оставить Карфаген; здесь ты стегал меня бичом, в Риме же расставлял приманки, действуя через людей, любивших эту жизнь смерти. Ты втайне использовал и тех, кто, нарушая покой мой, были ослеплены мерзким безумием, и тех, кто звал меня к лучшему, будучи по-плотски умными, и даже мою развращенность: ненавидя здесь подлинные страдания, я стремился к мнимому счастью.
Ты знал, Господи, почему я оставлял Карфаген, но не подал знака ни мне, ни матери, которая горько плакала, не желая расставаться со мною, и поехала провожать меня до самого моря. Она хотела, чтобы или я вернулся обратно, или чтобы взял ее с собой, но я обманул ее, придумав историю о том, что в ожидании попутного ветра хочу попрощаться с приятелем. Я обманул свою мать (и какую мать!) и сбежал от нее. Но Ты простил мне это, дозволив смыть с себя все мерзости и нечистоты и осушить материнские слезы, которые она, плача обо мне, ежедневно проливала пред лицом Твоим. Она не хотела отпускать меня, и мне с трудом удалось убедить ее остановиться на ночь в часовне св. Киприана, недалеко от моего корабля. В ту же ночь я втайне отплыл, она же осталась, молясь и плача. О чем молила она Тебя, Господи, в ту ночь? Чтобы Ты повернул ветер, не позволив мне уплыть? Но Ты слышал в глубине ее сердца главное желание ее, и исполнил истинную просьбу ее. Подул попутный ветер, наполнив паруса, и родной берег быстро скрылся вдали. Ты увлек меня на голос моих страстей, дабы покончить с ними, а мать мою за ее плотскую тоску секли справедливые розги. Она, как и все матери, любила присутствие сына, и не знала, сколько радости Ты готовишь ей отсутствием моим. Не ведая о том, она стенала и вопила, ибо, дщерь Евы, в стенаниях искала она то, что в стенаниях породила. Пообвиняв меня в жестокости и коварстве, она вновь обратилась к молитвам за меня и вернулась к обычной жизни. Я же тем временем прибыл в Рим.
ГЛАВА IX
Между тем, вскоре меня постигла тяжелая болезнь. Я находился уже на пути к праотцам, неся с собою все зло, которое совершил пред Тобою, перед собою и другими, – великое и тяжкое звено, добавленное к оковам первородного греха, которым мы умираем в Адаме (I Кор. XV, 22). Ты еще не отпустил мне во Христе, ибо Он не упразднил еще на кресте Своем той вражды, которая была у меня с Тобою за грехи мои. В самом деле, не мог же упразднить ее тот бесплотный призрак, в который я верил[14]. Насколько мнимой казалась мне его плотская смерть, настолько же подлинной была смерть моей души, и насколько подлинной была Его плотская смерть, настолько же мнимой была жизнь души, не верившей в эту смерть.
Лихорадка моя все усиливалась, и я неотвратимо шел к погибели. Куда ушел бы я, если бы умер тогда? Конечно же, в муки адовы, достойные дел моих. Мать моя не знала обо всем этом, но усердно молилась за меня. Ты же, вездеприсущий, услышал ее там и вылечил меня здесь, хотя сердце мое все еще оставалось больным. Я ведь отказался принять крещение Твое, хотя будучи мальчиком в подобной же ситуации требовал, чтобы меня окрестили; насколько же лучшим я был тогда! Я вырос на позор себе и, безумный, смеялся над врачеванием Твоим, но Ты, милосердный, не дал мне умереть двойною смертью. Если бы такая рана поразила сердце матери моей, она бы никогда не оправилась от нее. Мне недостает слов, чтобы выразить, как любила она меня: она вынашивала меня в душе своей с куда большею тревогой, чем некогда вынашивала в теле.
Где же были столь горячие и непрерывные молитвы ее? Конечно, у Тебя; «сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже» (TIcL, 19); так, не презрел Ты сердца скромной вдовы, прилежно творившей милостыню и охотно служившей служителям Твоим, не пропускавшей ни одного дня, чтобы не принести жертву к алтарю Твоему, дважды, утром и вечером приходившей в церковь, чтобы услышать Тебя в словах Твоих и быть услышанной Тобою в молитвах своих. И мог ли Ты, Господи, пренебречь слезами ее, просившей не богатства, не каких-либо преходящих благ, но лишь спасения души своего сына? Нет, Господи, нет, Ты находился рядом, слышал ее и сделал так, как было предопределено Тобою. Ты не обманывал ее в ее видениях и снах, некоторые из которых я упомянул, а о многих и не вспомнил. Ты удостоил ее, ибо вовек милость Твоя, простив ей все долги ее. Самому стать ее должником, исполняющим обещания Свои.
ГЛАВА Х
Итак, Ты исцелил меня от этой болезни и сохранил жизнь сыну рабы Твоей, в то время пока еще только телесную, чтобы впоследствии даровать мне жизнь лучшую, духовную и вечную. А ведь я и в Риме сошелся с этими «святыми», обманутыми обманщиками, и на этот раз уже не только с «послушниками», в числе коих был и хозяин дома, в котором я болел и выздоровел, но и с их «избранными». Я все еще полагал, что грешим не мы, а какая-то низшая в нас природа; я раздувался от гордыни, считая себя невинным, а потому согрешив, не исповедовался, не говорил: «Господи! помилуй меня, исцели душу мою; ибо согрешил я пред Тобою» (Пс. XL, 5). Я извинял себя во всем, обвиняя в проступках нечто другое, что хотя и было во мне, но мною не было. Между тем я был цельным существом, но нечестие мое разделило меня, ополчило одну часть меня на другую. Непризнание греха усугубляло грех, и я святотатственно желал, чтобы Ты скорее был побежден во мне, нежели я – в Тебе, во спасение мое. Сколь далек я был, Боже, общаясь с их «избранными», от благочестивой молитвы: «Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих; не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие» (Пс. CXL, 3,4).
Однако, я уже не надеялся найти что-либо стоящее в их лживом учении и довольствовался им за неимением лучшего. Я постепенно начал приходить к выводу, что наиболее разумными были философы, именуемые академиками, полагавшие, что следует сомневаться во всем, ибо истина недоступна вообще. Вместе со всеми я наивно полагал, что именно так они и думали; их намерения были мне тогда непонятны[15]. Поэтому я пользовался любым удобным случаем, чтобы высмеять чрезмерную доверчивость, с которой мой хозяин относился ко всем манихейским басням. Но это не мешало мне быть гораздо ближе к манихеям, чем к тем, кто не принадлежал к их секте. Я уже не был их пылким защитником, но общение с ними делало меня ленивым к поискам лучшего, тем более, что им удалось отвратить меня от Церкви Твоей, Господи неба и земли. Творец всего видимого и невидимого; они убедили меня, что постыдно веровать, будто Ты имел человеческую плоть, был заключен в телесную оболочку. Атак как я вообще не мог тогда представить себе что-либо бестелесное, то это служило главной причиной всех моих заблуждений. Поэтому и зло я мыслил как некую темную и бесформенную величину, то плотную, и тогда она называлась землей, то редкую и тонкую, похожую на воздух, которую они называли злым духом, распростертым над землей. Благочестие мое не могло допустить, чтобы Бог мог сотворить нечто злое, и потому я верил, что существуют два противоположных друг другу начала, вечные и бесконечные, но только элоепо уже, а доброе – пошире.
Эти тлетворные представления влекли за собою и другие мои богохульства. Когда душа моя пыталась вернуться в лоно православной веры, дурные мысли не пускали ее, ибо внушали, что благочестивее верить, что Ты, Господи, чье милосердие сжалилось надо мною, хотя и всемогущ, но всемогущество Твое все же ограничено противостоящей ему громадой зла. Мне казалось, что думать так лучше, нежели полагать возможным Твое телесное воплощений Так как невежество мое считало зло субстанцией, причем телесной и разлитой в пространстве, то я полагал благочестивым верить, что Ты не создал этой субстанции и не от Тебя произошло то, что я считал злом. Спасителя же нашего, единородного Сына Твоего, я представлял себе исшедшим из самой светлой части Твоего вещества, и не хотел верить ни во что иное, кроме этой нелепой сказки. Я не мог представить себе, чтобы Он, обладая такой природой, мог родиться от Девы, ибо это означало бы смешение природ, т. е. осквернение высшей природы, о чем я и помыслить не мог. Яне допускал возможности воплощения, ибо боялся, что Он этим бы осквернился! Люди духовные, читая эти строки, ласково и благожелательно посмеются надо мной; но что делать – именно таким я и был.
ГЛАВА XI
Кроме этого, я полагал справедливыми многие нападки манихеев на отдельные положения св. Писания. Порою, правда, мне хотелось бы обсудить тот или иной стих с человеком сведущим и узнать его мнение на этот счет. Помню, еще в Карфагене меня поколебали рассуждения некоего Элпидия, противостоящего манихеям; его суждения о св. Писании казались мне безупречными. Доводы же манихеев смущали еще и потому, что они неохотно делились ими, предпочитая действовать втайне; они утверждали, что Новый Завет был подделан людьми, стремившимися привить к христианской вере иудейский закон, но при этом не показывали ни одного подлинного, по их мнению, текста. Но мысли о необозримых телесных массах смущали меня, я задыхался под тяжестью мнимой телесности и не мог вздохнуть чистым и легким воздухом Твоей простой истины.
ГЛАВА XII
Итак, я приступил к тому делу, ради которого прибыл. Рим, и стал преподавать риторику. Сперва у меня было лишь несколько учеников, но постепенно имя мое становилось все более известным. И тут я столкнулся с чем-то для меня новым, чего не встречал в Карфагене: да, здесь порочные юнцы не буйствовали и не срывали уроки, но, как мне рассказали, придумали нечто почище: чтобы не платить учителю, они сговаривались между собой и в один прекрасный день всем скопом переходили к другому. Им дороги были деньги, справедливость же они и в грош не ставили. Я возненавидел таких всем сердцем, хотя я больше ненавидел их за то, что мне предстояло от них претерпеть, чем за тот урон, который они принесли другим. Такие люди гадки, ибо они преданы разврату вдали от Тебя, любя грязные забавы и легкую наживу; они бегут от Тебя и презирают Тебя, того, Кто призывает к Себе всякую заблудшую душу, обещая ей спасение. Я и теперь ненавижу людей порочных, но я уже научился их и любить, ибо надеюсь на их исправление: пусть предпочтут они деньгам науку, а ей – Тебя, Господи, истинное Благо и истинный покой. Но тогда их исправление мало волновало меня: я просто не хотел иметь с ними дела.
ГЛАВА XIII
Поэтому, когда из Медиолана к перфекту Рима поступило прошение подыскать для их города учителя риторики и разрешить ему проезд на казенных лошадях, то я, действуя через знакомых манихеев, хотя прежде всего я стремился избавиться именно от их общества, стал добиваться этого места. Мне предложили произнести речь, прослушав которую Симмах, бывший в то время перфектом, одобрил ее и отправил меня в Медиолан.
Я приехал туда к епископу Амвросию, достойнейшему и достохвальнейшему из людей нашего времени, благочестивому служителю Твоему, чьи проповеди питали верующих как бы «туком пшеницы, медом из скалы» (Пс. LXXX, 17). Ты привел меня к нему, Боже, дабы он привел меня к Тебе. Сей человек Божий отечески принял меня, и я сразу полюбил его, вначале, правда, не как учителя истины, найти которую в Церкви Твоей я тогда и не мечтал, но как человека доброго и благожелательного. Я прилежно выслушивал его проповеди, но не ради их содержания: меня интересовало, соответствует ли его красноречие его славе. Я наслаждался прелестью его речей, превосходящих своей ученостью речи Фавста, хотя и уступавших им по образности и утонченности формы. Но содержание их было в корне различным: один, блуждая в потемках, вел слушавших его к погибели, другой же спасительно учил о спасении.
ГЛАВА XIV
Когда я таким образом старался внимать не тому, чему он учил, но – как учил (ибо я уже совсем отчаялся найти путь у Тебе), то в душу мою вместе со словами стали проникать мысли, которых, как мне казалось, я не замечал. Мысли трудно отделить от слов, и когда я открывал сердце какой-либо прекрасно сказанной фразе, смысл ее подспудно также проникал в него. Прежде всего мне начало казаться, что эти мысли вполне доказуемы и вполне можно защитить православную веру от нападок манихеев, что прежде казалось мне немыслимым. Особенно произвели на меня впечатление буквальные и очень удачные толкования некоторых загадочных стихов из Ветхого Завета. Когда же я узнал о духовном объяснении этих текстов, то стал уже всерьез укорять себя за то, что некогда так легкомысленно поверил хулителям Закона и Пророков, решив, что противостоять им никак нельзя. Но это еще не привело меня на церковный путь: православная вера уже не казалась мне слабой, но и манихеи – не слабей; обе стороны представлялись мне равными по силе. Православная вера не представлялась более побежденной, но и не выступала победившей.
Тогда же я начал пытаться найти верные доказательства, чтобы с их помощью изобличить манихейскую ложь. Для этого нужно было представить себе духовную субстанцию, каковое представление, конечно, сокрушило бы все их измышления, но именно этого я и не умел. Что же до телесной природы, то к тому времени я пришел к твердому убеждению, что большинство философов имели о ней куда более верное представление, чем манихеи. Итак, по примеру академиков (какими их принято представлять), сомневаясь во всем и ни к чему не пристав, я решил расстаться с манихеями, ибо явно предпочитал им тогда многих философов; впрочем, я не стал доверять философам лечения исстрадавшейся души моей, ибо в их учениях я не находил спасительного имени Христова. Я остался как бы при Церкви, завещанной мне родителями моими, ожидая особого знака, который бы осветил мой дальнейший путь.