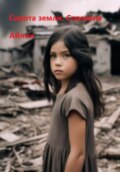Айлин
Аутизм – не приговор!
ТЕРАПИЯ УДЕРЖИВАНИЯ (ХОЛДИНГ-ТЕРАПИЯ)
От автора
Впервые я столкнулась с данной методикой в сложный момент, когда мой сын перестал есть и пить. Тогда, мне показалось, что это в высшей степени жестоко по отношению к ребенку. И выдержать, то время пока врач с помощью данной терапии выводил ребенка из состояния отрицания еды и питья, мне было очень сложно. Я рыдала сидя на корточках, обхватив себя руками за голову, за дверью кабинета и слушала, как мой ребенок кричит и сопротивляется. Мой первый поры был, конечно же, остановить все это немедленно, что я и попыталась сделать. Сейчас, я понимаю, как прав был тогда профессор, который вытолкал меня из кабинета и велел не лезть не в свое дело. Тогда эта методика помогла спасти жизнь моему ребенку.
Да, методика крайне неоднозначная, вызывает массу споров и вопросов, особенно у очень сердобольных родителей. НО! Каждый родитель, который растит особенного ребенка, должен о ней знать, чтобы понимать как она работает и как применяется в экстренной ситуации.
Данный метод был разработан американским детским психиатром Марией Уэлч (Welch), исходит из того, что сопротивление аутичных детей близости и физическому контакту следует преодолевать до тех пор, пока ребенок не откажется от противодействия. После этого страх перед близостью отчетливо уменьшается. Этот способ применяется в рамках поведенческой терапии для лечения страхов методом flooding («наводнение») и очень эффективен при экстремальных состояниях страха и фобиях.
В России ряд специалистов используют данную методику для «переключения» ребенка с крайне негативных моментов. Как, например, было у моего, когда его «заклинило» и он перестал принимать пищу и пить, а все попытки накормить или напоить уговорами или насильно заканчивались рвотой.
Родителю надо быть очень и очень эмоционально стабильным, чтобы самостоятельно начать применять данный метод. Я смогла заставить себя применить холдинг – терапию только через год, после того, как я о ней узнала. Триггером послужило очередной отказ от еды, тогда я взяла себя в руки и решила, что должна помочь ребенку преодолеть этот страх и переключить его.
После каждого сеанса ребенку становилось лучше, а мне, казалось, что еще немного и психиатр понадобиться уже мне самой. Остальные члены семьи либо запирались в другой комнате, либо выходили на улицу. Но мы справились…
Всего нам удалось пережить 6 эпизодов отказа от еды в возрасте от двух до 7 лет. Каждый раз выходили из данного состояния с помощью холдинг терапии. У нас была необычна особенность – после терапии ребенок никогда не возвращался к той еде, что ел раньше и мне приходилось устраивать «шведский» стол в попытке подобрать ему блюда, которые он станет спокойно есть. Как правило, это длилось дня три-четыре и меню более-менее сформировывалось. До следующего эпизода. Потом снова «шведский стол» и так пока не справились в принципе с подобными явлениями.
Этапы холдинг-терапии:
• Маме необходимо крепко обнимать и прижимать к себе ребенка.
• Аутичные дети начинают активно сопротивляться, кричать, драться, вырываться. Основная задача – не уступать ребенку и продолжать удерживание. Нужно тесно прижимать к себе ребенка и пытаться при этом установить зрительный контакт.
• Ребенка надо удержать вплоть до развития фазы истощения и отпускать когда в ситуации расслабления становится возможным контакт другого рода.
• Сеансы холдинг-терапии должны проводиться ежедневно и, как правило, продолжаться в течение часа. Не следует отказываться от этой процедуры в тех случаях, когда создается впечатление, что ребенок чувствует себя несчастным.
В период холдинг-терапии я ходила в одежде максимально закрывающей тело, так как была вся в синяках, царапинах и ссадинах. Самые страшные были первые два сеанса, после мой сын уже успокаивался и шел на контакт уже минут через десять-пятнадцать.
Холдинг-терапия помогла моему ребенку выходить из кризиса с питанием и научила его удерживать зрительный контакт. С шести лет он стал уверенно удерживать взгляд и смотреть в камеру на фотографиях. А еще он научился ждать – ему можно было уже объяснить порядок действий и итоговую цель и, он мог спокойно ее дождаться.
Это очень сложная и эмоционально перегруженная терапия, я, как мама, которая была вынуждена пройти с ребенком через нее, не рекомендовала бы применять ее просто так, а лишь в экстренной ситуации, когда речь идет об угрозу жизни и здоровью вашего ребенка.
МЕТОД INTIME
От автора

Метод гармонизации работы головного мозга
В основе данного метода лежит прослушивание акустически модифицированной ритмичной музыки и выполнении двигательно-ритмических упражнений.
Таким образом, данный метод позволяет одновременно затрагивать два важных аспекта развития головного мозга – стимуляция с помощью ритма и звуками определенных частот.
Разработчики методики опирались на тот фактор, что работа головного мозга представляет собой сложную ритмическую деятельность с синхронизированным взаимодействием разных областей мозга.
Если у ребенка есть какие-либо нарушения в работе мозга, то, как правило, нарушена ритмичность функционирования мозга. Программа inTime позволяет подбирать каждому ребенку индивидуальную программу, в зависимости от исходной задачи.
Занятия по данной методике проводятся следующим образом:
Ребенок несколько раз в день прослушивает в специальных наушниках, которые позволяют обеспечивать проводимость не звука не только воздушную, но и костную, определенные музыкальные модули, акустически модифицированные с помощью мультисенсорной аудиосистемы, продолжительностью 9 минут. После прослушивания ребенок выполняет двигательно-ритмические упражнения с использованием собственного тела, голоса, барабанов и других шумовых музыкальных инструментов.
Рекомендованное количество занятий в день – не менее 4
Рекомендованное количество дней с занятиями в неделю – не менее 5.
Рекомендованная продолжительность одного курса – не менее 16 дней.
Показания для проведения процедуры:
– Умеренные когнитивные нарушения,
– деменция,
– СДВГ,
– аутизм,
– тревожность,
– депрессия,
– инсульт,
– плохая обучаемость,
– дислексия,
– нарушение координации,
– задержка развития,
– диспраксия,
– болезнь Альцгеймера и др.
ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТРОНОМ
От автора

Интерактивный метроном (Interactive Metronome) – еще одна методика, которая позволяет развивать различные функции головного мозга.
Основа метода – развитие чувства ритма, времени и точности движений, которые в свою очередь станут стимулом у развитию функций мозга.
Рекомендуется при следующих нарушениях:
– РАС
– СДВГ
– диспраксия
– нарушения слоговой структуры слова
– ЗРР, ЗПРР
– дизартрия, алалия
– темпо-ритмические нарушения речи
– нарушения равновесия, баланса, координации
– нарушения сенсорной интеграции
Аппаратный комплекс разработан с функцией обратной связи, что позволяет при реализации программы упражнений получать информацию в режиме реального времени и анализировать результат по «тренировке» мозжечка и головного мозга.
Для работы с интерактивным метрономом ребенку необходимо находиться в наушниках и удерживать специальный датчик, который надевается ему на руку.
Ребенок должен услышанные ритмичные удары синхронизировать со своими движениями: топать ногой, хлопать в ладоши. Для того, чтобы увлечь ребенка и удержать его внимание разработчики выполнили упражнения в виде ярких и красочных видеоигр.
Данная методика является достаточно безопасной, помогает скомпенсировать нервную систему и активизировать мозговую деятельность.
Необходимо учитывать наличие медицинских противопоказаний у ребенка к применению любых видов аппаратных методик (эпилепсия и т.д.) Поэтому, прежде, чем принимать решение о применении методик активизирующих мозговую деятельность необходима консультация врача.
Длительность одного занятия занимает, как правило, 20 минут. В среднем проводят по 15 сеансов. Рекомендуемый возраст для начала занятий от 4 лет. Важным является регулярность занятий и участие в процессе специально обученного сотрудника, который на первых этапах научит ребенка ловить ритм и удерживать его.
Данную методику можно совмещать с другими занятиями: логопедическими, нейрокоррекцией, мозжечковой стимуляцией, программой inTime, методом Томатиса, сенсорной интеграцией и др.
МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ АУТИЗМЕ
От автора

Очень часто при первом же посещении врача-психиатра родители детей аутистов получают рекомендации по медикаментозной терапии.
Конечно же, у родителей сразу же возникают вопросы и страхи.
– насколько эффективны лекарства при аутизме?
– каковы побочные эффекты лекарств, насколько они опасны?
– есть ли в принципе необходимость в приеме препаратов при аутизме или можно обойтись только методами педагогической и психологической коррекции?
Медикаментозная терапия при аутизме состоит:
– Ноотропные препараты (нейрометаболические стимуляторы, церебропротекторы) – стимулируют деятельность головного мозга, улучшают память, внимание, повышают устойчивость ЦНС.
– Антидепрессанты – способствуют улучшению контакта с ребенком
– Транквилизаторы – помогают бороться со страхами, высоким уровнем тревожности
– Нейролептики – своеобразное успокаивающее действие, сопровождающееся уменьшением реакций на внешние стимулы, ослаблением психомоторного возбуждения и аффективной напряженности, подавлением чувства страха, ослаблением агрессивности.
Все эти препараты необходимо принимать строго по назначению врача!
Мой опыт показал, что медикаментозная терапия порой просто неизбежна, хотя и является при аутизме второстепенной методикой лечения. Основа – это не медикаментозные методы лечения, педагогическая и психологическая коррекция.
Но! Если негативные проявления, связанные с нарушением аутистического спектра мешают вашему ребенку эффективно осваивать иные методы лечения, то медикаментозная терапия необходима.
Тут уже начинаешь руководствоваться принципом – когда польза для ребенка, превышает риск негативных последствий. Принцип тот же, что и при беременности, когда назначают определенные препараты маме. Всегда надо думать, взвешивать все за и против, не стоит сразу и резко отказываться от препаратов, только потому что вы боитесь негативных последствий от их приема.
Большинство препаратов вводят в плавной, постепенно повышающей дозировке и у вас будет возможность наблюдать за состоянием ребенка, быть на контроле у врача и оперативно реагировать, если вам что-то не понравится.
Я довольно долго думала, давать или нет нейролептик своему сыну, и. когда поняла, что другого пути нет, согласилась на медикаментозную терапию.
Ребенок принимал и нейролептики и антидепрессанты, огромное количество ноотропов и витаминов (умышленно не пишу какие, так как это надо решать с врачом и подбирать индивидуально). Эффект от такой терапии я увидела сразу, с поставленными задачами она справилась, ребенок смог начать процесс адаптации и обучения. Я не жалею о том, что тогда приняла такое решение.
Однако у ряда препаратов действительно есть побочные эффекты и синдромы отмены.
Мы шли очень медленно и мучительно к тому, чтобы избавится от зависимости к приему нейролептика и буквально учились жить без него и справляться с симптомами аутоагрессии не медикаментозными способами. В целом у нас ушло чуть больше года, вместо планируемых шести месяцев.
В период приема нейролептиков у ребенка был лишний вес, хотя он очень мало ел, и была вечная беда с носом – постоянный отек. Через два года после полной отмены нейролептика вес сам собой пришел в норму, а вот нос так и остался отечным. Показали ребенка уже не одному лор врачу, но все разводят руками. Так как в здоровом состоянии нос дышит не полноценно, то когда ребенок заболевает или сильно переживает, отек становится настолько сильным, что помогают только уколы дексаметазона.
Сейчас мы полностью ушли от медикаментозной терапии, остались лишь витамины. Однако, в критических ситуациях, по рекомендации врачей возможен прием препаратов. Но очень хотелось бы, больше не возвращаться к нейролептику.
АЛЕКСАНДРА И ЕЕ СЫН ТИМУР
Рассказы родителей

Я многодетная мама, у меня трое детей: сынок и две дочки. Тимур – мой старший сын. Странности в развитии своего первенца мы стали замечать очень рано, месяцев с восьми. К десяти месяцам нам стало очевидно, сто ребенок развивается не как положено по норме и отличается от других детей, своих ровесников.
Во-первых, у Тимура была задержка моторного развития, он не переворачивался по возрасту, не садился, не ползал. В семь месяцев мы проделали курс массажа, чтобы помочь ребенку преодолеть проблемы. После этого он начал уверенно переворачиваться, сел и пополз. В одиннадцать месяцев ребенок освоил самостоятельную ходьбу, без опоры.
Мы довольно пристально наблюдали за физиологическим развитием ребенка и стали замечать, что он как-то странно играет: крутит предметы на полу, листает книжки. При этом то, что положено по возрасту (сортер, кубики и т.д.) он совершенно не играл и не собирал. Новые игрушки его не интересовали, он будто бы их совершенно не замечал. Но при этом, очень любил новые книги и их покупка вызывала у него восторг.
С самого раннего детства и до сих пор у ребенка зацикленность на книгах, он любит их листать, и именно книгу воспринимает, как самый лучший подарок.
У ребенка примерно с года мы заметили совершенно отсутствующую реакцию на животных, он их наличие в принципе игнорировал. Мы приходили в гости и, если там было животное, то другие дети проявляли интерес, а он смотрел будто бы сквозь это животное.
Наверное, вот он только недавно начал замечать каких-то животных. Начал следить взглядом за животным, а раньше, даже если ему показывать пальцем, то он старался смотреть поверх или отводил взгляд, пробовали поворачивать лицом прямо к животному, но он его упорно не видел.
Единственное, что его завораживало – это летающие птицы. Он мог с задранной головой сидеть в коляске и сорок минут смотреть на летающих птиц. Как только птица приземлялась, он тут же терял к ней интерес и переводил взгляд.
Особенно заметно становилось нестандартное развитие сына, когда мы оказывались в компании ровесников. Даже годовалые детки пытались как-то между собой взаимодействовать, играть а разные игрушки, а он всегда был один, сам по себе и не проявлял интереса ни к детям, ни к игрушкам.
Моего ребенка не интересовало содержание шкафов в доме. У нас не было необходимости поднимать повыше опасные предметы или запирать как-то шкафчики. Он их совершенно не трогал. Те, кто сами растили маленьких детей и приходили к нам в гости, искренне удивлялись, как мы так обходимся без защитных механизмов на шкафчиках. Это тоже был некий звоночек, который говорил о том, что у ребенка отсутствовал познавательный интерес.
На улице я наблюдала, как ровесники моего сына, увидев кошку, показывали на нее пальцем и старались говорить что-то типа кис-кис, чтобы привлечь внимание мамы. Если им давали в руки листочек, палочку, то они старались все ощупать, изучить. А Тимур был очень брезгливым, в руки что-то брать отказывался и не проявлял никакого интереса.
Также ребенок не любил играть в песке, ему был неприятен на ощупь сам песок, он не хотел его трогать. Тимур не признавал качели и отказывался на них качаться.
Несмотря на то, что Тимур был моим первым ребенком и опыта совершенно не было, на площадке при контакте с детьми ровесниками я уже стала замечать и понимать, что с ребенком что-то не так.
Примерно к полутора годам стало бросаться в глаза, что у его ровесников постепенно начинает развиваться речь, появляются короткие слова, у кого-то словосочетания. А у Тимура на тот момент была совершенная тишина, ни одного звука.
Потом Тимур стал говорить па, папа, па, чуть позже мама. Но это не была обращенная речь, а скорее слова в никуда. Он бегал по квартире, смеялся и выкрикивал их. В этот же период он стал крутить колесики на машинке, яростно и зациклено.
К полтура годам у ребенка интереса к игрушкам так и не появилось, в песок также отказывался играть. Но вдруг загорелся любовью к качелям, мог кататься часами, приходилось порой с истерикой уводить его домой.
Где-то там ближе к двум годам стало понятно, что речь у ребенка совершенно не формируется и есть проблемы с пониманием обращенной речи. Он плохо понимает просьбы, окружающий мир, у него совсем никаких попыток самообслуживания.
Я сейчас наблюдая, как развивается мой средний ребенок, который в год и три месяца сама проявляет инициативу и отбирает ложку, чтобы кушать, собирает кубики, сортеры и т.д., понимаю, что у Тимура такого не было. Он изначально никаких попыток сделать что-то самостоятельно не проявлял, всегда ждал, когда его покормят, оденут и т.д.
У него начала проявляться какая-то болезненная привязанность ко мне. Он ходил за мной хвостом по всей квартире, совершенно не знал, чем себя занять, во что поиграть. Он не понимал что же такое игра. Опять же, сколько я пыталась играть с ним, научить его играть в кубики и сортеры и пирамидки, и все было безрезультатно. Я глядя на других детей, думала, почему же Тимур ничего этого не понимает, но он же должен уже по возрасту как-то играть.
Детки, которые приходили к нам домой в гости они садились и во все его игрушки начинали спокойно играть. Ну вот так, как это положено, именно вот по назначению. Я смотрела на него и понимала, что он совершенно не понимает назначение этих игрушек.
У него не было разделенного внимания. Я узнала об этом после, когда поставили диагноз и я стала читать соответствующую литературу. Вот сейчас, например, по средней дочке вижу, как это выглядит разделенное внимание. Когда ребенок нашел что-то на полу, и он поворачивается к тебе, показывает это и ждет, когда ты назовешь, как этот предмет называется, либо там что-то скажешь, расскажешь. Или ребенок что-то нашел и бежит, несет это, когда ребенок поворачивается в сторону твоего указательного пальца. Это должно было быть примерно с годика, но этого ничего не было.
Тимур все время сидел абсолютно спокойно и тихо. Ему было все равно есть кто-то в комнате или нет, складывалось впечатление, для комфортной жизни, особо мы были не нужны, лишь бы только его кормили, одевали, обували и больше ничего от нас ему не надо было.
В два года в поликлинике нас направили на плановый осмотр к участковому психиатру в ПНД, в нашем регионе это было обязательным. Мы с мужем вдохновились, подготовили все свои вопросы, так как сомнения уже давно поселились у нас в голове.
Вопросов было на самом деле очень много уже к участковому психиатру и мы пришли и все, ей рассказали. Тогда в первый раз прозвучал диагноз расстройство аутистического спектра, участковый психиатр предположила, что, скорее всего, ребенок находится в спектре. Я к тому времени уже что-то где-то про аутизм читала и где-то в чем-то я находила сходство. Ну, в основном, конечно, везде пишут про аутизм, что не отзывается на имя, не смотрит в глаза, выстраивает рядочки, это меня сбивало с толку, потому что Тимур отзывался на имя (может не всегда, но отзывался), смотрел в глаза, абсолютно никогда не выстраивал рядочков из игрушек.
Я не была сильно шокирована в кабинете психиатра, наверное, я понимала, когда шла туда, что услышу некий диагноз.
Психиатр сказала, что сейчас ребенку в два года, значит нужно как минимум еще полгода регулярных наблюдений занятий, чтобы точно понять, что с ним. Нас направили на консультацию к дефектологу, который почти час безрезультатно пытался взаимодействовать с ребенком. Но Тимур протестовал и истерил, задания он выполнять не стал.
Мы приняли решение продолжить занятия у логопеда-дефектолога. Возить ребенка приходилось на общественном транспорте через пол города. Задача усложнялась дикими страхами Тимура: боялся выходить из дома, боялся выходить из подъезда. Наш поход к дефектологу выглядел так: Тимур кричал, валялся и истерил на выходе из квартиры, потом он валялся истерил на выходе из подъезда, прямо валялся на земле, пытался залезть и спрятаться под припаркованные автомобили возле подъезда, пока мы доходили до остановки общественного транспорта ребенок каждые пятнадцать-двадцать метров повторял свою истерику.
Каждый раз мне приходилось прикладывать массу усилий, чтобы его успокоить, поднять и уговорить продолжить путь. На остановке начиналась истерика, если приезжал не наш автобус. Ему было крайне важно сесть именно в первый автобус, который подъедет, и не важно походит он нам по маршруту или нет.
Он совершенно не понимала никаких объяснений, что нам нужно подождать, он просто бился в истерике. Потом мы все-таки садились в автобус, доезжали до нужной остановки и у него начиналась истерика, что нужно выходить из автобуса, потому что ему так нравилось там ехать, что он не хотел выходить, и он начинал валяться на выходе из автобуса валяться на остановке, на которой мы вышли и потом вот так же через каждые двадцать метров, он падал, когда мы шли в этот центр, на занятия. И потом та же самая история только обратно домой.
Это было очень страшное время для меня, нервы были на пределе от непонимания, как помочь ребенку и прекратить этот круг истерик.
Помимо на занятий с дефектологом, нас психиатр отправила на консультацию к генетику и сказала, что нужно пролежать в стационаре неврологии, чтобы исключить какие-то неврологические проблемы. Также необходимо было пройти сурдолога.
Со слухом у Тимура все было в порядке. Дальше нам предстоял стационар неврологии и генетики.
В два с половиной года нас положили в неврологию на две недели. Там тоже были занятия, массаж, лфк, там ему прокололи первый и единственный раз ноотроп. У Тимура после этого, пошло развитие понимания речи, немножко лучше стал усваивать у дефектолога материал, дома, стал со мной заниматься. В целом общее понимание улучшилось, стал немного интересоваться игрушками и т.д.
Многие ругают ноотропы, но у нас от них исключительно положительный эффект.
Примерно в это же время мы прошли клинического психолога в ПНД, которая также указала в заключении отклонения и задержку в развитии ребенка.
В целом некая картина его состояние у нас уже была, мы поехали в Москву, в научный институт, где изучают аутизм и шизофрении, в том числе у детей. Это федеральное бюджетное научное государственное учреждение, диагноз и документы, выданные которым должны приниматься в любых медицинских учреждениях. Поскольку мы были нацелены на оформление инвалидности и собирались, в общем-то, добиваться этого, мы сразу выбрали такое учреждение для того, чтобы нам там как-то более внятно сказали по поводу диагноза. На тот момент ребенку было два года одиннадцать месяцев.
Проконсультировал нас детский психиатр, кандидат наук, она поставила Тимур диагноз, F 84.02 – детский аутизм, вследствие иных или невыясненных причин. Это заключение мы привезли в наш ПНД, приложив полный комплект документов из неврологии и от генетика.
Мы сказали участковому психиатру о своем желании оформить инвалидность ребенку
Психиатр нам сказала: «Вот вам в октябре три года исполнится, после этого вы должны пролежать минимум месяц в стационаре ПНД, у нас такие правила, после этого я могу вас направить МСЭ».
Мне пришлось проявить настойчивость, чтобы нас снова направили на дообследование в стационар: невролог, дефектолог, клинический психолог, психиатр стационара и т.д.
Когда Тимур лежал в стационаре ПНД на дообследование ему назначили нейролептик рисперидон. До этого ребенок принимал сонопакс и тералиджен. Но эти препараты не очень ему подходили, он с них становился сильно возбужденным.
У ребенка не было ни агрессии, ни самоагрессии, но поведение было просо ужасным, постоянные протесты. Нейролептик неплохо скорректировал его поведение, хотя проблемы конечно же остались, но уже в той степени.
В стационаре Тимура всесторонне наблюдали и оценивали его уровень развития, в том числе динамику развития за месяц.
После дообследования в ПНД, мы подали документы на МСЭ для оформления инвалидности. На тот момент Тимуру было три года, инвалидность одобрили сразу.
Генетик велел сдать анализы на исследование кариотипа (Количественные и структурные аномалии хромосом). Мы его сдали все трое, анализ ничего не показал. Это довольно поверхностно такой анализ, в случае с аутизмом ничего не покажет. Генетик нам написал в заключении, что рекомендует нам сделать Тимуру секвенирование генома и анализ на выявление синдрома Мартина-Белл (синдрома ломкой Х-хромосомы).
Анализ на секвенирование генома очень дорогостоящий (порядка 150 тысяч рублей). У нас не было возможности седлать его за свой счет, поэтому я обратилась в фонд Геном жизни, который помогает родителям делать генетические дорогостоящие анализы. Фонд дал добро, и Тимуру сделали данный анализ. В августе двадцать третьего года год назад мы получили результаты нашего секвенирования генома. Мы пошли к генетику. Нам сказали, что ничего там такого, что могло бы влиять на его состояние нет.
Анализ на выявление синдрома Мартина-Белл мы не стали сдавать. Мы планируем его чуть позже Тимуру сдать и, если у него окажется положительный результат, то нам придётся сдавать дочкам на носительство. Если они носители, то смогут иметь здоровых детей через эко.
После трех лет, у Тимура развитие пошло в лучшую сторону. Он в три с половиной года научился самостоятельно кушать ложкой, перешел с бутылочки с резиновой соской на обычную бутылку, он стал хорошо понимать речь, бытовую просьбы. Сейчас мы активно внедряем альтернативную коммуникацию – карточки Пекс, он хорошо очень адаптируется.
Тимуру дали коррекционный сад, также мы продолжаем заниматься его реабилитацией. Ему в октябре будет пять лет, у нас сохранилась проблема с туалетом, ребенок до сих пор в подгузнике.
Но развитие идет вперед, пусть и медленно, но мы видим результат.
Год или два назад, мы даже вообразить не могли, что ребенок сможет столько достичь. Тимур так протестно отказывался все делать самостоятельно, что мы боялись загадывать, как сложится дальше.
Отдельно хочу отметить положительное воздействие на Тимура появление на свет его младших сестренок. С каждой из них он прекрасно взаимодействует и многому у них учится. Можно сказать, что он наверстывает с ними те этапы развития, которые сам пропустил в виду особенностей своего развития. Он играет в кубики, собирает сортер, выстраивает пирамидки, Тимур наблюдает за сестрой, как она делает, как она играет и тоже начинает что-то делать.
Тимур прекрасно сейчас узнает членов семьи, то есть меня, папа и сестер. Он очень сильно любит папу, при том, что он до двух с половиной лет вообще не замечал его присутствие в доме.
Сейчас он повторяет за средней дочкой, она бежит встречать папу, и он выбегает тоже, когда папа приходит с работы.
Мы не скажу, что мы питаем какие-то большие надежды, но может быть даже речь у него пойдет хотя бы какая-то примитивная, односложная хоть какая-то. Пока совсем у него тишина с речью.
Мы ждем, верим и надеемся, что он сможет вскоре освоить туалет и иные бытовые навыки в полном объеме. Возможно, ему в этом поможет не только лечение и реабилитация, но и наблюдение за развитием младших сестер.
Тимур сейчас и Тимур два года назад – совсем два разных ребенка.
Раньше он не понимал речь, не всегда отзывался на имя, беспричинно смеялся и хохотал, просто так бегал по квартиру и не обращал ни на кого внимание.
Когда мы звали Тимура, он довольно часто поворачивал голову, в сторону того, кто его зовет. Но, чтобы научить его отзываться на 100% всегда и везде и ещё приходить, когда его зовут из другой комнаты – мы использовали принципы АВА. Через поощрение любимым печеньем. Так мы в период с 2 до 3 лет научили его с первого раза реагировать на имя и всегда приходить на имя или на просьбу "Тимур, иди сюда".
Сейчас Тимур понимает обращенную речь, отзывается на имя, взаимодействует с помощью карточек ПЭКС. Тимур ласковый ребенок, постоянно приходит обниматься, даже целовать, научился сам подходит и целует меня. Ко мне он проявляет любовь в том, что приносит мне вкусняшки, при том, что мы никогда его этому не учили.
К папе он проявляет любовь тем, что он его пощипывает, любит сидеть у него на коленка, класть голову к нему на плечо. Он по-своему проявляет чувства, есть какая-то осознанность.
Мы каждый год ездим на своей машине к мужу на родину в Башкортостан, это примерно две с лишним тысячи км в одну сторону, то есть это несколько дней пути. Вот эти поездки являются одним из любимых мероприятий для Тимура.
Тимур прекрасно переносит дорогу, ведет себя спокойно, его не укачивает, он не капризничает. Он любит новые места, радуется ночевкам в гостинице.
Ему нравится что-то интересное, что-то новое, незнакомое, он не боится уже.
Когда мы приезжаем в деревню к родителям мужа, там нет никакой связи (телефон, интернет и т.д. не ловят), чистая природа, зверушки и все прочее. Тимур просто кайфует.
Недавно Тимур лежал повторно в неврологии. Это другая больница, так как мы сменили место жительства. Ему делали МРТ с наркозом (с севораном) и делали ночное ЭЭГ.
Наша задача была исключить эпи активность у ребенка. Результат ЭЭГ показал, что все нормально, эпи-активности нет.
Итог: неврологи окончательно убедились, что нашим лечащим врачом является психиатр.
Недавно мы попали к хорошему психиатру. Она достаточно подробно изучила все материалы, заключения, выписки и подробно меня опросила. Ее диагноз Тимуру – атипичный аутизм. То есть немножко не тот, который нам поставили в научном институте, она не очень согласна с этим шифром, она предполагает, что все-таки это атипичный аутизм.
Ну, в общем-то, точная формулировка здесь большой роли не играет, потому что маршрут помощи ребенку он никак не меняется, при этом не важно, какой у него диагноз ранний детский аутизм или атипичный. Занятия и специалисты педагоги, все одни и те же.
Мы за это время с мужем прочитали большое количество книг об аутизме. Муж полностью погрежен в тему, он также, как и я с ребенком посещает каждого врача, задает вопросы и пытается понять, как помочь ребенку.
Папа, у нас не устранился, никуда не ушел тем, он очень сильно любит своего сына, просто безумно. Вот что называется это я, наверное, первый раз за тридцать пять лет увидела своими глазами такое понятие, как «души не чает». Вот это про папу и Тимура. Он девочек, конечно, тоже очень сильно любит. Все детки, желанные и запланированные, но к Тимуру у него особенно трепетное отношение, каждое достижение сына, радует нас до слез.
Хочу пожелать семьям, которым довелось растить особенного ребенка не унывать, сплотиться и бороться, тогда все будет хорошо!