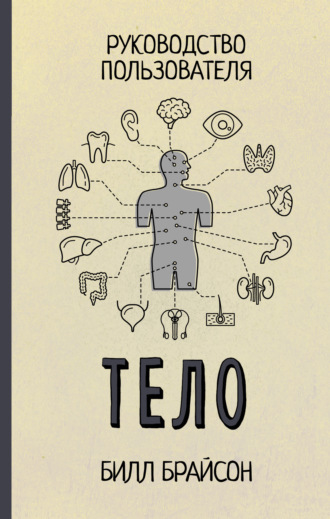
Билл Брайсон
Тело. Руководство пользователя
В 1960-х, спустя почти сотню лет после того, как Дарвин написал «О выражении эмоций», профессор психологии из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Пол Экман решил проверить, универсальны ли выражения лица или нет, на примере обособленно живущего в Новой Гвинее племени, члены которого не были знакомы с западной культурой. Экман заключил, что существует шесть универсальных выражений: страх, гнев, удивление, удовольствие, отвращение и грусть. Самым универсальным из всех оказалась улыбка – сознавать это довольно приятно. Еще никогда не находилось ни одного сообщества, которое бы реагировало на улыбку иначе, чем все остальные. Подлинные улыбки кратки – они длятся от двух третей секунды до четырех секунд. Вот почему застывшая на лице улыбка начинает выглядеть угрожающе. Настоящая улыбка – это единственное выражение, которое невозможно подделать. Как еще в 1862 году отметил французский анатом Г.-Б. Дюшен де Булонь, спонтанная искренняя улыбка требует сокращения круговой мышцы в обоих глазах, а независимого контроля над этими мышцами мы не имеем. Можно заставить рот улыбаться, но заставить глаза искриться притворной радостью у вас не выйдет.
Пол Экман утверждает, что все мы демонстрируем «микровыражения» – вспышки эмоций продолжительностью не более четверти секунды, которые выдают истинные скрытые чувства, и неважно, о чем говорит более общее, контролируемое выражение лица. По мнению Экмана, почти никто не замечает этих правдивых выражений, но, если вам по-настоящему интересно, что на самом деле думают о вас коллеги и близкие, вы можете научиться их читать.
Если судить по стандартам приматов, голова у нас на редкость чудной формы. Лица наши плоски, лбы высоки, носы выдаются вперед. За эти уникальные черты почти наверняка ответственен ряд факторов: прямохождение, довольно крупный мозг, особенности питания и образа жизни, тот факт, что наше строение позволяет нам долго бегать (что, в свою очередь, влияет на дыхание), и то, что очаровывает нас в половых партнерах. (К примеру, ямочки на щеках – гориллы, которым приспичило, на такое внимания не обращают.)
Учитывая то, насколько ключевую роль лица играют в нашем существовании, удивительно, сколько всего в них до сих пор остается для нас загадкой. Взять хоть брови. У всего множества видов гоминидов, которые жили до нас, были выдающиеся надбровные дуги – но мы, Homo sapiens, отказались от них в пользу своих маленьких подвижных бровей[185]. Объяснить почему – не так-то легко. Одна из теорий заключается в том, что брови не дают поту попадать в глаза, но вот что брови действительно умеют лучше всего – так это передавать чувства. Подумайте, сколько мыслей вы можете выразить одним только изгибом брови: от «Мне с трудом в это верится» и «Смотри под ноги» до «Не желаете ли переспать со мной?».
Мона Лиза выглядит столь загадочно среди прочего потому, что у нее нет бровей[186]. В одном любопытном исследовании испытуемым были показаны два подретушированных набора фотографий известных людей: на одних фото у них не было бровей, на другом – глаз. Поразительно, но в подавляющем большинстве случаев идентифицировать знаменитостей без бровей добровольцам было труднее, чем без глаз.
Ресницы – тоже предмет туманный. Есть кое-какие свидетельства, позволяющие предположить, что ресницы слегка корректируют воздушный поток вокруг глаза, не давая залетать туда пылинкам и другому мелкому мусору, но главное их преимущество, похоже, заключается в том, что они делают лицо более интересным и приятным. Люди с длинными ресницами, как правило, считаются более привлекательными.
С носом все еще сложнее. У млекопитающих обычно бывает морда, а не закругленный выдающийся нос. Как объясняет Дэниел Либерман, профессор эволюционной биологии человека в Гарварде, выступающий нос и сложное строение пазух развились у нас для того, чтобы мы дышали эффективнее и не перегревались при долгом беге[187]. Такая модификация явно оказалась удобной, ведь люди и их предшественники уже около двух миллионов лет имеют выступающие носы.
Но самое загадочное – это подбородок. Подбородок есть только у людей, и никто не знает, зачем он нам. Никакой структурной пользы подбородки как будто не несут, так что, быть может, нам они просто симпатичны. Либерман, проявив весьма непривычную для себя шутливость, заметил: «Проверить эту последнюю гипотезу особенно непросто, но если у читателя есть предложения касательно подходящего эксперимента, они всячески приветствуются». И все же нет смысла отрицать, что в английском языке неспроста существует выражение «чудо без подбородка»[188] и что скромные размеры подбородка часто ассоциируются со слабохарактерностью и недалекостью.
Как бы мы все ни воспевали вздернутый носик или чарующие глаза, истинное предназначение большинства человеческих черт – помогать человеку интерпретировать мир посредством чувств. Забавно, что мы всегда называем пять чувств, хотя их у нас намного больше. Есть чувство равновесия, ускорения и замедления, положения в пространстве (оно называется проприоцепцией), времени, аппетита. В общей сложности (и в зависимости от того, как их считать) в нас функционирует до тридцати трех систем, благодаря которым мы знаем, где находимся и как у нас дела[189].
О вкусе мы побеседуем в следующей главе, когда углубимся в рот, а сейчас давайте рассмотрим три других известнейших чувства, связанных с головой: зрение, слух и обоняние.
ЗРЕНИЕ
Глаз – это истинное чудо природы, что уж тут говорить. Около трети всей вашей мозговой коры отведено под обработку зрения. Викторианцы настолько восхищались сложностью строения глазного яблока, что часто использовали его как аргумент в пользу идеи креационизма. Странный выбор, потому что на самом деле все скорее наоборот – причем в буквальном смысле, потому что глаз устроен задом наперед. Палочки и колбочки, которые засекают свет, находятся сзади, а кровеносные сосуды, питающие глаз кислородом, спереди. В глазу тьма сосудов, нервных волокон и всякого случайного мусора, и смотреть приходится сквозь все это.
Обычно ваш мозг выкидывает любые попавшиеся помехи, но ему это удается не всегда. Быть может, вам приходилось, взглянув в солнечный день на ясное голубое небо, замечать крохотные белые искры, которые появляются перед взором мимолетно и тут же исчезают в никуда, словно падающие звезды. Так вот, как ни странно, это ваши собственные лейкоциты, плывущие по капилляру перед сетчаткой[190]. Поскольку белые кровяные клетки довольно крупны (по сравнению с красными), они иногда ненадолго застревают в узких капиллярах; именно это вы и видите. Технически такие искажения называются феноменом синего поля, или феноменом Ширера (в честь Рихарда Ширера, немецкого офтальмолога начала двадцатого века), хотя на английском языке они шире известны под поэтичным названием blue-sky sprites (буквально – «духи голубого неба»). Более всего они заметны на чистом небе просто из-за особенностей поглощения глазом световых волн различной длины. Аналогичное явление – «плавающие мушки». Это пучки микроскопических волокон в желеобразном стекловидном теле вашего глаза, отбрасывающие тень на сетчатку. Чем старше человек, тем более обычным явлением становятся мушки – как правило, они безвредны, хотя иногда указывают на разрыв сетчатки. По-научному, если вам вдруг захочется кого-то впечатлить своими знаниями, они называются muscae volitantes[191].
Доведись вам подержать человеческое глазное яблоко в руке, вы, пожалуй, удивились бы размерам, ведь в глазнице мы видим лишь одну шестую его часть. На ощупь глаз похож на пакет с гелем, что неудивительно, ведь он заполнен гелеобразной жидкостью, заключенной в вышеупомянутое стекловидное тело. (На латыни она называется humor vitreus, однако с чувством юмора, естественно, никакой связи не имеет: словом humor анатомы обозначают любое жидкое или полужидкое вещество в теле.)
Как и следует ожидать, столь сложный инструмент состоит из множества частей – названия одних нам хорошо знакомы (радужка, роговица, сетчатка), а о других мы слышим реже (ямка, хориоидея, склера), – но по сути своей глаз похож на камеру. Передняя часть – хрусталик и роговица – улавливают изображения, мелькающие перед нами, и проецируют на заднюю стенку глаза – сетчатку, где фоторецепторы преобразуют их в электрические сигналы, которые передаются далее в мозг по зрительному нерву.
Если есть одна-единственная черта анатомии нашего глаза, которая заслуживает благодарности, то это роговица. Ее скромный маленький купол не только защищает глаз от жестокого мира – фокусировка глазного яблока на две трети зависит именно от роговицы. Хрусталик, которому в общественном сознании достаются все лавры, делает лишь примерно треть работы[192]. Роговица едва ли могла бы выглядеть более невзрачно. Если ее извлечь и рассмотреть на подушечке пальца (куда она с легкостью поместится), вы не слишком впечатлитесь. Но при более тщательном рассмотрении, как и почти любая иная часть тела, она оказывается изощренно организованным чудом. Роговица состоит из пяти слоев: эпителия, боуменовой мембраны, стромы, десцеметовой оболочки и эндотелия, упакованных в пространство толщиной чуть более полумиллиметра. Ради прозрачности пришлось пожертвовать большей частью кровоснабжения – можно сказать, кровь туда практически не поступает.
Участок глаза, на котором содержится больше всего фоторецепторов – который, по сути, и выполняет зрительную функцию, – называется «ямка» (лат. fovea), потому что представляет собой небольшое углубление[193]. Любопытно, что большинство из нас ни разу даже не слышало об этом критически важном компоненте зрения.
Чтобы все это работало гладко (в самом буквальном смысле), мы постоянно производим слезы. Слезы не только помогают векам плавно скользить по глазу, но также выравнивают крошечные дефекты на поверхности глазного яблока, помогая фокусировать взгляд[194]. А еще в них содержатся противомикробные химические вещества, которые успешно сдерживают рост большинства патогенов. Слезы бывают трех видов: базальные, рефлекторные и эмоциональные. Базальные слезы – технические, они обеспечивают смазку. Рефлекторные слезы выступают при раздражении, например дымом, луком или чем-нибудь в этом роде. Причина появления эмоциональных слез, конечно же, самоочевидна. И притом они уникальны. Насколько можно судить, мы – единственные существа, которые плачут от чувств. Почему это происходит – еще одна из множества загадок природы. Слезы не приносят никакой физиологической пользы. А еще, прямо скажем, несколько странно, что это свидетельство глубокой печали вызывается в равной степени и самозабвенной радостью, и тихим восторгом, и сильной гордостью, и почти любым другим мощным эмоциональным состоянием.
В выработке слез участвует необычайное множество разных крошечных желез вокруг глаз, а именно желез Краузе, Вольфринга, Молля и Цейса, и еще почти полсотни мейбомиевых желез в веках. В общей сложности вы производите от пяти до десяти унций (140–290 мл) слез в день. Слезы утекают через слезные точки – отверстия в маленькой мясистой шишечке (она называется слезным сосочком, или papilla lacrimalis), расположенной в углу каждого глаза рядом с носом. Когда вы плачете от чувств, слезные точки не успевают вовремя отводить жидкость, поэтому она переливается через край и стекает по щекам.
Цвет глаза определяет радужная оболочка. Она состоит из пары мышц, которые регулируют степень раскрытия зрачка, во многом подобно кадровому окну фотоаппарата, впуская лишь нужное количество света. На первый взгляд радужка выглядит как аккуратное кольцо, обрамляющее зрачок. Однако при ближайшем рассмотрении вы заметите, что на самом деле это, пользуясь выражением Дэниела Макнилла, «буйство пятен, клиньев и спиц» и у каждого из нас в нем свои узоры – вот почему сегодня для идентификации личности на контрольно-пропускных пунктах все чаще устанавливаются устройства распознавания радужки.
Белок глаза в научном обиходе известен как склера (от греческого слова «твердый»). Наши склеры отличаются от склер любых других приматов. Они позволяют нам с немалой точностью следить за взглядами других, а также безмолвно общаться. Чтобы ваш собеседник обратил внимание, скажем, на кого-то за соседним столиком в ресторане, вам нужно лишь легонько двинуть глазными яблоками[195].
У нас в глазах есть два типа зрительных фоторецепторов – палочки, которые помогают видеть в темноте, но не воспринимают цвета, и колбочки, которые включаются при ярком освещении и делят мир на три цвета: синий, зеленый и красный. У страдающих дальтонизмом обычно не хватает одного из трех типов колбочек, поэтому они видят не все цвета, а только их часть. Людей, у которых колбочки отсутствуют вообще, настоящих дальтоников, называют монохроматами. Больше всего им мешает не блеклость мира, а то, что при ярком освещении приходится очень напрягать глаза: дневной свет может их в буквальном смысле ослепить[196].
Так как давным-давно мы были ночными животными, цветовое восприятие у наших предков в какой-то момент стало беднее – иными словами, они пожертвовали колбочками ради палочек, чтобы улучшить ночное зрение. Лишь намного позже приматы снова развили способность видеть оттенки красного и оранжевого, чтобы удобнее было искать спелые фрукты, но у нас по-прежнему есть только три вида цветовых рецепторов – а у птиц, рыб и рептилий их четыре[197]. Странно об этом думать, но практически все существа, кроме млекопитающих, живут в визуально более богатом мире, чем мы.
С другой стороны, мы неплохо обходимся тем, что имеем. По разным оценкам, человеческий глаз способен различить где-то от двух до семи с половиной миллионов цветов. Даже если истина ближе к нижней границе диапазона, это все же немало.
Ваше поле зрения удивительно компактно. Вытяните руку и посмотрите на большой палец: примерно таковы размеры области, которая постоянно находится у вас в фокусе. Но поскольку взгляд постоянно мечется – делая по четыре снимка в секунду, – у вас создается впечатление, что вы видите гораздо более масштабное поле. Движения глаза называются саккадами (от французского слова, означающего «рывок»), и каждый день вы совершаете около четверти миллиона таких движений, абсолютно об этом не задумываясь. (У других людей мы этого тоже не замечаем.)
Кроме того, все нервные волокна выходят из глаза через один общий канал, расположенный в задней части глазницы, оставляя примерно в пятнадцати градусах от центра нашего поля зрения слепое пятно. Зрительный нерв довольно объемный – толщиной где-то с карандаш, – и потому потеря обозримого пространства оказывается заметной. Найти слепое пятно можно с помощью простого упражнения. Закройте левый глаз, а другим смотрите прямо перед собой. Теперь отведите один палец правой руки как можно дальше от лица. Медленно проведите пальцем вдоль поля зрения, продолжая неотрывно глядеть прямо перед собой. Рано или поздно палец исчезнет как по волшебству. Поздравляю – вы нашли свое слепое пятно!
Обычно вы не замечаете слепого пятна, потому что мозг неустанно заполняет пустоту. Этот процесс называется перцептивной интерполяцией. Стоит заметить, что слепое пятно – это не просто пятнышко, а существенная область в центре вашего поля зрения. Не удивительно ли, что значительная часть того, что вы «видите», на самом деле мираж? Викторианские натуралисты иногда использовали этот факт как еще одно доказательство божественного милосердия, естественно, не тратя времени на раздумья о том, зачем вообще нужно было наделять нас неполноценным зрением[198].
СЛУХ
Слух – еще одно серьезно недооцененное чудо. Представьте себе, что вам дали три крохотные косточки, тощий пучок мышц и связок, тоненькую перепонку и горсть нервных клеток и предложили из всего этого смастерить устройство, способное с более или менее совершенной четкостью воспринимать все разнообразие звуковых феноменов: нежный шепот, роскошь симфоний, успокаивающий стук дождя по листьям, капающий в соседней комнате кран. Когда вы надеваете наушники за шесть сотен фунтов и удивляетесь их восхитительному богатому звучанию, не забывайте о том, что этот дорогущий гаджет всего лишь обеспечивает разумное приближение к слуховому опыту, который ваши собственные уши дарят вам совершенно бесплатно.
Ухо состоит из трех частей. Внешняя, с основой из эластичного хряща, которую мы считаем ухом, формально называется ушной раковиной (на латыни используют слово pinna, среди значений которого – «плавник» и «перо»). На первый взгляд может показаться, что ушная раковина для своей функции не слишком удачно спроектирована. Любой инженер, начиная с нуля, придумал бы что-нибудь покрупнее и пожестче, скажем, вроде спутниковой антенны, – и уж конечно, не допустил бы, чтобы ее закрывали волосы. Однако на самом деле мясистые завитки нашего внешнего уха поразительно хорошо улавливают пролетающие мимо звуки – и, более того, умеют стереоскопически определять, откуда звук взялся и нужно ли обращать на него внимание. Вот почему если на вечеринке кто-то в другом конце комнаты произнесет ваше имя, вы не только это услышите, но и, повернув голову, сможете с удивительной точностью вычислить говорящего. Ваши предки веками становились добычей хищников ради того, чтобы у вас развилось это умение.
Хотя все внешние уши функционируют одинаково, их строение у разных людей столь же уникально и неповторимо, как отпечатки пальцев. По утверждению Десмонда Морриса, у двух третей европейцев мочки свободные, а у одной трети – сросшиеся. Однако то, прикреплены они к вам или хлопают на ветру, никак не влияет на слух и вообще ни на что.
Проход, расположенный за ушной раковиной – ушной канал, – заканчивается прочным и туго натянутым кусочком ткани, которая известна ученым как membrana tympani, а остальным – как барабанная перепонка, и отмечает границу между внешним ухом и средним ухом. Мельчайшие вибрации барабанной перепонки передаются трем самым мелким костям тела, вместе называемым слуховыми косточками, а по отдельности – молоточком, наковальней и стремечком (из-за крайне туманного сходства с соответствующими предметами). Слуховые косточки прекрасно иллюстрируют то, как часто эволюция вынуждена обходиться «тем, что есть». У давних наших предков они были костями челюсти и только со временем переместились на новые позиции в ухе[199]. На протяжении большей части своей истории эти три кости абсолютно никак не относились к слуху.
Задача слуховых косточек – усиливать звуки и передавать их во внутреннее ухо через улитку (лат. cochlea), структуру соответствующей формы, заполненную 2700 тоненькими волосковидными нитями, которые называются стереоцилиями, или ресничками. Когда по ним проходят звуковые волны, они волнуются, словно густая поросль морской травы. А затем мозг объединяет все сигналы и догадывается, что́ только что услышал. Масштабы этого механизма поразительно скромны: улитка размером не больше семечка подсолнуха, слуховые косточки поместились бы на пуговице рубашки, – однако функционирует он невероятно хорошо. Волна давления, сдвинувшая барабанную перепонку на расстояние меньше ширины атома, активирует косточки и доберется до мозга звуковым сигналом[200]. Сконструировать лучше в буквальном смысле нельзя. Как выразился ученый-акустик Майк Голдсмит,
умей мы улавливать еще более тихие звуки, нам пришлось бы жить в окружении непрерывного шума, ведь мы слышали бы повсеместное хаотическое движение молекул воздуха. Наш слух просто-напросто невозможно улучшить.
Между тишайшим звуком, который мы способны засечь, и самым громким простирается диапазон амплитудой в миллионы миллионов раз.
От слишком громких звуков нас защищает так называемый акустический рефлекс: уловив мощный звук, который может повредить нашему слуху, стременная мышца сокращается, отводит стремя от улитки, по сути разрывая цепочку, и некоторое время остается в таком положении – вот почему после взрыва мы часто оказываемся оглушенными. К сожалению, этот механизм не идеален. Как и любой рефлекс, он срабатывает быстро, но не мгновенно, и мышце на реакцию требуется около трети секунды – а к этому времени ущерб может быть уже нанесен.
Наши уши созданы для тихой жизни. Эволюция не предвидела, что однажды люди вставят в них пластиковые затычки и примутся обстреливать барабанные перепонки мелодичным стодецибеловым ревом с расстояния нескольких миллиметров. Стереоцилии и так с возрастом имеют тенденцию изнашиваться и, увы, уже не восстанавливаются. Отмерший элемент останется нечувствительным навсегда. Особой причины для этого нет. У птиц стереоцилии замечательно отрастают обратно. А вот у нас не отрастают. Высокочастотные реснички расположены спереди, а низкочастотные – дальше. Это означает, что все звуковые волны – и высокие, и низкие – проходят через высокочастотные реснички, и от этого более активного использования они изнашиваются быстрее[201].
Для измерения мощности, интенсивности и громкости различных звуков ученые-акустики в 1920-х годах изобрели концепцию децибела. Термин придумал полковник сэр Томас Фортун Первс, главный инженер Британской почтовой службы (в ведении которой в те дни находилась телефонная связь – отсюда и интерес к технологии звукоусиления). Децибел – логарифмическая единица, а это значит, что изменяется она не по арифметическим в повседневном смысле этого слова законам, а по порядкам величины. Так что два звука по 10 дБ в сумме будут равняться не 20, а 13 дБ. Громкость удваивается примерно каждые 6 дБ, следовательно, 96 дБ – это не просто громче, чем 90 дБ, а в два раза громче. Болевой порог для звуков составляет около 120 дБ, а от шума свыше 150 может лопнуть барабанная перепонка. Для сравнения: в тихом месте вроде библиотеки или сельской местности шум составляет около 30 дБ, храп – это 60–80, громкий раскат грома – 120, а 150 – взлет реактивного самолета.
Ухо также отвечает за равновесие – спасибо крохотной, но гениально организованной серии полукруглых протоков и двум крошечным связанным мешочкам, называемым отолитовыми органами. Все вместе они – вестибулярный аппарат. Вестибулярный аппарат делает все то же, что делает гироскоп на самолете, но притом имеет чрезвычайно миниатюрную форму. Вестибулярные каналы заполнены гелем, который по функции слегка напоминает пузырек воздуха в строительном уровне. Перемещение геля из стороны в сторону или вверх и вниз сообщает мозгу, в каком направлении мы движемся (именно поэтому вы без всяких визуальных подсказок чувствуете, едет лифт вверх или вниз). Когда мы спрыгиваем с карусели, нас шатает потому, что голова остановилась, а гель продолжает двигаться, ненадолго дезориентируя тело[202]. С возрастом этот гель становится гуще, уже не так свободно плещется, и это одна из причин того, почему пожилые люди часто не так твердо стоят на ногах (и почему им особенно не стоит спрыгивать с движущихся объектов). Если равновесие долго не удается восстановить, мозг, не зная, что делать с информацией, интерпретирует происходящее как отравление[203]. Вот почему потеря равновесия, как правило, вызывает дурноту.
Еще одна часть уха, о которой нам время от времени приходится вспоминать, – это евстахиева труба. Она образует что-то вроде туннеля для выхода воздуха между средним ухом и носовой полостью. Всем знакомо неприятное ощущение в ушах при быстром изменении высоты, например при снижении самолета на посадку. Оно называется эффектом Вальсальвы и возникает из-за того, что давление воздуха внутри головы не справляется с перепадом давления воздуха снаружи. А техника «продувки» ушей, когда вы выдыхаете с зажатыми ртом и носом, в свою очередь, называется маневром Вальсальвы. И то и другое – по имени жившего в семнадцатом веке итальянского анатома Антонио Марии Вальсальвы, который, кстати, назвал евстахиеву трубу в честь своего коллеги-анатома Бартоломео Эустахио. Как вам, без сомнения, наказывала матушка, не стоит дуть слишком сильно. Иначе можно порвать себе барабанную перепонку.
ОБОНЯНИЕ
Почти любой человек, если его спросить, с каким одним чувством он согласился бы расстаться, ответит: с обонянием. Согласно одному исследованию, пятьдесят процентов людей в возрасте до тридцати лет заявили, что скорее пожертвуют обонянием, чем любимым электронным девайсом[204]. Надеюсь, мне не требуется объяснять, что это было бы несколько неразумно. На самом деле большинство людей не осознают, сколь сильно обоняние влияет на человеческое счастье и способность наслаждаться жизнью.
Ученые из Монелловского центра изучения химических чувств в Филадельфии посвятили себя изучению обоняния – и слава небесам, потому что других желающих не так много. Расположившийся в неприметном кирпичном здании возле кампуса Пенсильванского университета центр является крупнейшим исследовательским учреждением в мире, специализирующимся на двух сложных и недооцененных чувствах: вкусе и обонянии.
«Исследование восприятия запахов – этакая наука-сирота», – признался мне Гэри Бошам во время моего визита в Монелловский центр осенью 2016 года. Бошам, дружелюбный мужчина с мягким голосом и аккуратной белой бородкой, – почетный президент центра. «Каждый год о зрении и слухе публикуются десятки тысяч статей, – пояснил он. – А о восприятии запахов – максимум несколько сотен. То же самое и с финансированием исследований: на слух и зрение выделяется по меньшей мере в десять раз больше денег, чем на обоняние».
Одним из последствий стало то, что мы еще многого не знаем про обоняние – включая сам принцип его работы. Когда мы шмыгаем носом или вдыхаем, молекулы пахучих веществ из воздуха попадают в носовые проходы и касаются обонятельного эпителия – участка нервной ткани, на котором содержится примерно 350–400 видов обонятельных рецепторов. Если конкретная молекула активирует нужный рецептор, он посылает сигнал в мозг, где тот интерпретируется как запах. Как именно это происходит – вот камень преткновения. Многие авторитетные ученые считают, что молекулы пахучего вещества подходят к рецептору, как ключ подходит к замку. Проблема с этой теорией заключается в том, что иногда у молекул одного и того же запаха бывают разные химические формы, а у других форма почти совпадает, но запахи разные, а значит, столь простого объяснения недостаточно. Поэтому появилась альтернативная, несколько более сложная теория, согласно которой рецепторы активируются так называемым резонансом[205]. Суть ее в том, что их активирует не форма молекул, а их вибрации.
Для тех из нас, кто наукой не занимается, это не особенно важно, ведь результат в обоих случаях одинаков. Важно то, что ароматы – штука сложная и их нелегко разложить на составляющие. Молекулы пахучего вещества обычно активируют рецепторы не одного вида, а нескольких, примерно как пианист, играющий аккорды, – но на огромной клавиатуре. В банане, например, содержится триста видов летучих веществ, или активных пахучих молекул. В помидоре – четыреста, в кофе – не меньше шести сотен[206]. Разобраться, как и до какой степени они участвуют в распространении аромата, не так-то просто. Даже на самом базовом уровне результаты часто оказываются безумно нелогичными. Смешайте фруктовый запах этилизобутирата с карамельным флером этилмальтола и фиалковым ароматом аллил-альфа-ионона, и вы получите запах ананаса, который абсолютно не похож на три своих основных компонента. А другие химические вещества очень различаются по структуре, но аромат у них одинаковый, и причина этого тоже никому не ясна. Запах жженого миндаля можно воспроизвести семьюдесятью пятью различными химическими комбинациями, у которых нет ничего общего, кроме того, как их воспринимает человеческий нос. Из-за сложности предмета мы по-прежнему лишь начинаем его постигать. Например, запах лакрицы деконструировали лишь в 2016 году. Огромное множество других обыденных запахов еще только предстоит расшифровать[207].
Долгие десятилетия повсеместно считалось, что люди способны различать около десяти тысяч различных запахов, но затем кто-то решил выяснить, откуда появилось это предположение, и обнаружил, что впервые его высказали еще в 1927 году два бостонских инженера-химика и цифру они выбрали наугад. В 2014 году исследователи из Университета Пьера и Марии Кюри в Париже и Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке опубликовали в журнале Science, что на самом деле наше обоняние куда тоньше – мы чувствуем по крайней мере триллион запахов или даже более[208]. Другие специалисты в этой области тут же подвергли сомнению статистическую методологию, которая использовалась в исследовании. «Эти утверждения ничем не обоснованы», – без обиняков заявляет профессор биологических наук Калифорнийского технологического института Маркус Майстер[209].
Любопытной и важной особенностью нашего обоняния является то, что это единственное из пяти основных чувств, которое не обслуживается гипоталамусом. Когда мы чувствуем запах, информация по какой-то таинственной причине отправляется прямо в обонятельную область коры, примостившуюся под боком у гиппокампа, в котором формируются воспоминания. Некоторые нейробиологи считают, что именно поэтому некоторые запахи вызывают у нас столь яркие воспоминания.
Запах – это, конечно же, крайне индивидуальное переживание. «Мне кажется, самое поразительное свойство обоняния в том, что для всех нас оно разное, – сказал мне Бошам. – Хотя у каждого насчитывается 350–400 видов рецепторов, общих среди них только примерно половина. А это значит, что мы все чувствуем разные запахи».
Он потянулся, достал из стола пузырек, снял с него крышку и предложил мне понюхать. Я не почувствовал вообще никакого запаха.
«Это гормон андростерон, – объяснил Бошам. – Около трети людей, так же как и вы, не чувствуют его запаха. Для другой трети он пахнет чем-то вроде мочи, а для остальных – сандаловым деревом. – Он улыбнулся шире. – Если подумать, что три человека не могут договориться даже о том, приятный это запах, неприятный или его вовсе нет, начинаешь понимать, насколько непростой предмет обоняние».
Большинство из нас даже не представляет, как хорошо мы улавливаем запахи. В ходе одного завораживающего эксперимента исследователи из Калифорнийского университета в Беркли проволокли по широкому полю травы пахучее вещество, выделенное из шоколада, и предложили добровольцам пройти по следу, как гончая, на четвереньках, припав носом к земле. Поразительно, но примерно две трети испытуемых сумели с удивительной точностью определить и проследить аромат. В пяти из пятнадцати протестированных запахов люди буквально превзошли собак[210].




