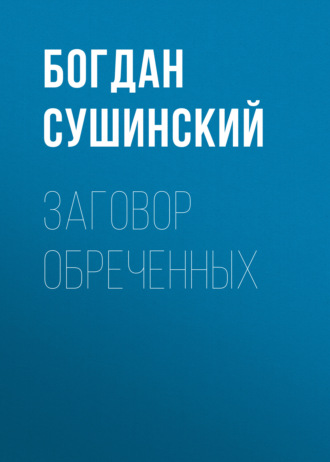
Богдан Сушинский
Заговор обреченных
10
Заместитель командующего армией резерва генерал Ольбрихт как можно спокойнее взглянул на часы и, отметив про себя, что после «часа X» прошло уже более пяти минут, приказал находящемуся здесь же, в кабинете, адъютанту срочно соединить его с начальником службы связи Верховного главнокомандования вермахта.
Пока тот пробивался до узла связи «Вольфшанце», Ольбрихт прохаживался мимо сидящих вполоборота к нему генералов, один из которых, генерал-полковник Бек, согласно их плану, должен был принять на себя обязанности президента новой Германии; другой – Геппнер – возглавить армию резерва. Если операция «Валькирия» пройдет успешно, то уже через несколько часов оба эти господина окажутся его, Ольбрихта, начальниками.
Подумав об этом, Ольбрихт снисходительно хмыкнул про себя. В подготовительной суете организаторы забыли определиться лично с ним, Ольбрихтом. Не то чтобы совсем, но как-то слишком уж неясно.
Оно, конечно, не время сейчас делить посты и портфели, как бы не пришлось разбираться с висельничными петлями. И все же… В свои шестьдесят четыре, при тех заслугах, а также усилиях и риске, которые выпали на его долю в этом святом заговоре генералов, он мог бы спокойно претендовать и на любой из этих двух постов. Или пост главнокомандующего сухопутными силами, который почему-то предопределен фельдмаршалу Витцлебену.
– На связи генерал Фельгибель, – слышится из адъютантской голос дежурного офицера.
Ольбрихт метнулся к столу, схватил трубку.
– Здесь генерал Ольбрихт. Что там у вас происходит, генерал? До нас дошли слухи…
– Они правдивы, – голос Фельгибеля сухой, взволнованный, и в какие-то мгновения Ольбрихту кажется, что он дрожит. – Совершено покушение на фюрера. Об этом, очевидно, будет официальное сообщение, – на всякий случай подстраховывается начальник службы связи, чтобы подслушивающие воспринимали его слова как официальный ответ на запрос штаба армии резерва, а не как беседу двух заговорщиков. – Взрыв был очень мощным. Очень…
– А что фюрер?
– Хотите спросить, не погиб ли он? К счастью, он жив и находится в безопасности.
Худощавое лицо Ольбрихта покрывается испариной. Забыв о платочке, он прямо ладонью вытирает глубокие, чуть ли не до темени, залысины, и нервно подергивает плечами.
– Вы уверены, что фюрер в безопасности? Что он жив, и что?..
Бек и Геппнер медленно, словно лунатики, поднимаются со своих мест и почти на носках приближаются к столу, за которым стоит заместитель командующего армии резерва, словно хотят услышать ответы Фельгибеля собственными ушами.
– Я бы, скорее всего, ответил, что да, уверен. Но сейчас здесь слишком много людей, все взвинчены и никто ничего толком не знает. Если позволите, я позвоню вам через несколько минут.
– Мы уже ждали твоего звонка, Фриц, – только сейчас, несколько опрометчиво, напоминает ему Ольбрихт о том, что он сам обязан был связаться с ним и произнести хотя бы ту одну-единственную фразу, которая была ими обусловлена, – «Штиф приведен в движение». Именно она послужила бы сигналом к проведению всей операции «Валькирия». – И будем ждать дальше.
Ольбрихт положил трубку и, сдернув с переносицы невзрачные мутноватые очки в круглой металлической оправе, принялся усердно протирать их, стараясь при этом не встречаться взглядом со своими сообщниками.
– Не кажется ли вам, что если бы фюрер погиб, Фельгибель уже знал бы об этом? – сдавленным голосом говорит Геппнер.
– Но взрыв произошел, Фельгибель подтвердил это, – возражает Бек. Он всегда выглядел несколько решительнее Геппнера.
– Из этого ничего не следует, – упрямствует Геппнер.
Еще осенью сорок первого Геппнеру прочили большое будущее и даже ставили его в один ряд с Гудерианом и Манштейном. Но уже зимой, спасая свою 4-ю танковую армию, где-то там, в русских снегах, он отдал приказ о ее отступлении, не получив на то соизволения фюрера. И был отправлен в отставку без права ношения формы. Поговаривали, что Гитлер даже грозился вообще разжаловать его до рядового и отправить в окопы, но потом поддался на уговоры Кейтеля и смирил свой неправедный гнев. Вот тогда Геппнер сник. Тогда и затаил ненависть к Гитлеру, которая со временем привела его в стан «валькиристов».
– В любом случае нам следует действовать, – еще более жестко утверждает свою решительность Бек, тоже в свое время изгнанный. Свою непонятную многим решительность он доказал, еще будучи в должности начальника штаба вермахта, когда, задолго до этой войны выступил против решения фюрера оккупировать Прагу. За что и получил насмешливо-презрительную кличку «Пражский Миротворец». Однако теперь, когда Гитлер отправлен к праотцам и придется вести трудные переговоры с Англией и Америкой, его «пражское миротворчество» представлялось очень даже кстати.
В томительном ожидании прошло пять минут, десять. Фельгибель не звонил. И чем дольше длилось его молчание, тем больше в сознание Ольбрихта закрадывалось подозрение, что он уже никогда не позвонит сюда: то ли окончательно струсил, то ли уже арестован.
Приказав адъютанту находиться у телефона в ожидании звонка Фельгибеля, Ольбрихт заявил, что идет к Фромму.
– Может, нам пойти всем вместе? – предлагает Бек.
– Я против, – сразу же предупреждает Геппнер. И Бек понимает его. Во время беседы с командующим Геппнер чувствовал бы себя слишком неловко. Ведь Фромм не догадывается, что перед ним человек, который через час должен занять его кабинет.
– Я постараюсь убедить Фромма. Если же нет… – Ольбрихт не договаривает, но оба генерала почему-то переводят взгляды на кобуру его пистолета.
– Если он заупрямится, нам придется действовать самим, – смягчает их решимость Ольбрихт.
11
Фромм ждал его появления. Как только Ольбрихт вошел, командующий весь напрягся и выжидающе уставился на него. До сих пор Фромм держался как бы в стороне от заговорщиков. То есть он, вроде бы, поддерживал их, нo в то же время не давал никаких оснований для уверенности в нем. Вот почему каждый раз, когда доходило до определения действий командующего, путчисты вынуждены были оговаривать: «Если Фромм не примкнет к нам, его придется изолировать, заменив Геттером».
– Что-то я не вижу Штауффенберга. Нам важно знать, одобрил фюрер план создания новых частей из ополченцев или нет, – первым заговорил командующий, давая понять, что его интересует сейчас только это.
«Как же он заботится о своем алиби! – недовольно поморщился Ольбрихт. – Наверняка уже продумал как минимум пять версий объяснения своего бездействия на случай провала. “Да, оказывается, заговорщики действовали под крышей штаба армии резерва. Но причем здесь я?”»
– Мы тоже пока не видим здесь полковника Штауффенберга, господин командующий, – воинственно отвечает Ольбрихт. – Но для того, чтобы вернуться из «Волчьего логова», нужно время. И стоит ли нам терять его? Только что я беседовал с генералом Фельгибелем. Он передает, что покушение на фюрера состоялось. Вся ставка в панике. Больше нам ждать нечего. Мы просили бы вас, господин генерал-полковник, отдать подчиненным частям приказ о действиях согласно плану «Валькирия».
– Подождите вы со своим планом «Валькирия», Ольбрихт… – вырастает из-за стола гигантская фигура командующего. – Кто подтвердил, что покушение действительно состоялось, – да, нет? – Лицо командующего становится пепельно-серым, а пальцы он сжимает в кулаки, возможно, только для того, чтобы не выдавать дрожи. Однако Ольбрихт старается не замечать этого. Он и сам пребывает в адском напряжении.
– Это подтвердил сам начальник службы связи Верховного командования вермахта генерал Фельгибель. Он сейчас там, в ставке фюрера. И кто, как не он…
– Заверения Фельгибеля – еще не доказательство. Есть официальное сообщение о том, что фюрер погиб? – стоит на своем командующий армией резерва. – Я спрашиваю: да, нет? А мне нужны четкие, убедительные доказательства.
– Но вы можете сами связаться со ставкой и проверить.
– Именно это я и намерен сделать. И пока не услышу подтверждения из уст самого Кейтеля…
– Кейтель был на совещании. Его могло спасти только чудо.
– Чудо – это как раз для Кейтеля, – медленно двигает массивной, похожей на жернов, нижней челюстью Фромм; Ольбрихт пытается понять сказанное им, но не может.
Все проясняется буквально через минуту. Ольбрихт потрясен. Кейтель отвечает сразу же. В иное время до него почти невозможно дозвониться, невозможно выловить в штабных лабиринтах ставки, а тут вдруг…
– Господин фельдмаршал, – торжественно-заискивающим тоном начинает Фромм. – Я хотел бы выяснить, правда ли, что?..
– Это произошло, Фромм. Это произошло! – разъяренно кричит в трубку начальник штаба Верховного командования вермахта. – Какие-то грязные подонки, предатели рейха, осмелились совершить покушение на фюрера. Но вы не должны выполнять никаких приказов, кроме тех, что поступают из ставки. Вы поняли меня, Фромм? Мы пока не знаем, кто они. Но очень скоро заговорщики выдадут себя. Кое-какие подозрения уже имеются. Поэтому никаких приказов, которые могли бы изменить ситуацию, в столице.
– То есть фюрер жив?
– Жив и совершенно невредим. Сообщите об этом всем офицерам своего штаба. Важно, чтобы они знали. Он, конечно, получил несколько царапин, слегка оглушен… Но мы-то, военные, понимаем, что это чепуха. Да, еще четыре человека тяжело ранены. Один полковник, кажется, убит. Или умер уже в госпитале.
– Значит, господь по-прежнему хранит нашего фюрера, – громыхает в трубку Фромм, победно, по-садистски, ухмыляясь Ольбрихту. И тому кажется, что, положив на рычаг трубку, командующий тотчас же возьмется за пистолет.
– Кстати, здесь был ваш начальник штаба полковник Штауффенберг. И, как только что выяснилось, он куда-то внезапно исчез. Причем за несколько минут до взрыва. Прямо из зала совещания. Вам известно, где он сейчас находится?
– Никак нет.
– Вы точно знаете, что он еще не появлялся у вас?
– Я спрошу у присутствующего здесь моего заместителя. Генерал, вам что-либо известно о местонахождении полковника Штауффенберга? – спрашивает он, обращаясь к Ольбрихту, но не отнимая трубки от уха.
– Пока что нет.
Фромм повторяет его ответ фельдмаршалу.
– Как только он появится, – грозно повышает тон Кейтель, – примите меры к тому, чтобы задержать его. Исчезновение полковника кажется нам достаточно подозрительным. Вот так, генерал.
«Это все! – понимает Ольбрихт. – Провал. Все мы погибли. Как же это могло случиться?»
Связь прервалась, но Фромм еще какое-то время стоит у аппарата с трубкой в руке и с уничтожающей презрительностью смотрит на своего заместителя.
– Так что вы мне здесь рассказываете, Ольбрихт? Фюрер, говорите, мертв? Или, может быть, хотите убедить меня, что это Кейтель лжет? Они даже знают, чья это работа – ваш взрыв. Интересно, как вы будете выпутываться сейчас из всего того кавардака, который устроили здесь – да, нет?
«Уже сейчас он дает понять, что не имеет ничего общего с нами, – похолодело в висках у Ольбрихта. – Сколько же вас сейчас обнаружится, таких вот… предателей!»
Ольбрихт поворачивается и, сутулясь, еле шевеля ногами, словно сам только что оказался в эпицентре взрыва, повергшего в смятение всю ставку фюрера, бредет к двери. Но у края стола останавливается и медленно поворачивается к командующему.
– Если говорить честно, я не уверен, что Кейтель сказал всю правду. Возможно, они там, в ставке, всего лишь выигрывают время, чтобы взять под контроль основные рычаги власти.
– И поэтому скрывают от нас? – уже спокойнее уточняет Фромм.
– Естественно. Это в их интересах.
– Но какие у вас доводы, кроме собственных сомнений? И попомните меня, чем скорее этот одноглазый окажется на том свете, тем меньшей кровью отделаетесь все вы. Если только вы тоже замешаны в этом заговоре, генерал Ольбрихт, – неожиданно указывает он путь к спасению, приглашая Ольбрихта под свое, покровительственное крыло. – В чем я очень сомневаюсь.
– Замешан.
– Вот как?
– И вы прекрасно знаете об этом. Замешан, как замешаны и вы.
– Прекратите свои глупые шутки, Ольбрихт.
– Даже если окажется, – не дает ему договорить Ольбрихт, – что фюрер действительно остался в живых, нам все равно следует действовать. Мы не одни. Нас поддержат Роммель, Штюльпнгель, Клюге. В нашем распоряжении находится несколько военных училищ и частей в самом Берлине… Поймите, господин Фромм, если мы упустим время, то время упустит нас. Хотя речь сейчас идет уже не о нас – о спасении Германии.
Фромм самодовольно хмыкает и по-наполеоновски скрещивает руки на груди.
– Поскольку это разговор тет-а-тет. Только из уважения… Вам известны были мои условия. Теперь, очевидно, что вы, то есть ваши дружки, опять напортачили. Этот ваш трусливый циклоп, из-за которого вы, как помнится, уже дважды поднимали войска по тревоге… да, нет? Как только вы могли полагаться на это ничтожество?
– Не смейте так говорить об этом человеке!
– Как вы могли положиться на это ничтожество, Ольбрихт? – ожесточился Фромм, грохая кулаками по столу. – Вот чего я не могу понять. Обо всем остальном я попросту не слышал.
Несколько минут Ольбрихт угрюмо молчал. В душе он уже готов был согласиться с Фроммом. Он помнил, как долго Штауффенберг решался, как, пронося взрывчатку в зал совещания, трусливо возвращался с ней сюда, в штаб. Но даже если он, Ольбрихт, взберется сейчас на стол командующего и, стоя на нем, провозгласит перед всеми сотрудниками, что Штауффенберг негодяй и последнее ничтожество… Что от этого изменится?
– Господин командующий, сейчас не время… Многое зависит лично от вас. Все равно ведь ваше участие будет определено. Так не лучше ли сейчас, пока не поздно, действовать более решительно?
– Я уже сказал, генерал Ольбрихт! – побагровел Фромм. – Если только дело дойдет до… Я не только не знал о подготовке покушения, но и вас, лично вас, тоже не знал!
12
Муссолини летел на встречу с Гитлером. Арест офицерами королевской гвардии, скитания по местам заключения, наконец, похищение, совершенное с вершины Абруццо диверсантами Скорцени, – все эти события, сокрушившие столь старательно создаваемый им образ великого дуче, психологически надломили бывшего премьер-министра Италии. А первые дни пребывания в Германии на правах то ли бежавшего из тюрьмы уголовника, то ли политического эмигранта, деликатно именуемого «яичным гостем фюрера», еще и показались Муссолини оскорбительными. Да, оскорбительными, хотя никакой вины в этом ни фюрера, ни кого бы то ни было из германских политиков не было.
Самолет пролетал над Австрией, и дуче мог видеть вершины Восточных Альп; голубовато-зеленые чаши озер, лазурево поблескивающих посреди горных лугов; извилистые вены горных речушек, самозабвенно устремляющихся к беспокойному предгорному Инну[8]…
Муссолини специально попросил пилота, чтобы он держался как можно ниже, что позволяло ему осматривать с подоблачной высоты все то, что еще оставалось в его владении на севере Италии; еще раз пройтись взглядом по территории его несостоявшейся империи, по которой в последнее время он так жадно рыскал с помощью самых крупномасштабных, предоставленных ему штабом обергруппенфюрера СС Вольфа[9] карт.
– Было бы удобнее, если бы наша встреча проходила здесь, в Берхтесгадене, – пожаловался Муссолини склонившемуся к нему личному секретарю. Он прибывал в ставку фюрера налегке, без дипломатической свиты и протокольной прислуги. Не то время сейчас, чтобы устраивать помпезные выезды к соседним правителям, не то…
– Но Гитлер, говорят, надолго перебрался в Растенбург, чтобы быть поближе к фронтам. К тому же «Волчье логово» лучше подготовлено к налетам авиации противника и надежнее охраняется.
– А мне вот приходится тащиться к нему через всю Европу. И добро бы – в Берлин.
Секретарь, он же личный телохранитель дуче, молчаливо склонил голову, как бы скорбя по безвременно утраченному его покровителем самолюбию. В другие времена, по которым так грустит теперь даже Гитлер, он, Муссолини, возможно, еще и подумал бы, следует ли наносить визит при условии, что ему не будет оказан прием, достойный вождя Италии. Однако в те времена Гитлер тоже не стал бы принимать его в каком-то затхлом бункере, теряя при этом возможность продемонстрировать всей Европе, что, невзирая ни на что, ось «Рим – Берлин» существует, а мощь двух стран способна противостоять…
Впрочем, что осталось от этой мощи и кому она способна нынче противостоять, если американцы уже заняли половину его несчастной, раздираемой гражданской войной Италии?
Вершины Альп остались позади, и теперь под крылом самолета медленно таяли в белесой дымке испещренные коричневатыми крышами замков и крепостей да пришпиленные к небесам остриями сборов небольшие, голубовато-зеленые равнины Баварии. Всматриваясь в них через запотевший иллюминатор, Муссолини думал сейчас о том же, о чем верноподданнически страдал за него секретарь. Ситуация на севере Италии представлялась таковой, что, возможно, через месяц-другой ему вновь придется искать спасения в Германии, в ставке своего последнего, единственного союзника. И тогда «Вольфшанце» окажется пристанищем сразу двух вождей.
Не хотелось бы Муссолини дожить до этих дней, не хотелось бы. Но англо-американцы уже близко. Король и маршал Бадольо тоже давно готовы растерзать его беспомощную «армию». Но всего опаснее представлялись ему прокоммунистически настроенные партизаны, отрядов которых становилось в горах все больше и больше.
Конечно, Муссолини был рад, что фюрер все еще принимает его как главу государства, хоть как-то считается с ним. В то же время он понимал всю условность договоренностей, которые будут достигнуты в «Вольфшанце», поскольку Германия сама находится на пороге краха – военного, экономического, политического.
К тому же дуче неприятно шокировало само идиотское название ставки, в которой будет происходить их встреча. Он представлял себе, с какой иронией будут читать его макаронники в римских газетах о том, как дуче и фюрер, забравшись в «Волчье логово», о чем-то там якобы договаривались. Уж не о том ли, в какое логово забиться, когда станет ясно, что обе их империи окончательно рухнули?
«Три тысячелетия нашей истории позволяют нам, итальянцам, с величественным равнодушием воспринимать доктрины, существующие по ту сторону Альп, – неожиданно вспомнились ему собственные, преисполненные цезарского величия слова, сказанные в одной из речей еще в те, довоенные времена, когда он готовился к великой войне за Африку. Когда, еще предвкушая победу в Абиссинии, помышлял о превентивной войне против Англии, а газеты Италии даже позволяли себе откровенно антигерманские публикации, готовя общественное мнение к военному конфликту с Германией на стороне Австрии. – …Доктрины, разработанные потомками тех людей, которые в дни Цезаря, Вергилия и Августа еще не знали грамоты». И все это о германцах!
Муссолини уже не мог припомнить этот свой пассаж в дословном изложении, но произнесено было именно в таком духе. Если Гитлеру решились пересказать его слова, он, очевидно, воспринял их как оплеуху. Но ведь наверняка не пересказали. Пощадили имперское величие фюрера великой Германии, распространявшееся к тому времени уже по обе стороны Альп.
Зато ему, Муссолини, немедленно докладывали о каждом политическом шаге, о каждом высказывании Гитлера относительно Италии и ее дуче. Особенно дуче. И были времена, когда фюрер откровенно лебезил перед ним. Как тогда, когда решался вопрос о Рейнской области[10] или когда Гитлер побаивался слишком глубоко втягиваться в гражданскую войну в Испании и решительность пришлось проявлять итальянским генералам.
– Мы уже рядом с Судетами, – приблизился к нему секретарь, успевший до этого заглянуть в пилотскую кабину. – Сейчас пилот сменит высоту, побаивается, как бы в небе не появились русские истребители, постоянно околачивающиеся над соседними Карпатами.
– Сколь высоко ни забирались бы пилоты, вознестись в небеса во время этого полета нам не суждено, – заклинающе проговорил дуче и, сняв пилотку, принялся обмахиваться ею, думая при этом о чем-то своем. Взгляд его остекленел, губы едва заметно шевелились, вскинутый подбородок принадлежал уже не изгнаннику, нашедшему себе приют на забытых Богом берегах озера Гарда, а дуче, наследнику славы величайших римских императоров.
– Вы правы, синьор Муссолини, вознестись нам уже не дано, – поддался влиянию его угасающего величия секретарь.
«Интересно, – подумал Муссолини, совершенно забыв о существовании и секретаря, и сидевших позади него двух министров. – Перевез ли Гитлер в свой бункер мой бюст, который стоял в его рабочем кабинете в Коричневом доме? Прекрасный, великолепной работы бронзовый бюст».
Узнав, что, принимая важнейшие решения, касающиеся судеб Европы, фюрер лицезреет его бюст, Муссолини даже не возгордился, а воспринял это как дань справедливости. В конце концов, фашизм как общечеловеческая идея зарождался не в Берлине, а в Риме. И мысленные взоры всех оплодотворенных этой идеей в любой точке мира обращены все же не к Берлину, а к первоисточнику.
Те несколько минут, пока они подлетали к Висле, Муссолини сидел, бездумно погрузившись в состояние небытия. Раньше были целые недели, в течение которых он не в состоянии был унять свою буйную фантазию и клокочущую энергию. Какой потрясающей была тогда жизнь, как сладостно было, сидя в резиденции, обдумывать завтрашние выступления, приказы, приемы… Ранним утром он уже лихорадочно диктовал тексты, а поздним вечером вел беседы с генералами, планируя грандиозные военные операции, которые, по его замыслу, должны были вернуть Италии военный гений Древнего Рима.
Другое дело, что, кроме всего этого, его еще и хватало на ночные уличные вылазки, во время которых он инкогнито флиртовал с римскими проститутками. И даже близкие знакомые делали вид, что не узнают его из-за глубоко надвинутой на глаза шляпы да поднятого воротника измятого плаща. Но это уже воспоминания из тех, что на ночь глядя…
Когда полет в бездумие был завершен, Муссолини вновь ощутил, как вибрирует корпус самолета, словно он шел не по небесам, а по искореженной мостовой; прислушался к подозрительным захлебам моторов, и ему вдруг ностальгически захотелось в прошлое, в прожитое. Захотелось той единственной власти, которой не дано было ни одному императору, ни одному гению от политики ли, от фаланги – власти, достаточной для того, чтобы открутить пленку своей жизнехроники хотя бы на два-три года назад.
«Если Гитлер, этот мюнхенский колбасник, еще к тому же заставит меня ожидать приема в одном из сырых бараков ставки, я хлопну дверью и вернусь в Рокка делле Каминате, “к себе на озеро”, – подумал Муссолини. – Что, и в самом деле вернешься? – саркастически спросил он себя. – Ну-ну, весь генералитет “Вольфшанце”, вся газетная братия обхохочутся, узнав о том, что два великих фюрера погрызлись в “Волчьем логове” и разбрелись по своим берлогам-бункерам».
Муссолини вдруг вспомнился его триумфальный приезд в Берлин в сентябре тридцать седьмого. Многотысячные толпы горожан, бюсты римских императоров на бесконечной триумфальной аллее, проложенной специально к его приезду от Бранденбургских ворот до Вест-Энда, кроны откуда-то появившихся лавровых деревьев, которых вполне хватило бы на венки для всего офицерского корпуса Италии.
А чего стоили римские колонны на Унтер-ден-Линден, на каждой из которых омывались золотистыми лучами великоимперские орлы, сносящие в Берлин со всего мира освященные богами свастики… И «народный митинг», на который была согнана… – впрочем, почему «согнана»? – сошлась чуть ли не четверть Германии. И льстивые, хотя и вполне заслуженные речи фюрера, провозглашавшего перед всем миром, что он, Муссолини, из тех немногих вершителей мировых судеб, которые никогда не служат истории материалом для ее экспериментов, поскольку сами позволяют себе экспериментировать с историей, творя и выворачивая ее наизнанку.
– Подлетаем к ставке фюрера в Восточной Пруссии, – вновь вырвал его из потока воспоминаний неугомонный секретарь. – В воздухе появились немецкие истребители, которые будут сопровождать нас до аэродрома в Растенбурге.
– Вот это уже кое о чем говорит, – самодовольно кивнул дуче. – Они там должны помнить, что не каждый день их удостаивает своим визитом сам Муссолини.
Самолет еще только приближался к Растенбургу, когда над занавешенными зеленоватой маскировочной сетью крышами «Вольфшанце» в воздух взметнулось пламя сильного взрыва, салютуя великому дуче Италии султаном камней, обломками бревен и стаями насмерть перепуганного, вопящего воронья.
Вместо того чтобы отпрянуть от иллюминатора, дуче почти инстинктивно прильнул к нему лицом.
Было нечто мистическое в этом «триумфальном салюте» последнему императору Италии. И пока аэродромные службы Растенбурга мурыжили их в воздухе, пытаясь выяснить, что же произошло в ставке и позволяет ли это происшествие принимать иностранные самолеты, Муссолини исступленно, хотя и незримо для своих спутников, молился, чтобы этот взрыв не оказался тем самым безвременным вознесением на небеса фюрера Великогерманского рейха. Это было бы не просто убиением – смертным и политическим – двух дуче-фюреров, но крахом двух великих государственных идей, гибелью двух империй, разрушением целой эпохи человечества.
«Я проделал столь трудный путь сюда не для того, чтобы нам пришлось встречаться на небесах, – заклинал он, с надеждой всматриваясь в ту сторону городка, за которой начиналась ставка фюрера. Вдруг там последует еще один взрыв. – Нам пока еще есть о чем потолковать здесь, на земле».







