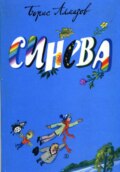Борис Александрович Алмазов
Тройной фронт
Казак Полторашапкин
Среди пополнения он выделялся тем, что приехал не верхом, а на подводе с сеном, запряженной двумя лошадьми, одной строевой, другой обозной и, кроме трехлинейки времен гражданской и шашки, коеми были вооружены почти все старики, имел новенький немецкий автомат. На мой вопрос – где взял? Ответил коротко:
– Отнял.
Через два дня как-то так вышло, что он стал моим ординарцем. Старики заметили мимоходом:
– Пущай – ко он, товарищ лейтенант, при вас лично состоить. Казак он исправнай. Бой понимаить. Ежели что, – ня выдасть. А для строя не очинно гожий – карахтерный больно.
Так Полторашапкин стал моим, как тогда говорили, ординарцем, и жизнь моя фронтовая резко улучшилась.
Во-первых, никаких забот о коне. Полторашапкин никого к коням не допускал и как мне кажется, будь его воля, и мне бы на коне ездить не разрешал. Во всяком случае, на мою кавалерийскую посадку он смотрел с нескрываемой тоской.
Во-вторых, я всегда был сыт. Уж полсухаря, а всегда он мне в руку сунет. А так – на пятнадцать минут остановимся – он, обязательно, горячего принесет, хоть кружку кипятку, а добудет.
В третьих, одежду всегда высушит, заштопает. С присловьем: «офицер должон быть исправен!» Слова «командир», как и «красноармеец», «боец» он не признавал, только – «офицер» и «казак».
Я говорю:
– Полторошапкин, я, например, еврей, пол взвода у нас узбеки, какие мы казаки?!
– Ежели, – отвечает, – вы ленты на кальсоны понашивали и в кавалерии служите, стал быть, говенные, но казаки! Стремитесь! Старательность являйте. Абизательна!
– Значит, мы теперь с тобою оба – казаки?
– Ты меня с собою не ровняй! Ты, в казаках служишь, и все. Война кончится и каждый из нас при своем окажется.. Я, как был казак, так и остануся, а ты и узбеки твои – наоборот.
За глаза он меня звал «Мой». «Пойду моего кормить. Обратно, нябось, исть хочеть!», «Надоть моему переказать» и, наконец, очень строго: «Никак невозможно. Мой осерчаить. Строгай!»
Жил я при Полторошапкине, как у Христа за пазухой. Однако, вызывает меня командир полка и говорит:
– Лейтенант, почему у тебя дед долговязый все время пьяный!
– Никак нет. Не замечал.
– Обрати внимание и немедля пресеки.
Вызвал Полторошапкина.
– Командир полка говорит – ты все время пьяный.
– Не пьяный, а выпивши. Разница. У меня ревматизьма. Лечусь.
– И как?
– Помогаить.
– Я спрашиваю: доза какая?
– Румочка. Румочка утром и, равномерно, в обед и вечером…
– А где взял?
– Мое.
Ну, я по наивности и успокоился. Через неделю командир.
– Разобрался, почему у тебя ординарец пьет.
– Он, товарищ командир, лечится, пожилой, ревматизм. Так, по рюмочке…Организм ослаблен.
– Ослаблен? Да ты видел эту «рюмочку»? Мы бы с тобой от одной румочки на тот свет отправимся!Оба!
Вызываю Полторошапкина.
– Неси «румочку».
С большой неохотой приносит некую емкость: у бутылки шампанского отпилено донышко и, неизвестным науке способом, припаяно к горлышку. Петровский «Кубок орла», одним словом.
– И ты это можешь выпить?
– Когда выпиваю, когда тюрьку накрошу,… Смотря по погоде. От жары – выпиваю, в холод – тюрьку толку.
Оказывается, на той телеге, на какой приехал Полторошапкин, под сеном укрывалась немецкая бочка со спиртом и он, «для ради обчей исправности организьмы», три раза в день к ней прикладывался. «По румочке».
Разумеется, я наорал на Полторашапкина. Приказал немедленно пьянку прекратить! А спирт уничтожить. Об исполнении доложить!
И Полторашапкин доложил об исполнении. После чего погрузился в непроходимую мрачность, длинно по коровьи вздыхал и глядел на меня с укоризною.
К счастью, приказание он выполнил наполовину. То – есть выпивать перестал, но спирт не уничтожил. «Хучь расстреляйте – рука не поднялася». И слава Богу. Скоро этот спирт выручил меня.
Про секс и его последствия
Когда мне рассказали: как лейтенант кавалерии, вроде меня, приехал командовать эскадроном, который только что расположился в Н-ком населенном пункте на отдых, и приказал собрать и построить казаков, а старшина завопил: «Товарищ, комэск! Как же я их соберу! Мы уж два часа здесь! Они все на бабах!». Я воспринял это как анекдот.
Но очень скоро сам стал свидетелем еще более лихой сцены. В станице Клеткой, битком набитой кавалерией, ночью раздаются выстрелы. Хватаем оружие, в полной темноте несемся на выстрелы.
Вылетаем к колодцу. Представляете, как выглядит в октябре, в распутицу площадь у колодца¸ где поили коней два кавалерийских полка!… Зажигаем фонарики и видим у сруба с журавлем, как говорил В.В. Маяковский, «двуполое четвероногие» в стадии полнейшего экстаза. Старшина кавалерии сверху. Причем, в момент множественного оргазма, дама вопит: «Да здравствует кавалерия!», а старшина салютует из маузера. Вот, можно сказать, «Сцена у фонтана»
В этой станице, с помощью местной учительницы, что была меня старше лет на пятнадцать – двадцать, и я утратил девственность, причем, когда после двух суток страсти я, садясь на коня, и выступая на фронт, в лучших романтических традициях клялся ей в любви и преданности, она улыбнулась и сказала:
– Да. Думаю, ты меня долго вспоминать будешь…
Вспоминать я ее начал, в соответствии с анамнезом гонореи, через три дня!
В полном ужасе, я, разумеется, обратился к Полторошапкину. Он исследовал предмет и со вздохом добавил.
– …Ишо и мандовохи!. Ну, эта дела ерундовая – моментом дегтем выведем, а вот с триппером – хужее. Но способ есть. Даже два. Перьвый ты не стерпишь! Да и галоши каучуковой у меня нету.
– Зачем галоша?
– Важнейшая снасть. Но чистейший каучук нужон! Где взять?! Война! Во всем недостаток!
Способ, надо полагать – чисто фольклорный, даже в рассказе поражал. Предлагалось зажать больной орган, в какие либо тиски, например, дверью, и лупить по нему каучуковой галошей, чтобы «выколотить микроба».
Доведя своим рассказом меня до предсуицидного состояния, Полторашапкин утешил:
– Есть и медицинский способ. Яво ня знаю.
Выматывающая душу психологическая многозначительная пауза.
– Кум знаить. Кум в соседнем полку ветфельдшер…. Он это дело пользуеть.
Еще одна пауза.
– Но тока за спирт! А я, как докладал, приказанию сполнил в точности… Спирта – нету.
– Что теперь делать! – и мне уже мерещился госпиталь и разжалование, и штрафбат…
– Попробуем, что либо сделать для вас … Бум искать!
И кум Полторашапкина за три литра спирта, легко меня от последствий секса избавил, правда, радикальными, старинными, ему ведомыми, вероятно, ветеринарными средствами.
С тех пор Полторашапкин продолжил свое лечение «румочкой», правда, в меньших дозах, а в наших отношениях мы достигли консенсуса. То есть, он никогда не выпивал у меня на глазах и даже от предлагаемой выпивки, при мне, всегда отказывался, а я делал вид, что забыл про утаенную бочку спирта.
Возможно, тот случай стал стимулом для моей нынешней медицинской специализации. Это был перст судьбы.
Про награды
Доктор, как всякий настоящий фронтовик, трескучего официоза про войну не выносил. Однажды я попал с ним на торжественный вечер, где некий бодрый товарищ, гремя завесью юбилейных медалей бодро рассказывал, как наша армия пошла туда-то, захватила –то –то, нанесла удар там-то… Венеролог смотрел на него и становилось зримым старинное присловье «как солдат на вошь». Долго сдерживался, но все- таки сорвался. Когда докладчик предложил задавать вопросы – поднял руку.
– Извините, пожалуйста, – спросил он максимально елейный голосом – Вы, я так понял, в Генеральном штабе служили?
– Нет, товарищ, – сказал докладчик, быстренько расшифровав орденскую колодку доктора, – я служил в пехоте.
– В звании, генерал-лейтенанта?
– Ну что вы, товарищ, хо-хо…Скажите тоже… Я – сержант.
– Так хрен ли ты, сержант, знать мог, куда наша армия пошла!… – заходясь, пророкотал доктор, – Что ты кроме спины впереди идущего видел! Я в конной разведке служил, шестьдесят километров по фронту освещал и то ни черта понять не мог… Начитаются генеральских сказок.. Мать – перемать!….– едва я доктора из зала вывел.
Употребив стакан водки, и несколько отдышавшись, доктор грустно сказал:
– Господи! И врут то все как-то однообразно! Ты его медали видел? Самоварное золото. Хоть бы одна беленькая «за кровь». «Отвага» там или хоть «За боевые заслуги», а то все «массовое награждение»…Латунь! И юбилейные брошки… Он, небось, к фронту ближе ста километров и не подходил. И, вообще, ну что солдат может видеть и понимать?…
Вот мы форсировали Донец. У меня восемь узбеков замерзло. Через сутки форсировали обратно. Еще пятнадцать… В обоз забьются и замерзают на телегах. В седле то не замерзают! Так валятся с седел на телеги. Их и нагайкой гонишь, и по всякому… Никак! Сам то еле ногами двигал. Вот тебе и операция, и героические жертвы… А после войны прочитал, что мы, оказывается, закрывали кольцо окружения армии Паульса, герои Сталинградской битвы, так сказать…. Медальки получили «За оборону Сталинграда». Вот и сравни мою медаль и морпеха, что в городе дрался…Медали одинаковые, а весят по-разному. Конечно, я в этом не виноват, но берхать-то зачем?… Совесть нужно иметь.
Мало что брошек налепили, взяли и честную награду обгадили… Орден Отечественной войны. Второй степени. Взяли и дали всем! Да что ж это такое! Я за эту вторую степень целую ночь отстреливался…. А тут, всем! За то, что уцелели? Так что ли?
Пошли в прорыв. Рейд по тылам. Села брать. Самое для кавалерии дело. Снег по брюхо, метель. Мы то брать, а он не отдает. Потыкаешься в оборону, артиллерии нет, как возьмешь? И обратно в степь. Кто село взял – тот в тепле ночует. Стимул. Утром выходишь из хаты, кони, как собаки, на задних ногах стоят, соломенную крышу доедают. Сами как скелеты, и мы не лучше…
А тут наскочили на румынскую кавалерию. Они по параллельной дороге в село рвутся. Кавалерия – равный противник – счастье! Но они с обозом, с пушками. Не в счет! В атаку! А снег глубокий. Мне в коня – снаряд малого калибра! Я как Мюнгхаузен на ядре. Но результат много хуже: ногу зацепило и в живот. «Комеска убило! Комеска!» И ушли за румынами. Я валяюсь. Голову поднял – птичка фьють! Прямо около уха. Румын – метрах в полста, тоже, видать, раненый. Он – в меня, я – в него… Потом он стрелять перестал. То ли я попал, то ли он кровью истек. И уж под утро только меня Полторошапкин нашел, санитарам отдал. И еще трое суток в обозе на телеге подыхал, пока к своим не вышли, да в госпиталь не отвезли. Отвоевался! Вот за это – вторая степень! А теперь она у всех! Тьфу!
А румын – молодец. Солдат. До последнего дрался. Молодец. Ничего не скажешь…
Атака в конном строю
Доктор с тоскою в серых глазах развенчивал мифы.
– Какая там атака в конном строю! «С клинками на танки!» Не ходили с клинками! Не так все было! Да врут все в кино! Идиоты, что ли? Да и поляки, наверняка, строем на танки не ходили! На конях на танки шли! Это правда. Но с гранатами! Тактический прием! Дорога в один конец. Это – безусловно.
Пехота отступает – зацепиться не может. Танки по пятам. Гонят как баранов. Давят и все… Не дают окопаться. А степь. Да еще как биллиардный стол ровный кусок. Рощицы торчат кое-где. Командир полка вызывает:
– Возьмите коней похуже, а людей получше… Добровольцев. Если будут…
Получилось семнадцать человек. В рощицах стали. Как танки мимо ползут, как боком станет – полным наметом и связку гранат под гусеницы. С гранатами! А не с клинками. Два танка сожгли. А было девять. Семь назад попятились. Испугались. Не стали рисковать.
И часов десять не наступали. Ждали пехоту. А потом пехота впереди танков пошла. Автоматчики. Тут уж танки никак не взять. Но пехота окопалась. Успела. Вот и зацепились. Так что не зря…Хуже нет, когда зря…
А в конную атаку я ходил один раз. На Украине. Сплошного фронта с траншеями и проволокой нет. И вот, в рейде, взяли село ночью. Метель метет. Ни черта в двух шагах не видать. Под утро прилетает немецкий связной на мотоцикле и прямо к штабу. Часовой узбек – ему все начальники. Нарочный влетел в горницу, все офицеры за столом, ему сразу пистолет ко лбу. В сумке депеша срочная. Начальнику гарнизона: «Приготовиться к приему румынского кавалерийского корпуса».
– Ну вот, – говорит комдив, – он их завтра и встретит! На том свете…
Такое только в кино бывает. Их – корпус. Нас – два полка неполного состава. Решили румын брать на льду реки. У румын кони кованы плохо. Такая полуподковка полумесяцем – только на зацеп. На льду как коровы. А мы на шипы перековаться успели, по – зимнему.
Стали затемно по обоим берегам. Дождались пока весь корпус с обозами, кухнями и пушками на лед выползет, и, по ракете – вперед!
Это рассказать нельзя! Они клинков вытащить не успели. А я еще на берегу одного офицерика заприметил – бурка на нем белая, красивая… Я то все на нее целился. И доскакал! Шашкой – рраз по коню! Два – по коню! Три – по бурке! Как в замедленном кино! Четыре – по каске. А он медленно так поворачивается и в глаза мне глядит…Ужас!
Когда при мне врать начинают про конные атаки, я контрольный вопрос имею: что бывает когда человека шашкой рубят? То-то и оно…! В человеке кровь под давлением – она из под клинка кисточкой вверх выскакивает! Фонтанчиком таким… И в лужу…
Меня затолкали, крупами оттеснили…. А все как во сне… Зажмурился. Открыл глаза. Узбека рядом рвет. Лед, от берега до берега, цвета клюквенного киселя и дымиться …В тумане всадники проплывают. Не дай-то Бог! «Упоение в бою…» Как припадок…Это, брат, не пушки наводить…Оно же еще и парит…воняет…жуткий такой тяжелый дух, жирный…
Нашему комдиву за этот бой Героя дали.
Но так из кавалеристов- то в конном строю мало кто в атаки ходил. Не верь.
А перемололи! Был стотысячный корпус кавалерии, за войну двадцать раз провернулся… Два миллиончика душ. Вот так, брат. А коней еще больше чем людей жалко. Не дай-то Бог!
Военные потери
– Очень хочется напиться, – сказал доктор, – чувствую приближение запоя. Со мной бывает. Редко, но бывает. Говорят, евреи не пьют. Это так же верно как – то, что мой дедушка распял Иисуса Христа. Лично. …Тем более, я же предупреждал: еврей – кавалерист – уже не еврей!
А причина есть. Вчера пришел ко мне посетитель.
– Здравствуйте, товарищ комэск. Вы меня не помните? А я вас помню…
Инвалид. Нет стопы. Говорит, что прибыл с пополнением. Я их принимал. На станции выгружались ночью. Утверждает: конь заходил, толкнул его под идущий поезд – отрезало ногу. Вот сорок лет ищет, кто бы мог подтвердить, что он потерял ногу на фронте. Иначе не дают военную пенсию. Просит подтвердить, что я очевидец происшествия. Принес какие-то бумаги… Они, без подтверждения, веса не имеет.
– А вы его помните?
– Как я могу его помнить, если я его даже не видел?! Ночь была. Смутно помню, кричали, что кто-то под поезд попал. Помню: докладную писал, что при разгрузке пополнения потери – один человек.
Думаю, он не врет. Он же меня разыскал. Фамилии называет – с кем в поезде ехал. Некоторых я помню, действительно, пришли после боев под Сталинградом с пополнением. Так что он на станции, скорее всего, был.
Другое дело, как он под вагон попал. Может правда: – в суматохе затолкали. А может, сам ногу под колесо сунул.
Вот тебе коллизия. На фронте он не был ни одной минуты. Но если бы его на фронт не везли, он бы и калекой не стал! Пользы от него – ноль. Хлопот – море. Его же в тыл отправлять, ему койко-место в поезде нужно, в госпитале, врачи, медперсонал, транспорт и прочее. Не скрывает – полгода особисты трясли: – как под вагон ногу сунул. Еще повезло – могли такое припаять! Вплоть до «вышки»! В штрафбат же он не годен. А может, пожалели – ноги то у парня, все равно, нет. Вот тебе и фокус – ветеран войны, жертва войны, военная потеря…
Нас было три друга. Вместе Тамбовское кавалерийское закончили. Вместе на фронт. Вместе на пополнение в Самарканд. Там долго кувыркались. Привезут узбеков, они по русски «папы мамы» не говорят, даже паровоз никогда в жизни не видели. Начинаешь его учить верхом ездить по-строевому. Семь потов прольешь – вроде выучил, а он возьмет да уйдет. Родственники из деревни приехали, он с ними ушел. Мы старались сразу – то шум не поднимать. Погуляет – придет. Они, в большинстве своем ребята наивные, и ощущения войны у них еще нет. Но неделю – нет –приходится докладывать. Если бы он, действительно, дезертир был … Так он бы в часть не возвращался! А тут через неделю другую является. Его под арест и приезжает гнида из особого отдела. Уроды, тыловые! Как правило, морда нерусская, нестроевая! В очечках! Из под козырька стеклышками посверкивает. Макаренко такой – мать его…. Воспитатель. Ну, известное дело – расстрел перед строем. И всегда сам в исполнение приводит! Садисты чертовы!
Этот, придурок, ну дезертир – стоит ничего не понимает, улыбается. Его ба-бах! Да еще и мимо – ранит только. Подойдет и добьет! Скотина.
Ну и что? Семью кормильца лишил! И пенсии им не будет. Армию солдата лишил! Зачем я его воевать учил. Все был лишний ствол да клинок в строю был. Нет, вот надо – приговор! Надо в исполнение привести… Идиоты.
Так вот я про друзей. Миша из Москвы в Самарканд жену вывез. Только перед войной женился. Единственный среди нас женатый. Жена на шестом месяце. Нас на фронт. Он заехал на квартиру – проститься. И мы тоже с ним. Посидели, выпили. Жена старается держаться – чтобы ребенку не повредить, не плачет.
Вышли на улицу, Улица может единственная в городе булыжником мощеная, так то все грунтовые. Стали садиться. А нам сапоги выдали второй очереди. У все подошва подбита новая. Это для кавалерии – смерть! Сапоги чинишь – с каблуком подошву отрывай! Чтобы цельная была! Чтобы между каблуком и подошвой не за что зацепить…
У Миши конь рванул – нога в стремени. Зацепился подошвой этой гребаной! Так затылком по булыжнику и поехал! И не воевали, а похоронили. Дитенок еще не родился, а батьки – нет! Мы жене, как могли, помогали. Хороший мальчонка вырос. Она так после войны замуж и не вышла больше.
Вот те и боев нет и потери. А Саша еще хуже. Изрубили румынский корпус. Сами уцелели! Едем впереди. Победители! Сзади бричка с трофейным оружием. И повар на бричке на горе пулеметов. И черт его надоумил пулемет немецкий ручной вертеть. Хотел, видите ли, посмотреть, как он разбирается! А он заряжен! И как дал очередью. В меня мимо, а Сашу наискось спины! Как я тогда этого повара не зарубил, не знаю! Саша стихи хорошие писал, собирался после войны в Литературный институт подавать… Может это Пушкин был новый или Есенин… Да хоть бы и не поэт!
Вот тебе и военные потери! Охххх…
Этому то я, конечно, справку подписал. Да, не помню, я его, конечно,.. Но ноги то нет! Воевать то его везли! Что ж он виноват, что так получилось! А если сам придумал – Бог ему судья. А я не вправе! Пусть хоть пенсию получит человеческую. И вообще… Как не крути он же жертва войны… Хотя все мы жертвы. И кто погиб, и кто уцелел, и кто в тылу… Все.
Кавалерия – род войск особый
– Вы же не будете спорить, что конный спорт – штука особая, – сказал доктор. – Вот именно. Потому что это единственный вид спорта, где успех зависит не только от человека. Единственный вид спорта, где главное не спортивный снаряд и мастерство спортсмена, а живое существо. Трепетное притом и ранимое! Изуродовать лошадь – как нечего делать!
Так вот я с большим удовольствием докладываю вам, что примерно так, как конный спорт отличается от всех других видов спорта, аналогично кавалерия отличается от других родов войск!
И вчера я обнаруживаю еще одно доказательство!
Тут попался мне в руки том документов «Нюренбергского процесса». Жена «Как ты можешь такое читать!» Женщине сложно понять, что чтение не всегда занятие для удовольствия. Что, например, приятного в книге «Полевая хирургия» или там «Вирусные инфекции», а читаешь, и много прилежнее, чем, скажем, «Анну Каренину».
Так вот докладываю: в немецкой армии во всех родах войск были эсесовские части. Ну там, танковая эсесовская дивизия «Мертвая голова», «Викинг». Если не ошибаюсь, горно-стрелковая «Эдельвейс» и т. д. Эти названия довольно известны. В армии эсесовцы выполняли роль гвардии, но если б только это – никто бы слова не сказал! Но они ухитрились так, с позволения сказать, отличиться, что все эсесовцы, решением Нюренбергского процесса – военные преступники. Но! Но за исключением эсесовских кавалерийских дивизий! А таких было две.
О чем это говорит?! О том, что в кавалерии сохранялся военный благородный дух, который не позволял кавалеристам безобразничать и совершать преступления. Наоборот, как отмечается в материалах следствия, эсесовцы-кавалеристы помогали мирному населению и даже защищали его от других воинских частей в случае проявляемого теми произвола.
Факт сам по себе поразительный. И я его истолковываю двояко. Во – первых, кавалерия всегда была элитным родом войск. В ней служили самые привилегированные аристократы. Вот эти обломки империи и оставляли кавалерийский офицерский корпус, а они, что такое честь мундира, знали не понаслышке. И гражданина Шикльгрубера, он же Гитлер, презирали и ненавидели.
Конечно, хотелось бы отметить облагораживающее влияние коня! Это во – вторых. Я для себя объясняю это так: коня не пожалеешь – не сносишь головы. И в уходе за лошадью, да что там за лошадью, за любой скотинкой, до хомячка включительно, вырабатывается милосердие, оно же гуманизм.
Или я не прав? Возможно, и не прав. Возможно. Но только во втором случае. Что же касается традиций и высокого нравственного настроя, называемого честью – это я еще застал. Разумеется, в кавалерии это было! И во всей армии было! Было! Не без налета романтизма, конечно! Так кавалерийская служба вообще требует романтизма. Точнее сказать, жеста, слова! Одно дело по радио по бумажке речь вычитывать, и другое пред строем, когда под тобою конь пляшет: «Товарищи бойцы! Кровавый фашист терзает нашу многострадальную Родину… Беспощадно!… До последнего вздоха! Умрем!». И умирали… И не только от пули и снаряда. От дистрофии, например, от воспаления легких… Но слово говорилось и поступок совершался!
Должен вам заметить, что я не большой любитель художественной литературы. Как то , знаете, и профессия не та, и вообще… Иногда читаешь и так стыдно делается. Вот почитал «Архипелаг ГУЛАГ» – сложная книга. Впечатляет. Но как дочитал, что в Новочеркасске приказ стрелять по безоружной толпе отдал Иса Плиев, тут меня сомнения и взяли.
Господину Солженицыну Плиев – сталинский сатрап и тому подобное прочее, а мне он – командир. Как это не романтично и театрально звучит, а я с ним на смерть ходил. Я ему верил и верю! И хоть меня на куски режьте, а не переубедите, что мой командир, кавалерист, осетин, а как вы знаете, среди них самое большое в СССР число Героев Советского Союза – тоже кое о чем говорит, мог отдать такой приказ. Я думаю, что господин Солженицын не в курсе дела. Не исключаю, что такого приказа вообще никто не отдавал! Когда многотысячная толпа прет, и перед ней оказывается цепочка солдат с оружием – стрелять будут обязательно! Я вас уверяю!
Вы мне приказ покажите! Письменный! Докажите, что это не фальшивка! А его нет, и быть не может, потому что не было, и не могло быть! Нет такого приказа, и в природе не было. Плиев бы застрелился! Вот это вполне в кавалерийских традициях. Вышел под знамя и в висок! Перед строем!
А вот что было! Город Могилев освобождала кавалерия в конном строю! Подумать – умом повредиться! Это историческая загадка. Этого не могло быть! Но было! И освободили! Так вот по случаю юбилея ветеранов этой дивизии, а их на т от год оставалось еще в живых человек пятьсот, приглашают на торжества. Начали мы ради праздничка, костыли полировать и зубы вставлять. Все же переписываемся, все знаем… Хотелось встретиться, повидаться, может перед смертью в последний раз. Старые же уже все.
А незадолго перед Днем Победы от партийных властей города Плиеву депеша:
«Можем принять только сто двадцать человек. Отберите самых лучших. Героев.»
и в ответ телеграмма от Исы
«У нас других не было!»
Вот что такое Иса! Вот что такое кавалерия!
И никто не поехал! В Москве встречались в ресторане Подкова, на ВДНХ.
А тут хоть и писатель известный, а чуму какую-то написал! Обгадить человека легко! Но это факт иллюзорный! К золоту грязь не пристает!
Вот мне человек пишет: «Здравия желаю, дорогой товарищ комэск! Докладаю, что жизнь моя течет без перемен. Все бы ничего, но приближается старость! На будущий год – 85 лет! И многое в жизни уже не прельщает. А как бы хорошо умереть в рейде! Среди наших боевых друзей – товарищев. И военные наши годы вспоминаю всегда со слезами. Как было хорошо душе… Преданный вам всем сердцем до гробовой доски, старшина вверенного вам эскадрона……»
Как думает, так и говорит, а как говорит, так и пишет… Конечно, по нонешнему – глупость! Оно все глупость, с точки зрения «бизнеса», разумности этой идиотской. Вот приходит узбек, приводит еще таких де пятерых. Переводчик докладывает: «Отец и четверо сыновей. По всей дивизии отыскал – просятся вместе служить.» Я говорю: «– Ребята! Вас же в бою или под бомбежкой всех положат одним снарядом! Ты то, батя, мать мальчишек пожалей – пусть хоть один на развод останется, домой вернется, семя и потомство даст. Вас же специально в разные подразделения растолкали, чтобы хоть кто нибудь уцелел. Чтобы шанс вам дать!» Упрутся как бараны. В пол глядят. Только одно и долдонят: « Атэц хачу, бират хочу! Месте хочу. Месте харашо. Адын пилох».
По европейской, по американской, нынешней логике, по прагматизму этому, мать его…, – полные идиоты, по мне так – наоборот! И логика тут другая! Правильная, между прочим! И воевали! И хорошо воевали. Погибали – так вместе, а и не погибали – тоже вместе! Все так и есть – «Адын пилох!»
Вот как, брат! А вы говорите «театральность»! «Романтизм»! «Фальшь»! А вот уберите все это, как идеологический и вредный мусор – и жить не для чего! Мы так жили, так верили. Искренне! Все остальное, нынешнее – вот это фальшь. Тогда то, как раз, была правда!