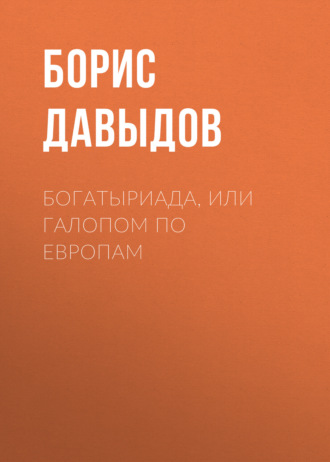
Борис Давыдов
Богатыриада, или Галопом по европам
– От страху… Жена рожает! – выпалил Илья и тут же, испуганно охнув, зажал могучими ручищами рот.
– Уже не рожает! – покачала головой Малинка.
У Ильи подкосились ноги, все поплыло перед глазами…
– Померла?! Ой, горе мне, окаянному, горе! Ладушка!!! – завыл было он, вцепившись в волосы, но Малинка тут же привела его в чувство, топнув и нахмурившись:
– Типун тебе на язык! Это же надо, такой здоровенный, а глупый! Родила она, я это чувствую. Только вот кого именно, мальца или девку – не пойму, что-то неразборчивое.
– Неведому зверушку бы ей родить! Али ежа против шерсти! – едва слышным шепотом прошипел под нос Щемила.
– Злое пожелание обратно возвращается! – строго произнесла Малинка, повернувшись к кабатчику. Тот, охнув от испуга и изумления – как расслышала шепот, да за столько шагов?! – тоже поспешил закрыть рот.
Илья чуть не разрыдался – от неописуемого счастья и облегчения.
– Родила?! Ой, спасибо тебе за добрую весть! Да я тотчас к ней побегу…
– Сперва ко мне нужно, Илья Иванович! – послышался льстивый голос Будилы. – Такое счастье, да чтобы не отпраздновать?! Скидку сделаю! А за ту шестую кружку, что ты разлил из-за этого ирода, ничего с тебя не возьму. Уж пяточки-то обмыть младенчику – святое дело! Чтобы ходил быстро да легко! Верно, добрые люди?
– Верно!!! – отозвались сельчане согласным хором.
– А ну, живо домой! – заревел подоспевший отец Муромца, размахивая новыми ременными вожжами, сложенными вчетверо. – Уж я тебя, орясину, поучу уму-разуму! Будь ты какой угодно богатырь и женатый мужик! Ты что же творишь, отца с матерью позоришь?! Жена чуть не померла, твое дитя рожая, а ты напился как свинья и кормчу развалил! Ну, я тебя!..
– Гнев – плохой советчик… – начала было Малинка, но Иван Ильич отмахнулся от нее, как от назойливой мухи, и буквально погнал сына к дому, попутно охаживая его вожжами по спине и ниже.
– Вот тебе пьянствовать! Вот тебе похабно браниться!
– Откуда ведаешь?! – взвыл Муромец, дергаясь под жгучими ударами.
– Уже донесли, не сумлевайся! А вот тебе за кормчу! Ты хоть соображаешь, какую виру платить придется?! Щемила-то своего не упустит!
– Да поправлю я его корчму, лучше прежней будет… Ой! Больно же! Чем рукоприкладствовать, лучше скажи, кто родился-то?! Сын али дочка?
– И сын, и дочка! Двойня у тебя! А ты, орясина… – Иван Ильич замахнулся снова, но тут подоспевшая Малинка выдернула у него вожжи из руки с неженской силой и ловкостью.
– Довольно! Не то беда в твой дом придет! Гнев-то, это смертный грех! – выпалила она с такой решительностью и суровостью, что папаша Муромца, хоть и свирепо набычился, но возразить не посмел.
– Ох, Соловушка… Какой же ты прекрасный! Какой сильный и красивый! Зачем, зачем только отдал меня братцу своему постылому!
– Так ведь ты шама жахотела… – недоуменно пожал плечами Мудрый Отец, по-прежнему пребывавший в мертвецки пьяном виде.
– Ах, эти мужики! – грудной голос Лебеди мог, казалось, оживить даже каменного истукана. – Никак не поймут, что у баб каждое слово по-другому истолковать можно! Хотела лишь для виду, чтобы быть к тебе поближе, Соловушка мой ясный, герой прославленный…
– В шамом деле?! – царь тугар изо всех сил пытался сосредоточиться, чтобы понять: что происходит, где он и как тут оказалась бывшая любовница. Но понимал лишь одно: ему очень хорошо! Какие-то остатки разума, не затронутые хмельным, подсказывали, что как только об этом узнает Белая Олениха, ему будет очень плохо… Кстати, а где жена? Ой, она, кажется, рожает… Или не рожает? Не надо было пить столько бузы…
– Ну, обними же меня крепче! – жарко прошептала ему Лебедь в ухо, притиснувшись всем телом. Мудрый Отец ощутил упругий жар ее грудей и живота… а потом все пошло, как и должно было быть. В конце концов, Шалава был мужчиной!
«Отниму ее у Калина, заберу в свой гарем!» – твердо решил он.
«А как же Белая Олениха?!» – возопили остатки разума.
«А я царь или где?! – рыкнул разум, побежденный бузой. – Ни одна баба не смеет мне указывать!»
– С сыном тебя, добрый молодец! – расплылась в улыбке усталая, но довольная повитуха. – И помни, что озолотить обеща… Ой! Ну и разит! И где ж ты так нализался?! Хотя у вас, мужей, с этим просто, кабаков-то да харчевен – куда ни плюнь, попадешь. А кто это с тобой? – в голосе повивальной бабки зазвучало жадное, неистребимое женское любопытство. – Батюшки, а одежа-то рваная, все тело наружу, вот срам-то…
– Умолкни! Это моя… – Попович отчаянно искал наиболее подходящее слово, не нашел и махнул рукой: – Словом, будет здесь жить. И это… Озолочу, не забуду. Ты только напомни, л-ладно? Где моя К-Крапивушка с с-сыночком?
И со счастливой пьяной улыбкой богатырь двинулся к роженице. Держа за руку половчанку Емшан. Другой рукой девка стискивала рваные лоскуты, пытаясь прикрыть грудь.
– Стыдобища-то какая… – шепотом простонала повитуха, схватившись за голову. – При живой жене! – Потом, запоздало спохватившись, крикнула: – Ой, не ходи сейчас, худо будет!
Но Попович уже ввалился к своей половине.
– К-Крапивушка… Золотце ты мое, н-ненаглядная… – богатырь всхлипнул от умиления.
– К-Колючка?! – ахнула девка, приложив руку к губам. Лоскуты упали, выставив ее нежные «холмики» на обозрение.
– Емшан?! Ну, Алеша-а-а… – голос измученной молодой матери мог не только оживить каменного истукана, но и вогнать его в краску, заставив отбивать земные поклоны и каяться. – Значит, вот она какова, твоя любовь… Верил, что умру, нашел-таки подругу… Лучшую!!! – собрав все силы, Крапива буквально выплюнула это слово. – Искал, пока я в муках корчилась, дитя твое рожая… Когда только успел! А-а-ааа!!! – и она зарыдала в полный голос, горько и безутешно.
Потревоженный младенец присоединился к матери, наморщив крохотное покрасневшее личико.
Глава 3
99 из 100 мужиков терпеть не могут упреков и бабьего плача. Особенно когда сами чувствуют себя виноватыми, да еще и головы трещат после доброй выпивки… Стыдить мужа в такой момент – все равно, что плескать масла на уже затухающие, но еще способные разгореться угли. Ты сперва подожди, пока они окончательно угаснут и остынут, а уж потом выкладывай все, что на исстрадавшейся женской душе накипело! Самой же лучше будет!
Ага, сейчас! 99 из 100 женщин на это просто-напросто не способны. Тем более, пребывая в состоянии, которое много веков спустя высоколобые умники окрестили «послеродовой депрессией».
Крапива, Любава и Ладушка, хоть и находились далеко-далеко друг от друга, повели себя совершенно одинаково. Различались лишь имена непутевых муженьков и порядок обвинений. В одном месте, сначала звучали упреки, что напился до поросячьего визга, а потом пошел по бабам, в другом – что сначала искал бабу, а потом еще и нахлестался до скотского состояния! Робкие попытки мужей оправдаться великой радостью и столь же великим страхом за своих любимых, вследствие чего они и выпили лишку, и потом уже себя не контролировали, были отвергнуты с категоричным презрением, негодованием и обидой. После чего в негодование пришли уже молодые папаши: они тряслись от страха, сходили с ума от беспокойства за женушек, и вот награда!
– Ладушка, да что на тебя нашло?! – с трудом ворочая заплетающимся языком, возопил Илья. – Позабыла, как клялась быть женой смиренной да покорной?! А далее что будет?!
– А-а-а-аааа!!! – завыла молодая мать в полный голос. Двойня вторила пронзительно-жалобным плачем.
– Ох, люди, люди… – сокрушенно вздохнула Малинка. Вообще-то в дом к роженице ее не звали, но ученица знахарки направилась туда так уверенно, что никто не посмел возразить.
– К-Крапивушка, да ты в с-своем ли уме?! – не выдержав, заорал Попович, стискивая раскалывающуюся голову могучими ладонями. – Н-ну откуда я з-знал, что это т-твоя п-подруга?!
– А-а-а-аааа!!! – заходилась в горестно-обиженном плаче вторая молодая мать. Младенец вторил ей не по возрасту сильным баском.
– Ох, Колючка, ты все такая же! – с жалостью и осуждением вздохнула Емшан. – Ничего тебя не изменит! Другая баба не уставала бы судьбу благодарить за такого мужа, смелого и благородного…
– Любавушка, ну пьян бы, шовшем не помнил, што делал… Ну, прошти… Ну я шарь, в конше коншов, или не шарь?! – твердил Мудрый Отец, растерянно пожимая плечами. – Могу рашшлабитьша в кои-то веки?!
– А-а-а-аааа!!! – выла Белая Олениха, вкладывая в эти звуки всю горькую участь порабощенных женщин. Новорожденная жалобно хныкала под боком у матери.
– Не повезло тебе с ней, Соловушка! – томно-сочувственно вздохнула Лебедь. – Одни капризы и неблагодарность! И хоть бы сына родила, никчемная, так нет же – девку!
И началось…
И пошло…
И поехало…
«И была сеча зла и люта…», то есть, «свара со слезами и обидами великими»…
Кричала друг на друга родня с обеих сторон в Карачарове. Ругались лучшие подруги на изящной смеси славянского с половецким. С уважительной опаской качали головами тугары, прислушиваясь к воплям и рыданиям, доносившимся из царского шатра… Бывший царь Калин, наделенный официальным издевательским титулом «бедный родственник», то бушевал, грозя изменнице жестокими побоями за наставленные рога и позор, то злорадно ухмылялся, потирая руки от радости, переполнявшей сердце… И не только потому, что худо приходилось ненавистному Шалаве.
Только младенцы ревели и пищали одинаково, еще ничего не понимая.
– И как это понимать?! – выпучил глаза Добрыня Никитич при виде заплаканной бабы с пищащим свертком на руках.
– А вот так и понимай, Добрынюшка, сокол мой ясный! – всхлипнула жена мытаря Ивашки Барсука. – Твое это дитя! С мужем моим постылым сколь прожила, так хоть бы раз понесла! А после тебя – тотчас же! Баба в таких делах не ошибается… Как забрюхатела, чудом сумела убедить Ивашку, что его ребеночек-то. Божилась, крестилась. Но лишь родила, он будто с цепи сорвался. Орал, что сынок на него нисколько не похож, вылитая богатырская харя, токмо еще без бороды! Прости, не мои слова, лишь повторяю… Едва дождался, пока я ходить смогла, и из дому выгнал.
– Так что же теперь делать-то?! – тупо спросил Добрыня, еще плохо соображая.
– А чего тут думать? Умел грешить – умей и ответ держать! – с неожиданной злостью произнесла баба. – Сам ребенка признаешь, по доброй воле, аль мне к князю с жалобой идти, в ноги ему валиться? Дескать, дружинник твой напился и снасильничал, а теперь вину свою прикрывать не хочет?
У богатыря внезапно ослабли ноги. В глазах начало темнеть, а губы растянулись в глуповато-испуганной улыбке.
– Да ты… Да совесть-то у тебя есть?! Какое насилие?! Сама же обнимала крепко и шептала: «Еще, еще, ясный сокол!»
– А свидетели есть?! – вкрадчиво шепнула баба.
«Мать честная, вот тебе и съездил в Киев, повидать Алешку-побратима… – с тоской подумал Добрыня. – Да что же за невезучие такие! У Алешки в дому сыр-бор, у меня – этакий подарочек… Может, хоть у Муромца все складно!»
– Ах, так! – заревел Илья, истощив всякое терпение. – Я во всем плох и кругом виноватый?! Ну, так живите, как хотите, оставайтесь подобру-поздорову, а я на заставу к побратиму своему поеду! К Добрыне! Уж он-то попрекать не будет! Послужу Руси-матушке и князю Владимиру, без бабьих слез и укоров! Прощайте, люди добрые!
И, громко топая, направился к выходу. Попутно зачем-то сцапав не успевшего увернуться Котю. Бедный рыжак, и без того ошалевший от накала страстей, утратил бдительность и опомнился слишком поздно, когда уже был крепко зажат в могучей ручище.
– Илюшенька!!! – истошно завыла Ладушка, мгновенно перестав плакать и жаловаться. – Куда ты?! Котеньку, Котеньку-то зачем взял?!
– Зажарю и съем!!! – рыкнул Муромец первое, что пришло в голову.
Молодая мать, ахнув, лишилась чувств. Две немолодые матери схватились за головы, выпучив глаза. Иван Ильич попробовал было загородить дорогу взбешенному сыну, но был отодвинут в сторону, как пушинка. И хотя Илья, даже в пылу гнева, действовал очень осторожно, до папаши как-то сразу дошло: сейчас лучше не встревать и не искушать судьбу.
– М-м-яу-у-ууу! – истошно воззвал Котя. Что означало:
«Протестую! Коты – животные полезные! Они мышей ловят!»
– Погоди, я с тобой! – крикнула вдруг Малинка и выскочила из дома вслед за кипевшим от злости Муромцем.
– Уж лучше бы я в магометанство перешел! – завыл Попович, чувствуя, что еще немного, и он взбесится. – У них-то бабы смирные, покорные! Мужу поперек слова не скажут! Всех-то дел: обрезаться, молиться пять раз в день, да не пить хмельного…
– А-а-ааа!!! – завыла Крапива особенно жалобным голосом.
– Не пить – доброе дело, да и помолиться лишний раз никогда не вредно, – с одобрением кивнула повитуха. – А вот что ты поначалу-то молвил? Я такого диковинного слова не слыхивала… Порезаться – понятно, а обрезаться?
Сплюнув с досады, богатырь вкратце пояснил любопытной бабе смысл оного обрезания. После чего та схватилась за голову, а ее глаза вылезли из орбит:
– Свят-свят-свят… Это как же?! Неужто под самый корень?!
– А-а-ааа!!! – теперь уже завыл Попович, отодвинул бестолковую бабу в сторону и побежал к выходу.
– Алешенька, ты куда?! – ахнула молодая мать, мгновенно придя в себя.
– На заставу, к побратиму моему! Уж лучше с ворогами рубиться, чем бабьи капризы выносить!
– Погоди, я с тобой! – закричала Емшан-Полынь, бросаясь следом.
– Добрыня Никитич долго и внимательно всматривался в крохотное личико ребенка, багровое от натуги и искаженное от плача, пытаясь уловить в нем собственные черты. Безрезультатно. А вот на противную рожу мытаря Барсука младенчик очень даже походил… На всякий случай, мысленно попытался приделать к личику бороду. Содрогнулся от ужаса. Сосчитал про себя до пяти, чтобы успокоиться, и хлопнул в ладони, призывая старушку ключницу, которая вела хозяйство в его доме.
Бабка появилась мгновенно, несмотря на почтенные годы и больную поясницу. «Ясно, опять подслушивала!» – со вздохом решил богатырь.
– Слушай внимательно! – начал раздавать он указания. – Эта баба покуда здесь поживет, со своим дитем, а там видно будет. Принимай ее под свою опеку. В обиду никому не давать, со двора не выпускать! На всякий случай. Мне сплетни да пересуды ни к чему. Чтобы ни в еде, ни в питье, ни в том, что нужно младенчику, недостатка не было! Но и не балуй, на голову садиться не разрешай. Покуда меня не будет, ты здесь главная. Ясно?
– Ясно, господине! – поклонилась ключница, пряча торжествующе-ехидную улыбку. Еще бы, позволит она хозяйской полюбовнице распоряжаться, держи карман шире! – А ты что же, уезжаешь? – охнула огорченно. – Только явился, и не отдохнул толком, и домашней стряпни не откушал… Вот беда-то!
– Что поделаешь… Значит, поняла? О том, что она здесь живет – никому не звука! И прочим слугам скажи, чтобы языки не чесали, под страхом гнева моего.
– Скажу, скажу, господине!
– А ежели ее муж прознает, что она здесь, и явится, требуя выдачи – на двор не пускайте, гоните в шею. Мол, вернется витязь Добрыня Никитич с заставы, тогда ему и жалуйся, а наше дело маленькое.
– Сделаем, господине! Не изволь беспокоиться!
– Добрынюшка, твое это дитя, вот крест святой… – забормотала баба, но под двойным ледяным взглядом богатыря и ключницы поперхнулась на полуслове.
– Жнашит, так! – принялся раздавать указания разгневанный и все еще очень пьяный Шалава. – Поштавить ждешь, рядом, еще один шаршкий шатер! Только больше и крашивее. В нем буду жить, вмеште ш новой любимой женой! А та баба пушть живет ш кем хошет.
– Ах, Соловушка, счастье-то какое! – засияла Лебедь. – Уж я-то тебе рожу столько сыновей, сколько сам пожелаешь!
– А моего двоюродного братша, этого шына желтоухой шобаки… Прошь отшуда! Паштухом, на шамые дальние жемли! Штобы я его не видел, не шлышал!
– Соловушка, а может, надежнее… – и Лебедь провела ногтем по горлу.
– Молши, женшина! Ш шарем не шпорят!
– Молчу, молчу… Прости глупую бабу, повелитель!
– О, Мудрый Отец, прикажи отрубить мне голову! – чуть не зарыдал главный советник, бросаясь на колени перед царем Великой Степи. – Это я, глупый и недостойный, во всем виноват! Если бы не напоил тебя, ничего бы не случилось! Возьми мою жизнь, только не отдавай приказов, о которых вскоре будешь вспоминать со стыдом и раскаянием! Одумайся, умоляю!
– Што?! Перешить мне?! Вон!!! – взревел Шалава и пнул незадачливого заступника. Хотел в грудь, но спьяну и от гнева промахнулся, попал в лицо. Тугары, столпившиеся вокруг, только ахнули, схватились за головы: худшего оскорбления для мужчины и придумать было нельзя!
«Быть беде!» – не сговариваясь, подумали многие…
Глава 4
Великий князь и Креститель Руси, с трудом одолевая закипавшее в нем раздражение, вчитывался в текст очередной жалобы.
«Как есть пребываю ныне в великом разорении и убытках, безвинно понесенных, и припадаю к сиятельным стопам твоим, светлый княже, моля о защите и справедливости. Злодей и буян, обитающий в селе Карачарове, что неподалеку от Чернигова, именем Илья, а прозвищем – Муромец, напился пьян до свинского визга и учинил великое непотребство, поначалу пытаясь меня до смерти убить, а после, когда я, с помощью Божией, чудом спасся, обратил злобу свою безмерную на мою корчму и развалил ее по бревнышку, переломав заодно столы, да табуреты, да кружки липовые…»
– А к воеводе Черниговскому пошто не обращался? – проворчал Владимир, отбрасывая жалобу в сторону. – Этак скоро великому князю будут жаловаться по всякому пустяку! Подрался ли кто с кем, аль пару яиц из курятника стянул…
Он раздраженно начал вчитываться в новую жалобу:
«Великий и пресветлый княже, отец родной, опора и надежда униженных и оскорбленных! Бью челом, моля покарать злодея Добрыню, по батюшке – Никитича. Будто мало мне от него было бед, так еще и черный позор добавился. Бесстыжая жена моя от него понесла, опорочив честное мое имя, на смех и срам всему народу киевскому…»
– Надо было в постели не лениться, тогда от тебя понесла бы! – рыкнул князь, отбрасывая и эту грамоту. – Совсем ума лишились… Я уже должен в семейные свары встревать! Ну-ка, а здесь что пишут…
«Великий князь, батюшка родимый, сверши свой суд суровый и праведный! Обижен я и разорен, по прихоти подлеца Поповича, коего зовут Алешкой. Предерзостно отнял у меня рабыню мою, которая была куплена по закону и в полной моей власти состояла, а ошейник, бывший на ней, разогнул и смял, а меня после этого еще так ударил, что до сих пор синяк на половину лица, и зубы только чудом не выпали. Мало того, еще и напоил стражников, коих я на помощь себе призвал, и они вместо того, чтобы исправно службу нести да заступиться, надо мною же насмехались, называя такими словами, что повторить не смею…»
– О-о-о! А вот этим я займусь! – глаза князя вспыхнули, загоревшись зловещим и нехорошим огнем. – Ну, Алешка, погоди! Я предупреждал: владыке Руси безнаказанно не дерзят…
«А как же волхв?» – мелькнула опасливая мысль. Владимир до сих пор помнил предостережение: дескать, если сделает что худое Поповичу или жене его, последует жестокая кара. Но, во-первых, прошло уже немало времени. Во-вторых, о самом волхве не было ни слуху, ни духу. Наконец, в-третьих… А кто сказал, что сам князь должен вершить суд и расправу? Не того уровня дело. Жалобою хозяина девки займется княжеский тиун, а Владимир тут – сторона… Главное, дело-то яснее ясного: похищение чужого имущества (да еще не тайное, а открытое, что делает вину Поповича лишь тяжелее) и подстрекательство княжьих людей к небрежению долгом. Лишь бы жалобщик ничего не напутал, или по злобе не наврал…
– Разберемся! – уверенно заявил Креститель Руси. – Будет вам суд. И суровый, и праведный. Комар носу не подточит!
«Ну, держись, Алешка! Что ты тогда сказывал-то? Дочь моя – тебе не пара?! Ах, змий-искуситель, подлый и наглый! Ох, и покажу я тебе…»
Совсем было пришел в хорошее настроение великий князь, но тут доложили, что прибыл гонец с письмом от Любавы Владимировны, царицы тугарской. И непонятно почему, недоброе предчувствие кольнуло… Хоть вроде ничего не предвещало беды.
Посуровев, Владимир строгим голосом велел впустить гонца. Принял свиток пергамента, сломал печать, развернул, вчитался… Побагровел, поморгал, перевел дыхание. Перечитал снова. Убедился, что зрение не обмануло.
Словно молнии сверкнули из княжеских глаз.
– Это что же такое?! – прохрипел, задыхаясь от бешенства, рванув ворот рубахи, будто она впилась в горло. – Д-доченьку мою… Любавушку… Да я… Да он… Да как посмел, харя неумытая?! Убью!!! Всю степь выжгу, докуда глаз хватит! Огнем и мечом пройдусь!!!
Гонец упал на колени, затрясся от страха, закрыв голову руками. Нет хуже доли, чем оказаться «черным вестником»!
На его счастье, все ограничилось лишь яростным криком: «Вон с глаз моих!!!» Уж дважды-то приказывать не пришлось…
Кое-как успокоившись, Креститель Руси созвал слуг и принялся раздавать указания:
Собрать ближних бояр на совет – раз.
Разыскать тех самых волхвов, которые принесли ему весть про обезноженного детинушку из Карачарова. В крайнем случае, старшего из них. И каким угодно образом, то ли уговорить, то ли убедить поскорее явиться ко двору князя – два.
Послать за богатырями-побратимами: Муромцем, Никитичем и Поповичем, и также звать их ко двору. Если упрутся, приказать именем великого князя – три.
«Ну, я вам покажу! Ишь, наделали дел, болваны! Свергнем, мол, Калина, сделаем царем Шалаву, и все будет хорошо! Уж куда лучше-то: дань тугарам платим по-прежнему, да еще и доченьку мою, законную жену Шалавы этого распроклятого, отлучили от супружеского ложа! При живой жене царь с другой бабой блудит! Ну, подлец, поплатишься ты за это! С кем шутки шутить вздумал?! С великим князем киевским?!»
Тут Владимир смутился, закашлялся и даже немного покраснел. Услужливая память напомнила многое… Но он тут же успокоил свою совесть простым и понятным доводом:
«Как сказывали римляне, квод лицет Йови, нон лицет бови. Кто я, и кто он!»
После чего со вздохом подумал: суд и расправу над Поповичем придется отложить. Пусть Алешка искупает вину в степях тугарских, выполняя его, великого князя, поручение… А там видно будет.
– Ты бы вернулся, а? – голос половчанки прозвучал тихо, робко, и в нем слышалась какая-то глубокая, затаенная боль. – Ведь любишь же ее, я вижу. И она тебя любит безумно!
– Вот именно, что безумно! – проворчал Попович, чувствуя стыд и лютую обиду на весь окружающий мир. – Потому и взбрела ей в голову такая нелепица. Наговорила с три короба… Тьфу!
– Ну, не упрямься! Ты же хороший человек… Выпил лишнего, погорячился, с кем не бывает. Колючка без тебя не сможет жить! А если на нее все еще злишься, подумай о сыне! Он разве виноват? Хочешь без отца его оставить?
Богатырь что-то глухо прорычал, схватившись за голову.
– Вернись, славный витязь! – продолжала уговаривать Емшан-Полынь дрожащим голосом. – Прости Колючку. Она сама не понимала, что говорит. Как бы я хотела быть на ее месте! – вспыхнув, красавица половчанка закрыла лицо ладонями. Потом, переведя дыхание, с трудом договорила: – Но на чужом горе своего счастья не выстроить. Тем более, Колючка – подруга моя. Мы с ней были ближе, чем сестры…
Попович тяжело вздохнул:
– Ах, если бы ей – да твой ум, рассудительность! Ну, вот почему?! – его голос прервался. Махнув рукой, витязь договорил: – Был бы магометанином, взял бы тебя в гарем, непременно!
– Я и так тебе многим обязана. Если захочешь… – покраснев, половчанка снова умолкла, потупила взор.
Богатырь, в трещавшей голове которого все еще гулял хмель, не сразу понял, что она имеет в виду. Потом возмутился:
– Да за кого ты меня принимаешь?! Я тебя спасал не для плотских утех!
– Ну, не сердись, Алешенька! – умоляюще пролепетала Емшан. – Поверь, я бы с радостью!
– Кх-м!!! – замотал головой Попович, борясь с подступившим искусом. Чертовски хороша была окаянная девка, чего уж скрывать! Особенно в новой одеже, которую он купил ей, завернув в подходящую лавчонку. Хозяин, в восторге от оказанной ему чести – прославленный богатырь удостоил доверием! – охотно согласился подождать с деньгами. – Грех это. Не заводи больше такие разговоры!
– Ну, зачем ты упрямишься? – голос Малинки звучал спокойно, вежливо, но в нем явственно слушался укор, хоть и сдержанный. – Я же вижу и чувствую: тебе самому стыдно. И за буйство, которое учинил, и за то, что жену обидел. Воротись домой, примирись с нею!
Муромец сердито засопел, отвернувшись, чтобы ученица знахарки не увидела, как жарко пылает его лицо.
– А она меня не обидела?! – огрызнулся, но уже больше для порядку.
– Она – слабая баба, да еще родившая! – покачала головой Малинка. – А ты вон какой здоровый, ты ей должен быть защитой и опорой! Опять же, а как с детишками быть? Слыханное ли дело, чтобы родной отец младенчиков бросал?!
– Ох! – тяжело вздохнул Илья. Укор поразил без промаха, в самое больное место. – Не надо, а? И так тошно…
– Нет, надо! – с неожиданной твердостью и даже суровостью произнесла Малинка. – Уж прости, правда иной раз бывает и горькой. Возвращайся! Жена твоя плачет, места себе не находит.
– Откуда знаешь?
– Знаю, и все тут. Дар у меня такой… Или хочешь, чтобы у нее от горя молоко пропало?! Чем тогда детей твоих кормить?!
– Э-э-э… – только и смог произнести Илья, разведя могучими ручищами. Против такого довода возражений отыскать не удалось.
– М-р-р-ррр! – осмелев, решился мяукнуть и Котя. Он был полностью согласен с Малинкой.
«Подурили – и достаточно. Домой! Там тепло, уютно, там всегда молочко есть. Даже сливки…»
– Ты у меня помявкай еще! – вскипел Илья, радуясь, что можно на ком-то выместить досаду. – Ишь, морду да бока наел, лодырь! Поперек себя шире! Вернемся – мышей будешь ловить, как всякий порядочный кот. А не будешь – гляди, у меня расправа коротка! И никакая Ладушка не защитит.
– М-ммммрр!!! – Рыжак в притворном ужасе закатил медовые глаза.
«Ну, это мы еще посмотрим…»
– Добрыня Никитич, воротившись на свою заставу, не успел даже толком поздороваться с дружинниками, никак не чаявшими увидеть его так скоро. На взмыленной лошади примчался гонец с княжеской грамотой и потребовал, чтобы Добрыня тотчас же, мига лишнего не потратив, прочитал ее.
– Приказ самого великого князя! – охрипшим голосом пояснил он. – Разыскать так быстро, как только можно, вручить в собственные руки и проследить, чтобы немедля прочел. Под страхом немилости и суровой кары. Уж не подведи, славный богатырь, сам знаешь, наше дело маленькое, с князем не поспоришь…
– Ладно, чего уж… – проворчал Добрыня, ломая восковую печать. Почему-то сразу на душе сделалось муторно, охватило недоброе предчувствие. Дружинники, опасливо перешептываясь, качали головами. Нежданная грамота от самого князя – ох, не к добру!
Прочитал богатырь, что было выведено на тончайшем пергаменте хорошо очиненным гусиным пером. Сплюнул. Произнес (про себя, ясное дело!) несколько крепких выражений, касающихся священной княжеской особы, а также способов продления рода человеческого…
– Оставайтесь, братцы, подобру-поздорову! – нахмурившись, проворчал он. – Князь меня ко двору своему требует, да как можно скорее. Только приехал из Киева, и опять туда же!
– А почему, в чем дело? – взволнованно загудели дружинники.
– Да кто же его ведает! Сказано только, что дело наиважнейшее и никакого отлагательства не терпит.
«Уж не отомстить ли он мне решил за то, что я открылся Алешке?» – с опаской и злостью подумал Добрыня. Но потом прогнал эту мысль: не похоже! Отомстить можно было и по-другому, много раз. Видимо, и впрямь что-то серьезное стряслось.
«Или, может, мытарь Барсук челом бил, на меня жаловался, потому князь на суд свой зовет?» – горько усмехнулся богатырь. Но потом покачал головой. Не княжеское это дело, о таких вещах судить да рядить.
И снова, в который уже раз, защемило сердце… А ну, как ребенок-то и впрямь его, Добрыни?! Хоть и незаконный, а все же своя плоть и кровь… Как узнать правду?
«Господи… Ну зачем, зачем я тогда так напился?! Что потрясен был – ясно, но можно же было остановиться вовремя… А-а-а, ладно! Когда это на Руси вовремя останавливались!»







