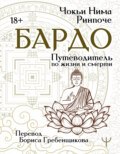Борис Гребенщиков
Книга слов. Неизданные стихи и странности
Мастер слова


© Б. Б. Гребенщиков, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Стихи

Стихи из «Зелёной книги»
«Я пропою Вам этот вечер…»
Я пропою Вам этот вечер,
Которого короче нет;
В нём ветру верилось, что вечен
Октябрьский зябкий силуэт
Каналов, окаймлённых в окна;
Закутав замки волшебством,
Прощалось небо неохотно
И снова притворялось сном,
Где, примеряя наши судьбы,
Приняв наш образ и печаль,
Молчали, в нас вживаясь, судьи;
Мы ж начинались от начал,
Столь заповедно веря в сумрак,
Сулящий пальцы наши сплесть,
Непостижимые, как сумма
Первопричин; казалось – есть
Опять начало.
«Черновики осточертели…»
Черновики осточертели,
Исчерченные зло и зря.
В моей купели нет апрелей,
Зато по горло октября.
Неужто кровь пускал впустую
Словам – и в строки хоронил,
И время верить в то, что сдует
Меня и след моих чернил,
Когда из всех концов реальней
Напиться небом допьяна
И – горизонт в груди как рана —
Себя не ждать и петь до дна?
Не знаю синтаксиса истин,
Читаю выцветшие письма,
А мир в горстях неоспорим,
И что – ну что мне делать с ним?
«Вы запрещены…»
Вы запрещены.
Но наперекрёст
Вы освещены
Нерождённых звёзд
Светом. Напролёт
Спеты, но не до
Музыки. Вы лёд;
Лишь бы подо льдом —
Кровь. Не прикоснуть —
Счастье: значит вам
Посвящать, как сну,
Буквы. Значит впрямь
Перехлёстнут холст
Недойдённым. Так
Высоко, что боль
В парусах. Спектакль
Для других, но крик
Заперт смехом. Вас —
Не спасать – топить,
Пусть не мне, а – красть,
Лёд навзрыд. Не мне:
Так на том и жив,
Что – кому умнеть,
А кому – ни лжи
Нет, ни правды – но
Музыка. И впредь
Горькое вино
И – не глядя – петь.
«Кропотливая мука – заламывать строки…»
Кропотливая мука – заламывать строки,
Словно руки. И руки, как строки, хранить
Взаперти для того, что в словах, как в остроге,
Если петь, то как жить; если жить, то границ,
До одной, не считать за достаточный довод,
Сомневаться в правдивости избранных звёзд.
Если жить, то бездоннейшую из бездонных
Почитать за резон. Если петь, то взахлёст
Горизонт, как гортань, перехватит анапест,
И дописывать слово чернилами вен
Станет честью. И выйдет реальность на паперть
Разжимать – не разжать – зачарованных век.
«Собирать на венок безымянности улиц…»
Собирать на венок безымянности улиц
Стало хлебом насущным. Отпет, как свеча,
Беспросветно потухший, он выйдет, ссутулясь,
Чтобы слоги свои собирать и молчать,
Чтобы вызубрить самых бесхитростных истин,
Бесполезных, как мир, немудрёную ложь.
Но пока не погашена рукопись листьев
Или снег как страница – его не спасёшь.
Не докажешь, что нет убедительней камня
Матерьяльности. Он недоверчив, как Гамлет,
Нашим доводам. Только – что Гамлету прах —
Всё ему чьи-то губы горят на губах.
«Не крамола, не грамота…»
Не крамола, не грамота
Охранная, не страх —
Моя строка огранена
Случайностью листа.
Не правило, не исповедь,
Но чистым небесам
Неистовая искренность,
Что и не написать,
А, задыхаясь, заповедь:
Коснуться рук и плеч.
Настолько первозданная,
Что жить – не уберечь,
А растранжирить по ветру,
Строкой, смычком, холстом,
Губами. Мы – не по миру,
А по небу. На том
Стоим.
Из книги «Петербург»
«Я позвоню с угла…»
Я позвоню с угла,
Продрогший вплоть до губ.
Я не умею лгать
В такой мороз, но лгу,
Что где-то заждались,
Что просто позвонил,
И трубку на рычаг,
Как голову сплеча.
«Не средь далёких странствий…»
Не средь далёких странствий
Мы обретём покой —
Мы перейдём Фонтанку
И побредём домой,
Где «Беломор» не гаснет,
Не остывает чай
И где за словом «Здравствуй»
Не следует «Прощай».
Иннокентий
(Хроника в семи частях)
(написано совместно с Маратом)

Иннокентий Едет В Трамвае
Иннокентий садится в последний трамвай,
Где кондуктора нет и в помине.
Семь голодных мужчин там едят каравай,
Увязая зубами в мякине.
Иннокентий рассеяно смотрит вокруг,
В рукаве его теплится свечка.
Семь раздетых мужчин примеряют сюртук,
На лице у седьмого – уздечка.
Пожилая ткачиха желает сойти,
Гневно машет большими руками.
Семь бегущих мужчин на трамвайном пути
Затевают дуэль с ездоками.
Иннокентий стреляет в пустое окно,
Прижимаясь к прикладу предплечьем.
Одному из мужчин прострелили сукно,
Шесть отделались лёгким увечьем.
Пожилая ткачиха без чувства лежит.
Иннокентий задумчиво дремлет.
Над трамвайным путём чёрный ворон кружит
И искре электрической внемлет.
Полтораки Наносит Иннокентию Визит
Полтораки – повеса, мошенник и плут —
К Иннокентию в двери стучится.
В сей парадной соседи давно не живут,
Но порою приходят мочиться.
Иннокентий задумчиво пьёт молоко,
Таракана узревши во мраке.
На душе его мирно, светло и легко,
Он не хочет впускать Полтораки.
Даже если он двери откроет ему,
То, наверное, кинет поленом,
Или, если полена не будет в дому,
Между ног ему двинет коленом.
Полтораки же злобно царапает дверь
И в замочную скважину свищет,
На пожарную лестницу лезет, как зверь,
Он свиданья с хозяином ищет.
Иннокентий ложится в пустую кровать,
На стене таракан копошится,
За окном Полтораки ползёт умирать,
И над ним чёрный ворон кружится.
Иннокентий Созерцает Светила
Иннокентий привычно садится на стул,
Поглощённый светил созерцаньем.
Вот уж утренний ветер над крышей подул,
Отвечают светила мерцаньем.
Иннокентий не сводит задумчивых глаз
С возникающих в небе явлений.
Небосвод озарился, мелькнул и погас,
Иннокентий исполнен сомнений.
Существует ли всё, что горит в небесах,
Или это – всего лишь картина?
Скоро полночь пробьёт на кремлёвских часах,
На лице у него – паутина.
Кто другой бы сидел – Иннокентий встаёт
И решительно ходит по крыше.
Под ногами его рубероид поёт,
Иннокентий взволнованно дышит.
Он спускается с крыши – он понял, в чём суть…
Дева в бочке подштанники плещет.
Он хватает ту деву за нежную грудь…
Средь небес чёрный ворон трепещет.
Иннокентий В Горах
Иннокентий вращает коленчатый вал,
Шестерня под рукою скрежещет.
Покачнулся автобус и в пропасть упал,
Вместе с ним – Иннокентьевы вещи.
Пассажиры безумные в пропасть глядят,
Над паденьем ехидно смеются.
Пять учёных мужей прах горстями едят
И о камень сединами бьются.
Иннокентий сдувает пылинки с манжет,
Упираясь в скалу альпенштоком.
На конце альпенштока – портрет Беранже
И Горация томик под боком.
Он уже на вершине, он снял сапоги,
Над строкою Горация плачет.
Между тем уже полночь, не видно ни зги,
Иннокентий Горация прячет.
Вот уж скорая помощь стоит под скалой,
Пассажиры дерутся с врачами.
Чёрный ворон летает над их головой,
Поводя ледяными очами.
Иннокентий Спасает Одну Или Двух Дев
Иннокентий стоит на своей голове,
Презирая закон тяготенья.
Мимо юная дева, а может быть, две,
Проходя, вызывают смятенье.
Иннокентий гордится своим либидо,
Юным девам он делает знаки,
Но внезапно, въезжая в красивом ландо,
Появляется скот Полтораки.
Эту деву иль двух он желает увлечь,
Перед ними он кобелем пляшет.
Иннокентий, чтоб дев чистоту уберечь,
Полтораки отчаянно машет.
Полтораки отходит на десять шагов,
Чтобы в челюсть ему не попало.
Изумлённая дева при виде врагов
Покачнулась и в шахту упала.
Полтораки, поверженный, мрачно лежит.
Иннокентий спускается в шахту.
Чёрный ворон бессмысленно в небе кружит,
Совершая бессменную вахту.
Иннокентий Спускается Под Землю
Иннокентий спускается в мрачный подвал,
Подземелье наполнено смрадом.
Он решает устроить большой карнавал,
Предварённый военным парадом.
Иннокентий в раздумье обходит углы,
Шевеля стеариновой свечкой:
«Здесь прекрасные дамы, стройны и смуглы,
Будут в карты играть перед печкой…
Кирасиры, своим сапогом топоча,
Их на вальс пригласят неуклюже…»
Зашипела и вовсе погасла свеча.
Иннокентий шагает по луже.
Он рукою скребёт по осклизлой стене,
Он зовёт громогласно и внятно:
«О прекрасный Панкрат, поспеши же ко мне
И открой мне дорогу обратно!»
Старый дворник Панкрат сильно пьяный лежит
И призыву из мрака не внемлет.
Высоко в небесах чёрный ворон кружит,
Ревматичные крылья подъемлет.
Иннокентий На Заводе
Иннокентий глядит на токарный станок,
Восхищённый вращеньем детали.
Искромётная стружка летит между ног,
Раздаётся визжание стали.
Одинокие токари ходят гурьбой,
Аромат источая мазута;
Иннокентия видят они пред собой,
Назревает кровавая смута.
Иннокентий, от них отбиваясь сверлом,
За переднею прячется бабкой.
Он под самую крышу влезает орлом
И кидает в них норковой шапкой.
Отродясь не видали такого в цеху —
Токарь шапкою наземь повержен.
Иннокентий, как птица, парит наверху,
Вероломством рабочих рассержен.
Там, где пели станки, всё в руинах лежит.
Иннокентий безмерно страдает.
Он то волосы рвёт, то куда-то бежит.
На плече его ворон рыдает.
Две басни

№ 1
Кривой Ефрем пошёл купаться в пруд,
Но пруд был крут.
И наш Ефрем, не видя дальше носа,
Упал с откоса
И вмиг остался без хвоста.
Мораль сей басни непроста:
Не зная женскую породу —
Не суйся в воду.
№ 2
Одна лиса жила в дупле берёзы.
Пришёл медведь
И начал ей глядеть.
Потом ударили морозы.
Замёрзло всё.
Лиса ушла в кредит.
Медведь же вмёрз в дупло
И до сих пор глядит.
Мораль проста:
Не будь, как тот медведь.
Пришёл – так нечего глядеть.
Из чрезвычайно древнего греческого
О Диоскурия, мне стан прекрасен твой.
Люблю тебя в минуты наслажденья,
Когда вокруг цветет сорняк и хвой,
Я всю тебя объемлю без движенья —
И, Диоскурия, мне стан прекрасен твой.
Тебя узрев, я был ещё юнцом,
Вострепетал; и даже крался ночью,
Чтоб впредь, к лицу прижавшися лицом,
Узнать восторг – и зрить твой стан воочью…
Тебя узнав, я был ещё юнцом.
Что в том, что Кронос крутит циферблат,
Что борода в лице моём пробилась?
Я рос и познавал тебя стократ;
Я познавал – и сердце сладко билось —
Что в том, что Кронос крутит циферблат?
Сколь много раз я к сердцу прижимал
Твоих ланит прекрасных мрамор дивный;
О персь твою я грудь себе сломал
И бёдрами себя членовредил я —
Их много раз я к сердцу прижимал.
Но, Диоскурия, я всё же вечно твой.
Чудесно наше дивное слиянье.
Я страсть с тобой изведал, и покой;
Пусть мне твердят, что ты лишь изваянье;
Пусть, Диоскурия. Я раб навеки твой.
Из альбома А. К
Верю я, что сбудется предвестье,
Мной предвосхищённое в мечтах;
И пройдёт по тихому предместью
Лев Толстой в оранжевых портах.
И Тургенев, дурь смешавши с дрянью,
Дружески прошепчет в ухо мне:
Чу, смотри – Есенин гулкой ранью
Поскакал на розовом слоне.
Картины из сельской жизни
«У поворота на Коростылёво…»
У поворота на Коростылёво
Угрюмый старец сильно бьёт клюкой
Увязшего в болоте крокодила.
А тот, возведши очи к небесам,
Окрестность оглашает хриплым рёвом.
«Усталые седые агрономы…»
Усталые седые агрономы
От жён сварливых прячутся в кусты
И там сидят, порою по два года,
Из удобрений гонят самогон,
И, пьяные, играют в «накось-выкусь».
«Порой в колхоз привозят трактора…»
Порой в колхоз привозят трактора —
Тогда крестьянин прячется под стог,
А те свирепо точат шестерни
И, лязгая стальными клапанами,
Гоняются за девками по лугу.
«Пейзанки собирают колоски…»
Пейзанки собирают колоски
И прячут их стыдливо под подолы.
Вон пастухи в амбаре пьют «Шанель»
И обсуждают новое бьеннале…
В тумане чьё-то светит декольте.
«Толпа пейзанок, юбки подобрав…»
Толпа пейзанок, юбки подобрав,
Прихватывает Федю-недоумка
И боязливо дёргает за член —
А тот стоит и в ус себе не дует,
Лишь слюни каплют из большого рта.
«Захорошело тучное жнивьё…»
Захорошело тучное жнивьё,
Рычит в конюшне боров кровожадный
И роет землю кованым копытом.
Пейзанки с визгом мочатся в кустах…
Счастливая весенняя пора!
ДВА СТИХА О КВАРТИРЕ № 6
Первый стих
Эльжбета Моховая, белошвейка,
Искусная в раскидывании карт,
Живёт себе на улице Бассейной,
На этаже меж третьим и четвёртым,
В загадочной квартире номер шесть.
Заходят в двери разные собаки,
Ласкаются и трогают колени;
Эльжбета Моховая неприступна,
Но кормит их молочной колбасой.
Съев колбасу, собаки пляшут пляски,
Выкидывают разные коленца;
Одна из них вертится, как щелкунчик
Из оперы Чайковского «Щелкунчик»,
Другая замерла по стойке смирно,
Как юный часовой пред генералом,
И так стоит недвижно на ушах.
Эльжбета же идёт готовить чай.
Перенесёмся мысленно на кухню,
Которая была колонным залом,
А ранее вмещала монастырь.
Под сводами – в предвечной темноте,
Так высоко, что глаз почти не внемлет,
Знамёна, гербы, древки и щиты,
Следы побед, пожаров и сражений;
Окаменевшей гарпии крыла…
Эльжбета входит и – поражена
Готическою сумрачной красою —
Набрасывает кухонный ландшафт
В блокноте, что у ней всегда в руке:
Но, вдруг забыв искусство навсегда,
Вся опрометью к чайнику несётся.
А чайник, своенравный люцифер,
Малиновою злобою налился,
Шипит, стрекочет, давится, хрипит
И плещет огнедышащею лавой;
Едва Эльжбета ближе подойдёт —
Он ей кричит сквозь хохот сатанинский:
«Прощайся с миром, жалкий род людской,
Пришёл конец твоей бесславной жизни,
Отныне я – начальник над землёй!»
За сим следит старинный друг Эльжбеты,
Он притаился средь оконных рам.
Сей друг ей – не случайный джентльмен.
Он носит фрак на голом стройном теле,
И волосы заплетены в косу;
А сам он по профессии индеец,
С таинственной фамилией Ваксмахер.
Как говорил однажды Нострадамус,
Придёт конец горению конфорки
И всем другим бесовским западням;
Стоит индеец, как тотемный столб,
Недрогнувшей рукой снимает чайник
И рыцарски Эльжбете подаёт.
Меж тем собаки съели колбасу
И, острым чувством голода томимы,
Готовы перейти на интерьер;
Тут вносят чай Эльжбета и Ваксмахер.
Какое ликованье началось,
Какие там произносились тосты;
А поутру поехали к цыганам…
Но это – лишь вступление к поэме
Про чудо-жизнь в квартире номер шесть.