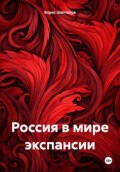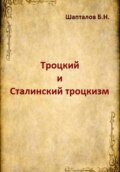Борис Николаевич Шапталов
Кто подставил Красную Армию
В Интернете выложен фильма Би-би-си «Человек из стали». Для нашего уха неожиданными и парадоксальными слышатся слова диктора: «Он (Сталин) помог спасти Британию!» А ведь Би-би-си – государственная организация и ее девиз – объективное изложение событий. И авторы сказали то, что было в действительности. Но точно так же, в случае нападения Германии на Советский Союз, не могла остаться в стороне Великобритания. Почему?
Англия после потери своего союзника Франции оказалась в безвыходном положении. Но не в смысле грядущего неизбежного поражения, а в том, что Великобритания, как и в Первую мировую, была «приговорена» вести войну до победного конца. Альтернативы борьбе не было, хотя, казалось бы, Лондон мог принять мирные предложения Берлина. С ними Гитлер выступил почти сразу же после окончания кампании во Франции. А в мае следующего года Гесс специально полетел в Англию уговаривать англичан заключить мир. В ситуации, когда стране грозила перспектива появление врага на ее территории и последующего полного разгрома, английский правящий класс все равно проголосовал за войну. Может, дело в мужестве? Не только. Политикой правят интересы, а не эмоции.
Британские политики понимали, что фашистская Германия после заключения мира с Великобританией ударит по СССР. Ну и что? Разве это не прекрасно? Правящая элита Великобритании могла отомстить Сталину за недружественную ей позицию в 1939-40-х годах, ведь Англия могла спокойно сидеть в тылу и смотреть, как дерутся два тигра. Казалось бы, великолепная перспектива! Ан, нет. Миссия Гесса провалилась, хотя, если исходить из того, что материалы «дела Гесса» все еще засекречены, в верхах были колебания, но протянутая рука осталась не пожатой. Трезвый расчет взял верх. Какой? Дело в том, что Англия в случае разгрома СССР оставалась в Европе одна наедине с Германией и ее союзниками. В этой ситуации никакой мирный договор, никакой компромисс не помог бы, как не помогло Мюнхенское соглашение 1938 года (а уж сколько надежд с ним было связано!). После Мюнхена стало ясно, что договариваться с Гитлером – занятие пустое. Любое соглашение с ним будет существовать ровно столько времени, пока ему ни захочется что-то захватить. В этом случае над Британской империей нависла бы угроза расчленения со стороны Германии, Японии, Италии и союзников поменьше, вроде Испании. Поэтому Черчилль незамедлительно сделал то же, что просто обязан был сделать Сталин – 22 июня 1941 года предложил Москве союз.
«Карфаген должен быть разрушен!»
Гитлер весь этот расклад прекрасно понял, и отдал приказ готовиться к неизбежному – к войне с Россией, пока Великобритания была слаба и надеялась на «баланс сил в Европе». Этим противовесом был Советский Союз. Предстояло его убрать…
Но и это было еще не все. Гитлера беспокоила не только армия Советского Союза, Соединенные Штаты тоже. Его озаботило начавшееся масштабное развертывание вооруженных сил Америки. Он говорил приближенным, что через год США будут готовы вступить в войну. Чтобы противостоять новому союзнику Великобритании нужно было устранить угрозу на востоке. У Гитлера просто не иного выхода, кроме как начать «превентивное» наступление против СССР. Превентивное не только из-за боязни удара Красной Армии. Чтобы противостоять Соединенным Штатам требовалось заполучить источники сырья на территории СССР и тем самым перестать зависеть в этом вопросе от Кремля. Напомним, Японии пришлось начать войну с великими державами и оккупировать Индокитай и Индонезию, как только Вашингтон объявил о запрете поставок нефтепродуктов, стали и других видов стратегического сырья в Японию. Гитлер не стал дожидаться подобного варианта от Москвы, и приказал нанести удар. Он понимал, что в ином случае в 1942-43 годах перед ним вырастит стена из Великобритании, США и СССР. И пробить ее уже вряд ли удастся. У него оставался узкий временной коридор. Или-или. И «наполеоновский» выбор был сделан.
Происходило это следующим образом.
19 июля Гитлер по радио сделал предложение английскому правительству о мире. Ответа не последовало. 22 июля было созвано совещание высших чинов Вермахта, на котором Гитлер сделал свое судьбоносное заявление о необходимости начать подготовку к войне с СССР. Более того, он даже хотел начать ее в том же 1940 году, но генералы отговорили. И не потому, что не понимали неизбежности схватки на востоке. Начальник Генерального штаба сухопутных сил Ф. Гальдер записал в своем дневнике 31 июля 1940 года: «Было бы лучше начать в этом году, но такую масштабную акцию невозможно организовать за оставшееся время». Какая уж тут «внезапная» война! Весь вопрос состоял в следующем: когда конкретно она начнется, какие союзники выступят на стороне Германии, сколько сил будет брошено против СССР? Ни для кого этот политико-военный расклад не был тайной, поэтому пока германские генералы разрабатывали план «Барбаросса», советский Генеральный штаб без колебаний и раскачки стал разрабатывать свой план предстоящей войны. Уже 18 сентября 1940 года он был представлен Сталину, который ему не удивился, не сослался на «договор о ненападении», а внимательно рассмотрел, провел совещание с участием членов Политбюро 5 октября. 14 октября 1940 года план с поправками утвердили окончательно, то есть он стал законом, обязательным к исполнению.
План войны с Германией и ее союзниками
Что же предложили нарком обороны С.К. Тимошенко и начальник Генерального штаба К.А. Мерецков?
Прежде всего, и что показательно, план был наступательным! Держать оборону предлагалось лишь с Финляндией и Румынией. А против Германии – наступать! То есть, при желании в этом можно увидеть намерение нанести превентивный удар.
В 1990-е годы вспыхнула дискуссия, которая продолжается до сего дня, о возможном планировании коварным Сталиным упреждающего удара по Германии и о наличии сверхсекретного плана нападения, который глубоко запрятан в недрах архивов. Так вот, план «превентивной» войны давно опубликован, и каждый желающий может с ним ознакомиться в сборнике документов «1941 год». Книга 1: М., 1998., с.236-253.
Сторонники концепции коварного Сталина настолько увлеклись своей идеей, что «проглядели» реальный, а не мифический план войны. Произошло, как в одном из рассказов о Шерлоке Холмсе: пока опытнейшие ищейки искали тайник в доме, где было спрятано разоблачительное для одного высокопоставленного лица письмо, документ преспокойно лежал на столе у всех на виду. Но им, профессионалам сыска, не пришло в голову заглянуть в конверт, настолько они были уверены, что все тайное должно быть спрятано за семью замками. Другое дело, что ничего жареного читатель, жаждущий сенсаций, в опубликованном плане не найдет. Это сухой служебный документ с перечислением необходимых мероприятий для будущей кампании и наброском направлений главных ударов Красной Армии. Потому поклонники версии В. Суворова и прошли мимо этой публикации, что жаждали отыскать документ, в котором бы раскрывались жутко агрессивные намерения Кремля типа: «…после захвата Берлина немедленно приступить к организации колхозов и выселению каждого десятого немца в Сибирь». Короче, что-нибудь такое, чтоб можно было посмаковать насчет агрессивной сущности СССР. А тут – скукота.
Но делать ничего, обратимся к скучному документу.
Тимошенко и Мерецков определили следующие направления главных ударов противника.
Германия, вероятнее всего, развернет свои главные силы к северу от устья р.Сан с тем, чтобы из Восточной Пруссии через Литовскую ССР нанести и развить главный удар в направлениях на Ригу, на Ковно и далее на Двинск – Полоцк, или на Ковно – Вильно и далее на Минск (1. 1941, кн.1, с.238).
Отметим, что германское командование выбрало главными оба направления – на Ригу-Двинск и на Вильнюс-Минск.
Одновременно необходимо ожидать вспомогательных концентрических ударов со стороны Ломжи и Бреста, с последующим развитием их в направлении Барановичи, Минск (1, 1941 год, кн.1, с.238).
Тут авторы плана немного ошиблись. Удар со стороны Бреста на Минск стал не вспомогательным, а одним из главных. Но в целом Тимошенко и Мерецков точно оценивали будущие события.
Вполне вероятен также одновременно с главным ударом немцев из Восточной Пруссии их удар с фронта Холм… на Дубно, Броды с целью выхода в тыл нашей Львовской группировки и овладения Западной Украиной.
И опять попадание если ни в десятку, то в девятку точно. В 1941 году противник действовал смелее и сразу стал наступать на Киев. Но план-то составлялся в 1940 году, когда у немцев еще было мало танков и моторизованных частей для проведения масштабных действий. Если бы, как предлагал Гитлер, Вермахт атаковал Красную Армию в 1940 году, то германским войскам пришлось бы действовать так, как предвидели Тимошенко и Мерецков. Впрочем, уровень оперативной подготовки авторов был столь высок, что они увидели и состоявшийся вариант.
Не исключена возможность, что немцы с целью захвата Украины сосредоточат свои главные силы на юге, в районе Седлец, Люблин, для нанесения главного удара в общем направлении на Киев.
На Юге – возможно ожидать одновременного с германской армией перехода в наступление из районов северной Румынии в общем направлении на Жмеринку румынской армии, поддержанной германскими дивизиями.
(1, 1941 год, кн.1, с.239)
Тут авторы оказались правы на все сто процентов. Именно так летом 1941 года события и развивались. Поэтому более чем странно читать у современных исследователей (А. Исаев, Ю. Веремеев и др.) о том, что верховное командование Красной Армии не имело возможности определить районы и направления главных ударов германской армии. Как раз наоборот, оно определило эти направления еще до подписания плана «Барбаросса»! Причина такой точности – конфигурация границы и знание особенностей немецкой военной стратегии.
Заметим еще раз: Тимошенко и Мерецков были уверены – Гитлер вторгаться в Англию не рискнет, а перенесет удар против СССР. То есть, он предпочтет повернуться спиной к Англии, почти не имеющей сил для вторжения в Европу и лицом к СССР, обладающему сильной армией. Но никак не наоборот! Оценка – сверхточная и своевременная.
Как же предлагалось реагировать на будущий удар Красной Армии? Варианта было два – оборона или наступление. Авторы выбрали наступательный вариант. Почему – рассмотрим позднее, а сейчас просто изложим предложение наркома и начальника Генштаба.
Главные силы Красной Армии на Западе, в зависимости от обстановки, могут быть развернуты или к югу от Брест-Литовска с тем, чтобы мощным ударом в направлении Люблин и Краков и далее на Бреслау… в первый же этап войны отрезать Германию от Балканских стран, лишить ее важнейших экономических баз и решительно воздействовать на Балканские страны в вопросах участия их в войне; или к северу от Берст-Литовска, с задачей нанести поражение главным силам германской армии в пределах Восточной Пруссии и овладеть последней.
(1, 1941 год, кн.1, с.241).
И далее на нескольких страницах шло подробное перечисление того, сколько и каких дивизий будет необходимо для тех или иных вариантов.
Итак, налицо реальный, а не мифический план военных действий. Правда, могут возразить: в плане нет конкретной даты войны. А ее и не могло быть в сентябре 1940 года, ибо было ясно, что перед скорой зимой Вермахт наступление против СССР не начнет, а Красной Армии без реальной угрозы переходить в наступление было не с руки. Это только в книжках про «агрессивный Советский Союз» с тамошними рассказами о желании «поработить Европу» вопрос нападения решался по хотению Сталина. В реальной политике все обстоит совершенно иначе. Политик обязан считаться с большим числом сопутствующих и препятствующих факторов. Затевать «освободительный поход» в той ситуации (впереди сильная Германия, позади крепкая Япония) было совершенно нецелесообразно.
Итак, противоборство сторон переносилось на следующий год. А в следующем году предстояло действовать по обстановке, и там видно будет, кто первым удар нанесет: Вермахт – на Минск или Красная Армия – на Люблин… Главное, что явствовало из «Соображений о стратегическом развертывании…», – война неизбежна! Оставалось планомерно готовиться к ней, тем более что времени хватало.
Как можно оценить этот план: как планирование превентивного удара или как контрнаступательный? В действительности все эти новомодные толкования неуместны. Разработчики плана стратегического развертывания главных сил Красной Армии исходили из профессиональных критериев, а именно: какими силами и средствами располагает противник и какими – Красная Армия. Если сил хватает для наступления – оно соответственно и планируется. Если только для обороны – то планируется оборона. Активная или пассивная – также в зависимости от ситуации. И ничего более!
А теперь остановимся на реакции Сталина. Она была вполне благожелательной. Сталин внес определенные поправки, после чего план будущей войны был доработан и вновь представлен на суд политического руководства СССР.
В записке наркома обороны и начальника Генштаба Красной Армии на имя И.В. Сталина и В.М. Молотова говорилось следующее:
Докладываю на Ваше утверждение основные выводы из Ваших указаний данных 5 октября 1940 г. при рассмотрении планов стратегического развертывания Вооруженных Сил СССР на 1941 год.
1. Стратегическое развертывание Вооруженных Сил СССР на два фронта (на Западе и на Востоке) – считать основным.
Главный противник и главный театр основных действий – на Западе, поэтому здесь должны быть сосредоточены и главные наши силы.
… В связи с этим из имеющихся в настоящее время сил назначить:
– для действий на Западе (от побережья Баренцева моря до берегов Черного моря) – 142 стрелковых дивизий, 7 мотострелковых, 16 танковых и 10 кавалерийских дивизий, 15 танковых бригад и 159 полков авиации…
2. На Западе основную группировку иметь в составе Юго-Западного фронта с тем, чтобы мощным ударом в направлении Люблин и Краков и далее на Бреслау в первый же этап войны отрезать Германию от Балканских стран…
в) немедленно принять меры по инженерному укреплению северных и северо-западных границ, с тем чтобы в дальнейшем за счет созданных надежных укреплений освободить еще силы для усиления основной группировки на юго-западе;
…
4. С учетом указанных мероприятий в состав сил Юго-Западного фронта довести до 80 стрелковых дивизий, 5 мотострелковых, 11 танковых дивизий, 7 кав.дивизий, 20 танковых бригад и 140 полков авиации.
Кроме того, в резерве Главного командования иметь за Западным фронтом – в район Двинск, Полоцк, Минск не менее 20 стр. дивизий и за Юго-Западным фронтом в районе Шепетовка, Проскуров, Бердичев – не менее 23 стрел. дивизий.
…
8. Разработку всех планов развертывания и действий войск как по линии Наркомата обороны, так и по линии Наркомата военно-морского флота закончить к 1 мая 1941 г.
9. Обязать Народный комиссариат путей сообщения СССР с участием представителей Народного комиссариата обороны составить к 1 января 1941 г. новый воинский график движения поездов, обеспечивающий перевозки НКО в размерах, предусмотренных планами развертывания…
(1.1941 год, кн.1, с.288-290).
По-моему, все более чем ясно и понятно. А именно:
а) ни о какой «внезапной» войне с Германией не могло идти речи, ибо к ней начали готовиться заранее, тщательно и умно;
б) конкретные планы предстоящих военных действий на уровне военных округов (фронтов) и военно-морского флота должны были завершиться вовремя – к 1 мая 1941 года;
в) исходя из оценки сторон, предусматривалось нанесение мощного удара по Вермахту, то есть отходить к старой границе или за Днепр, обрекая свои земли на разорение, никто не собирался;
г) в кои веки начальство действовало обдуманно и расчетливо и никаких фокусов не предвиделось, а значит, Красная Армия должна была встретить войну во всеоружии.
Если сравнить выделенные силы Красной Армии с германскими и ее союзниками, то получалось следующее соотношение. Примерно 190 дивизий противника (в зависимости сколько выставят Румыния с Финляндией) против 182 дивизий (если принять две бригады за одну дивизию) в первом эшелоне и 43 дивизий в резерве Красной Армии. Учитывая невысокое качество румынской и слабую техническую оснащенность финской армий, Красная Армия имела небольшое превосходство. На практике, как оказалось, у Красной Армии было значительно больше танков и самолетов. Так что она имела дополнительное весомое преимущество. В целом, ситуация выглядела вполне оптимистической.
Итак, все довольно прозрачно и понятно, кроме одного: почему Тимошенко и Мерецков выбрали наступательный, а не оборонительный вариант, ведь он, казалось бы, наиболее прост в исполнении? И, добавим, сейчас публицисты «суворовской школы» не обвиняли бы Сталина в «агрессивных намерениях», а наши «официальные» историки перед ними не оправдывались. И дело даже не в том, что Тимошенко и Мерецков всего несколько месяцев назад видели, к чему привела статичная оборона англо-французских войск, хотя урок был более чем показательным. Главное в том, что к наступательной войне в Красной Армии готовились задолго до порки, что учинила «оборонщикам» на Западе германская армия. Теоретики РККА поняли тщету надежд на повторение позиционной войны времен Первой мировой войны еще до рождения Вермахта. Для них крушение англо-французской обороны, защищенной, казалось, неприступной «линией Мажино» не было бы новостью, они предрекали подобное развитие событий!
Кто они, эти теоретики, и как складывались представления о современной войне в Красной Армии?
К какой войне готовиться?
Стратегия РККА «тухачевского» периода
Все началось с осознания, что случившаяся недавно Мировая война – не последняя. Более того, не за горами новая Большая война, и к ней надо как-то готовиться.
О том, что война неизбежна, писали в советских газетах и говорили с трибун десятки раз. Об этом писал и Ленин. Он предупреждал, что «мы кончили одну полосу войн, мы должны готовиться ко второй… и нужно сделать так, чтобы тогда, когда она придет, мы могли быть на высоте» (ПСС, т.42, с.143-144).
На заседании Военно-научного общества в 1925 году нарком обороны М.В. Фрунзе подчеркивал: «Это не будет столкновение из-за пустяков, могущих найти быстрое разрешение. Нет, это будет война двух различных, исключающих друг друга общественно-политических и экономических систем». И хотя Фрунзе имел в виду капитализм и социализм как таковой, но схватка между нацисткой Германией и СССР получилась именно по формуле наркома. А война не «из-за пустяков» означало войну на истощение до уничтожения одной из сторон. И ничего нового в этом не было: по этой парадигме велась и Первая мировая война.
Но что нам рано умершие Фрунзе с Лениным? Может, другие оценивали складывающуюся международную ситуацию иначе? Нет, мнение было широко распространенным. Дальновидные люди были не только в Советском Союзе. Запах пороха ощущали даже в далекой Америке. Вот характерные строки из воспоминаний Д. Эйзенхауэра «Крестовый поход в Европу»:
«Начиная с 1931 года, многие старшие армейские офицеры часто высказывали мне свое убеждение, что мир идет прямо к новой глобальной войне. Я разделял эти взгляды».
И таких свидетельств множество. Тогда возникал следующий по очевидности вопрос: если будущая война неизбежна и будет вестись до уничтожения одной из противоборствующих сторон, то какие меры надобно предпринять?
В вышедшей в 1934 г. статье «Характер пограничных операций» видный военачальник РККА М.Н. Тухачевский писал: «Утешать себя тем, что наши возможные противники медленно перестраиваются по-новому, не следует. Противник может перестроиться внезапно и неожиданно. Лучше самим предупредить врагов. Лучше поменьше делать ошибок, чем на ошибках учиться» (54.Тухачевский, т.2, с.221).
Тухачевский оказался совершенно прав. Именно такой качественный скачок вскоре совершила германская армия.
Итак, никаких иллюзий на «прочный» Версальский мир в Советском Союзе не существовало. Зато была твердая уверенность, что СССР не сможет остаться в стороне, хотя то был период, когда надо было спокойно заниматься индустриализацией и культурным строительством. Советское руководство могло с полным основанием подобно Столыпину воскликнуть: «Дайте нам 20 лет спокойного развития…». Да, с учетом размаха индустриализации, сложности предстоящих задач Советскому Союзу влазить в войну было совершенно нецелесообразно и уж тем более строить планы «завоевания Европы». Можно в чем угодно обвинять тогдашних большевиков (в жестокости, в идеализме – коммунизм хотели построить!), но только не в политической и военной дурости. У них была другая логика поведения. Это логика международных процессов, которая указывала на приближение бури. Оставалось понять, какой будет новая Большая война и как к ней готовиться? Тут сложностей хватало.
Во-первых, долго не удавалось определить состав участников будущей коалиции, с которой столкнется Советский Союз. Несомненно – после захвата Маньчжурии – это будет Япония. Поэтому на Дальнем Востоке был сформирован – в мирное время! – Дальневосточный фронт. На Западе в качестве потенциальных противников рассматривались Польша, Прибалтийские государства, Румыния и их союзники – Англия и Франция. С приходом к власти Гитлера стали рассматривать комбинацию «Германия-Польша».
Тогдашнюю международную ситуацию для наглядности можно сравнить с современной. Ныне хватает политологов и экономистов, в том числе с громкими именами, которые заявляют, что капитализму не выбраться из системного кризиса без масштабной войны (как это произошло со Второй мировой войной). Но кто ее начнет и с кем, и кто присоединится позже – вопрос открытый. А ведь на дворе ядерная эра, что, безусловно, служит сдерживающим фактором. А тогда главным препятствием была нехватка боевой техники у потенциальных агрессоров. И что этот пробел они постараются ликвидировать как можно скорей, сомнений не вызывало.
1939 год все расставил по своим местам. Стало окончательно ясно, кто, разделившись на блоки, с кем будет воевать до победного конца. Правда, в стороне оставался Советский Союз но и с ним было ясно – соглашение с Германией – дело временное…
Кстати, в такой неясности не было ничего принципиально нового. Достаточно посмотреть историю войн былых времен, например, эпохи феодализма. Какие только комбинации ни возникали: сначала одни воевали с другими, а через несколько лет прежний союзник бился с прежним другом (в 1740 г. Франция воевала в союзе с Пруссией против Австрии, а в 1756 г. против Пруссии в союзе с Австрией). Все участники боролись за свои интересы, и если их достижение делало выгодным переход в противоположный лагерь, то он совершался с чистой совестью. 1930-е годы не стали исключением. Договора «о дружбе и не нападении» кто только с кем ни заключал. Германия, например, подписала их с Польшей и Норвегией, что не помешало затем напасть на них. Франция имела союзный договор с Чехословакией, что не помешало предать ее, как только французская правящая элита посчитала, что так выгоднее. Версальский договор гарантировал независимость Австрии, что не стало препятствием к поглощению ее Германией. И так далее. В этой ситуации быть уверенным наверняка в чьей-то «незыблемой» позиции не представлялось возможным. Ясным оставалось лишь одно: запутанные противоречия в политике, экономике, финансах, территориальных спорах будут разрешены тем же путем, каким распутывается «гордиев узел» – через меч.
В этой связи стоит коснуться вопроса о договоре 1939 года между Германией и СССР. Ведь он, как и Мюнхенское соглашение о разделе Чехословакии, является одним из моментов, предшествующих началу Второй мировой войны.
У критиков договора получается – не заключи Сталин соглашение, то Гитлеру пришлось бы пусть с огорчением, но перевести рейх на мирные рельсы. Понятно, что такой вывод – форменная чепуха. Куда интереснее вопрос о том, почему Гитлер, нацелившись на следующую жертву – Польшу, взялся обхаживать Москву? Потому что понимал: Кремлю не понравится, если германские войска окажутся в 200-300 километрах от Минска и Киева, а его бомбардировщики будут способны достичь Москвы. Это наверняка сделает Советский Союз союзником Англии и Франции. Поэтому в качестве промежуточного шага Гитлер предложил Москве следующий вариант: вы берете свое, а нам оставляете Европу.
Что значит «свое»? Критики договора пишут про «раздел Польши», «захват Бессарабии», «аннексию Прибалтики». Им не понятно, почему Сталин не поступил, как англо-французские политики в Мюнхене, а стал бороться, – не отдавать, как это было в 1991 году в Беловежской Пуще, а брать. Критики делают вид, будто не знают о том, что восточные «польские земли» до сих пор входят в состав Украины, Белоруссии и Литвы, и никто ни там, ни, что показательно, в Польше не считает их «законными польскими территориями». Это и понятно. Достаточно посмотреть карту восточной Европы X века, чтобы убедиться, что с момента образования двух государств – Руси и Польши – границы между ними пролегали примерно там, где сейчас и где пролегли после 17 сентября 1939 года.
По договору СССР получал то, что Польше не принадлежало, ибо захваченные в 1920 году области, являлись исконно литовскими, белорусскими и украинскими землями. Литве, Белоруссии и Украине они сразу же и были переданы.
Что касается Бессарабии, то она была отвоевана Россией у Турции в 1812 году, когда Румыния как государство не значилась даже в проекте. Оное появилось лишь полвека спустя, и ее независимость была провозглашена в ходе начавшейся русско-турецкой войны 1877-78 годов. Так что Москва опять же брала не чужое. Да и за какие заслуги она должна была дарить Молдавию недружественному государству? «Благословленные» времена Беловежской пущи еще не наступили.
А Прибалтика входила в состав Российской империи с XVIII века 200 лет, и когда стал решаться вопрос под чей контроль – Германии или СССР – она перейдет, то Москва обоснованно выдвинула свои притязания. И Берлин вынужден был уступить.
Та же история с Карелией и Карельским перешейком. Опять же любопытствующие могут взглянуть на карту Великого Новгорода времен Киевской Руси, чтобы убедиться, кому принадлежали эти земли, когда не было не только государства Финляндия (оно появилось, благодаря России, сначала в виде Великого княжества Финляндского, а потом – с благословления Ленина, как независимое государство), но еще не сложился сам финский народ.
Таким образом, соглашение между СССР и Германией в 1939 году базировалось на исторических границах и исторических прецедентах, поэтому с точки зрения международного права было вполне законным. Что и подтвердили США и Великобритания на Потсдамской конференции.
Итак, германская сторона предложила СССР выйти на былые границы российского государства и объединить западные части Украины и Белоруссии с восточными. Предложение было заманчивым, хоть для красного правителя, хоть для белого. От такого «раздела» не отказались бы и современные литовское, украинское и белорусское правительства, сохранись у них границы с Польшей 1938 года. (Можно себе представить, насколько сложными были бы современные отношения Литвы, Украины и Белоруссии с Польшей, если б последняя удержала Вильнюс, Брест и Львов.) Это сейчас многие умы не понимают, чем плохи границы России под Смоленском и Ростовым, а тогда мозги были еще устроены иначе, и не только у большевистских «агрессоров». Тогда влияние деградантов на общество и политику было нулевым, и любой белоэмигрант был согласен с возвращением границ государства на свои исторические рубежи.
Проблема была в другом: Гитлер должен был получить в обмен свободу рук в Европе. Отвечало ли это стратегическим интересам СССР? С этого пункта и должен, в сущности, начинаться спор серьезных историков и политологов.
Переговоры с военными делегациями Франции и Англии летом 1939 года ясно показали – на серьезный союз Москве с Парижем и Лондоном рассчитывать не приходится. Последние явно хотели столкнуть лбами СССР с Германией и отсидеться, подобно тому, как они пытались это сделать во время «странной войны», наблюдая, как немцы чехвостят Польшу. Тем самым возникал вопрос: начинать ли СССР войну с Германией и, возможно, с Японией (на Халхин-Голе в это время шли бои с японской армией) или выждать? Сталин решил обождать и посмотреть, как будут разворачиваться дальнейшие события. Более того, судя по проведенным границам с львовским и белостокским выступами, заранее были подготовлены позиции для наступления на Германию. То есть, вопрос воевать с фашизмом или нет, не стоял. Просто Сталин понял, что с существующими правительствами Англии и Франции, а тем более Польши, каши не сваришь, и надо действовать самостоятельно и жить своим умом.
Позиция критиков пакта противоположна: надо было продолжать вымаливать союз у Лондона и Парижа. Потом «сердечный» союз с западными державами пытались заключить Горбачев и Ельцин. Показательно, что, несмотря на сделанные гигантские уступки, им это тоже не удалось.
Поняв ситуацию, Сталин предоставил Англии и Франции то, чего они сильно боялись и потому проводили капитулянтскую политику «умиротворения» Германия – повоевать с ней!
Позиция критиков пакта: это очень плохо, вот если б наоборот… Причем их особо огорчает подозрение, что Сталин был готов получить односторонние преимущества для советского государства. Когда США получили их в 1944 году, вынудив обессиленных союзников признать доллар мировой резервной валютой, это понятно – Вашингтону нужно было. Но как смели о своих выгодах мечтать в Кремле!… Безусловно, Россия может быть расходным материалом для других государств, а также той коровой (как в наше время), которая обеспечивает «молоком» всех желающих. (Пора орла в гербе заменить на это домашнее животное, как наиболее отвечающее реалиям). Что поделаешь, иногда в этой желанной для иных умов системе бывали сбои…
Сталина можно поддержать в решении заключить сепаратное соглашение с Германией, подобно тому, как менее года назад это сделали Чемберлен и Даладье, а можно осудить, доказывая, что Красная Армия была в тот момент способна разбить Вермахт. И каждый будет прав по-своему. Зная, чем все обернулось, возможно, и сам Сталин, вернувшись на машине времени из будущего, принял бы в августе 1939 года иное решение. Тем более, когда выяснилось, что Япония воевать с СССР не собиралась. Но логика в его действиях была, логика четкая и обоснованная. Сталин предпочел синицу в руках туманным перспективам победоносной войны с Германией (и Японией) в союзе с державами, предавшими Чехословакию, а затем польскую армию. Кто считает, что он на месте Сталина мог поступить умнее и найти более оптимальный вариант при том объеме информации, чем располагал тогда Кремль, может резонно выдвигать свою кандидатуру на пост президента России.