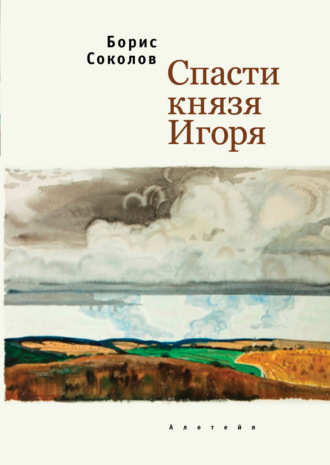
Борис Соколов
Спасти князя Игоря
Витька шел понурившись – чувствуя себя передо мной виноватым. Я легонько толкнул его локтем в бок:
– О руска земле! Уже за шеломянем еси!
Он кисло улыбнулся.
Весь фокус был в том, что учитель живо напомнил нам обоим, что шутить он вовсе не собирался и ждет результата от наших занятий.
А дело было так. Митрофан Николаевич урок начал прямо с Витьки и, конечно, тут же понял, что всё на том же месте, как было. Учитель спросил у него, занимались ли мы (ха-ха! знал бы он чем…) – и тот соврал не моргнув глазом.
– Хорошо, – вздохнул он. – Думаю, нечестно было бы с моей стороны не выполнять условия нашего договора.
И против наших фамилий в журнале появились двойки.
Весь класс, конечно, веселился по поводу таких дел, но мы с Витькой держались. Мы были теперь вроде знающих свое дело заговорщиков. Тяжело было только видеть смеющиеся черные глаза Оксаны. «Ничего, – говорил я себе, – мы еще поглядим, чья возьмет!»
Когда мы добрались до места, я нарочно сел спиной к гармошке, чтоб не было соблазна. А как за дело приняться – я и понятия не имел. Подумав, решил по свежим следам начать со «Слова…» и попросил Витьку прочитать вслух страничку. Он читал, запинаясь, а я иногда поправлял его, заглядывая через плечо. Когда выяснилось, что пересказать прочитанное он толком не может, я подсунул ему в помощь учебник. Домучив отрывок и даже вспотев от усилий, он закрыл книгу, подумал с минуту и начал:
– Половцы – это были враги русские…
И замолк, испугавшись, что я стану смеяться. И опять стал искать чего-то в учебнике.
– Постой, – сказал я, – вот ты когда чего рассказываешь, ты представляешь себе?.. Ну, думаешь о… о том, допустим, что значит каждое слово?
– Не знаю…
– Как это так – не знаешь?
– А рассказываю – и всё. Чего тут думать?..
– Да как же тогда ты книжки читаешь?
Витька просиял лицом.
– Ну-у… Книжки! То другое дело…
– Почему?
– Та интересно же!
– Ну ладно, можно из книжек. А ну, давай, расскажи чего-нибудь. Ты же говорил, что читал «Остров сокровищ»?..
На губах его заиграла хитроватая улыбка, и глаза заблестели.
– То ж другое дело.
И без всякого перехода, понизив голос, он забормотал: «Этот доктор – чего он понимает в моряках? Бывал я в странах, где жарко, как в кипящей смоле. Там люди так и падали от Желтого Джека, а от землетрясений на суше была качка как на море. И я жил только ромом, да! Ром для меня был и мясом, и водой, и женой, и другом…».
Я припомнил: кажется, он сейчас рассказывает о том, как капитан ждет роковую «черную метку». И удивился. До чего гладко – уж не наизусть ли он шпарит? Слегка смущаясь, опустив глаза, скороговоркой и почти без запинки Витька выкладывал фразу за фразой. Заприметив, я взял с тумбочки совершенно затрепанную книгу Стивенсона, нашел нужное место… и был поражен – он пересказывал текст почти слово в слово!
– Послушай… Ты что же – учил наизусть?
– Та не… Читал много раз, интересно…
– А история князя Игоря, выходит, неинтересна?
Витька кивнул.
Тут к нам заглянула старуха-хозяйка. И не в первый раз уж так: станет в дверях и скажет с улыбкой:
– Всё учитесь? Вот молодцы…
– Знаешь что? – сказал я Витьке. – У меня есть и другие книги. Пойдем-ка теперь к нам в гости.
У меня дома уже всё знали, и мама Витьку встретила как желанного гостя, отчего тот порозовел да так и сидел с нами за едой красный.
Узнала-то мама обо всей истории, естественно, от Ленки, у которой хватило выдержки всего лишь на один день. До чего ж у девчонок язык накрепко связан с глазами и ушами! Про записку-то она, конечно, умолчала, зато историю, похоже, изложила во всех подробностях. Я сразу заметил, когда это случилось: мама вдруг перестала спрашивать меня о школьных делах. По всему видно было, что родители устроили меж собой этакое тайное совещание. Чего они говорили там обо мне – не знаю, но даже синяк мой под глазом поминать перестали. Меня даже смех разобрал и я уж было хотел сказать Ленке спасибо, да во-время спохватился – не дай Бог! Похвали ее только – она такую деятельность разовьет…
После еды мы устроились за моим столом и на этот раз я сам читал Витьке отрывок.
«Широкой рекой разлились по Руси пожары, разрушения и смерть. Страшная монгольская орда из далекой степной Азии налетела… Киев, Канев, Переяслав – пали и были разорены до основания… Бату-хан, прозванный Батыем, шел во главе своей стотысячной орды, гоня перед собою вчетверо больше разных пленников, которые должны были биться за него в первых рядах, – шел по русской земле, широко распуская по ней свои отряды и ступая по колено в крови…»
Я нарочно выбрал «Захара Беркута» – тема была близкой к недавнему уроку – и Витька клюнул на приманку. Он забрал книгу с собой и назавтра принес ее в школу. Я удивился такой скорости.
– Не понравилась, что ли?
– Что ты! Интересно! А можно еще чево-нибудь?
– Да эту-то когда ж ты читал?
– А ночью.
– И хозяйка тебе разрешила жечь свет?
– Та не… Я с фонариком.
Я восхитился – ай да Витька!
– Ладно. Книжку я тебе дам другую, но возьми на заметку, что в тогдашних битвах главными были кони. Ты сам-то верхом ездил?
– А то как же! Былó в ночное мы водили коней – ого!
– Ну тогда всё поймешь, тебе легко будет.
После уроков мы завернули ко мне домой, и я, не показав ему названия, раскрыл книгу и нашел то место, которое я сам отметил:
«С раннего утра до вечера, с вечера до света летят стрелы каленые, гремят сабли о шлемы, трещат копья булатные в поле незнаемом…»
– Что за книжка? – не выдержал Витька. – Вроде как что-то знакомое. Дай почитать…
И осекся, когда я показал ему знакомую обложку.
Еще не раз ходил я на эту, уже чем-то понравившуюся мне улочку на окраине. Кроме основной задачи, мы находили время для общения с гармошкой. И, надо сказать, учеником по музыкальной части я оказался малоспособным. Зато занятия наши литературой сдвинулись с мертвой точки, это было заметно уже по живому блеску глаз моего подопечного.
Через неделю мы оба заработали первую четверку – оценку, которая – как мы все успели уже убедиться – у нового учителя была очень даже серьезной, без дураков. Это была победа. А ночью мне приснился удивительный сон.
По сумеречной степи низко стлался дым костров – степняки к ночи стали лагерем. Я скакал на коне, опасаясь погони. И я знал: при случайной встрече с кочевниками мне не сдобровать – и меч мой, и щит были деревянные. Рядом, не отставая, мчался Логинов, у него совсем не было никакого оружия, но на широком ремне, переброшенном через грудь, подпрыгивала на скаку гармошка. Мы неслись во весь опор – надо было успеть предупредить князя.
Железная птица
За деревней садилось распалившееся за жаркий день солнце, краем оно задевало распущенные косы ивы за хатой – и узкие листочки тлели на его большой круглой сковороде. Дневная духота ещё висела в неподвижном воздухе, и одинокое «Карр!.». пролетевшей вороны было таким скрипучим, будто у неё напрочь пересохло в горле.
Алёшка выбежал из ворот встречать стадо. Отсюда – от середины холма – на левую сторону вниз по склону видно было, как, тесно прилепившись друг к дружке, кривенькой широкой улицей, точно в строю, толпились, выглядывали одна из-за другой хаты, торчали соломенные крыши. И у ворот и калиток виднелись бабы и ребятишки, как по уговору следившие за краем деревни.
Тимоша, соседский пацан, скакал по дороге, волоча за собой палку. Лежалая пыль раздавалась под ней, взвиваясь в застоявшийся воздух мутным облачком.
Алёшка тоже вышел на дорогу – и его порепавшиеся, в цыпках, ступни погрузились в слой тёплой, бархатистой пыли. Коже было приятно и нежарко. За целый день пыль вобрала в себя тепло солнца и теперь не спешила отдавать его в начавший уже остывать воздух, мягко обволакивая задубевшие ступни. Он двинулся вдоль по дороге, шаркая, не отрывая от земли подошв – пыль обтекала их с боков двумя серыми ручьями, клубилась, оседала и застывала, оставляя позади две волнистые припорошённые борозды.
Между делом Алёшка подумывал о завтрашнем празднике, который устроят на горе за кладбищем. От Тимоши он узнал, что с утра там будет играть духовой оркестр, а ещё прилетит ироплан – он сказал, что это такая из себя больщая железная птица. Ужасно хочется хоть одним глазком глянуть – да нельзя: завтра в заутрене его с отцом ждёт пение в хоре.
Из-под горы уже слыхать мычание – разноголосое: густое и тонкое, – блеянье, щёлканье кнута. Там плывёт большое облако пыли – и вот уже видать головы передних коров и как они сворачивают к своим дворам: то одна, то другая – по очереди.
Алёшка нарочно убегает к воротам, прячется. От приблизившегося стада отделяется корова, вся в рыжих пятнах, с крутыми рогами. Ей тяжело нести набрякшее вымя, но она ускоряет шаг, вот-вот побежит, ищет глазами Алёшку и, не найдя, вытянув шею, обиженно и громко мычит. Не устояв, он выскакивает из укрытия – и она, переваливаясь, тяжёлой трусцой устремляется к нему. Он протягивает ей посыпанный солью ломоть чёрного хлеба, она берёт его шершавым языком, жуёт, тычется мокрой мордой в ладони, прося ещё. Алёшка плечом подталкивает её к воротам…
Начинало смеркаться, когда прибежал посыльный – Гришатка, сын старосты, с известием: Алёшку звали на конюшню.
– Никак опять на всю ночь-то, сынок? – озаботясь, спросила мать.
– Почём я знаю, маманя… – степенно ответил он, а меж тем душа его пела от радости. Просто так на конюшню не вызовут: видать, надобно ехать куда ни то… а уж, ежли повезёт… глядишь, дадут запрячь Матрёну… ежли нет – на худой конец хоть выпадет повидаться с ней.
Когда в Ольшанке налаживали коммуну и по селу собирали в неё общее тягло, пришлось отдать туда молодую кобылу – с той поры все стали переживать за неё, как за члена семьи, который оказался в чужих людях. Алёшка думал, что он скучает по ней больше всех: она и выросла-то на его глазах – и в ночное, бывало, выводил её только он.
Алёшка подрядился на подмогу к конюху в прошлом годе – как раз когда Матрёну со двора взяли. Придумал эту затею дедушка Аггей, сильно по ней зажалковавший.
– Нехай, нехай ездиить… – ворчливо оборвал дед возразившего было отца. – Ты, Лексей, тама скажи, што на своёй лошади кучерить жалаишь.
– Была она своя… – горестно вставила мать.
– Замолкни, не перечь почём зря! – цыкнул на невестку дед. – Вон оне тама свово не берягуть, нешто чужова им жалко? Хто за неё радеть-то будя? Доглядай за Матрёнкой как след, а на случай чего – не гони шибко, понял? – сказал он Алёшке. – Она ить тама у них – што в плену теперя…
Торопясь, помня наставления деда, Алёшка наскоро выпил молока с хлебом, сунул босые ноги в стоптанные, но ещё крепкие, братнины башмаки и выскочил наружу.
После тёплой хаты разом обдало прохладой – как из сырого погреба. Там, за церковной колокольней, тучи, закрывшие полнеба, отливали густой, почти чёрной, синевой – от одного вида их сделалось зябко. «Гляди, никак на дождь потянуло? А ну – как накроет в дороге?» – с тревогой подумал он, воротился в сенцы, прихватил рогожу и снова выбежал из хаты.
Опустившаяся на двор тишина нарушалась лишь отдельными негромкими звуками. В курятнике куры полусонно вели свою вечернюю перекличку или, может, делились переживаниями ушедшего дня. Слышно, как в хлеву размеренно жуёт жвачку корова, да где-то под воротами звонко заливается сверчок. В окружающем мире всё затихало, готовилось ко сну – а тут, видать, в ночь надобно ехать куда-нибудь.
Радость в душе его мешалась со страхом: вон его лежанка-то на печи так и будет пустовать, а он как раз будет на козлах трястись во тьме по степи, где по ночам, бывает, шатаются лихие люди и останавливают подводы.
Войско атамана Антонова окончательно было разбито, в селе снова установилась власть Ревкома. Слыхать было, что сам атаман не был пойман, скрывался в лесах, а кое-где оставшиеся его летучие отряды в несколько верховых носились по ночам в степи, днём же – как проваливались сквозь землю.
Алёшка помнил, как прошлым летом наведалась в Ольшанку атаманша Маруська. Людская молва летит по земле скорее самой быстрой тройки, и слух о делах атаманши бежал впереди носившейся по дорогам её разношёрстной шайки. Говорили в народе, что в ближней волости среди бела дня был до смерти зарублен местный председатель комбеда и что расправой командовала сама Маруська.
В тот раз удалось Алёшке подглядеть, как влетела в село лихая тачанка с бубенцами: смелая до отчаянности, Маруська не таилась, любила, чтоб далеко было слышно, как она едет. Неслись кони, бешено крутились колёса… вытянув шеи, выбрасывая вперёд голенастые ноги, с истошным криком бросались врассыпную ополоумевшие от страха куры; отставала, клубами вихрилась сзади пыль навстречу всадникам – её охране. Атаманша – в красных гусарских рейтузах, с маузером на боку, в кубанке набекрень, – небрежно развалясь, полулежала на мягком сидении, держа в крепких зубах длинную заморскую папиросу.
Яростным осенним огнём полыхали её очи – и клонились дὁлу головы случившихся поблизости мужиков, молодых и матёрых, упирались глаза их в серую пыль под ногами.
Алёшку словно обдало всего холодным ветром, когда глянули в его сторону жёлтые глаза красавицы – было жутко до озноба, но и сладко отчего-то: то ли оттого, что взгляд её скользнул дальше, то ли – что она глянула и на него, шкета, торчавшего сбоку дороги возле деда Аггея, который один не нагнул головы, не упрятал взгляда и в сердцах плюнул себе под ноги.
– Баба! Подстилка дырявая, прости Господи… Портки с лампасами напялила, побрякушки нацепила, а все уж и напужались. Эх вы, ерои…
Рыжебородый Платон, сосед, метнул глазами в деда, ощерился:
– Ну, уж ты, дед, храбёр… ха-ха… когда она проехала.
– Вὁна, дурень… Мне што? О душе подумать надобно, а не в драку лезть. А в твои-то годы, Платоша, я на турка ходил…
Платон покраснел, рукой махнул.
– На турка! – повторил он в досаде. – От удумал, дед. То война, а тут свои почище твово турка… Ей, Маруське, всё ништо. Дурья кровь в ей ходить, кипить. Ей што жись, што не жись – едино всё… вожжа под хвост – конец свету белому. Допреж чем самой загинуть, она не одну душу живую сгубит. А нам землю пахать надоть да детишек рὁстить…
Теперь та история с атаманшей вспомнилась как что-то ушедшее, которое воротиться уже никак не может. Он сам перед собой гордился, что ему доверяют такое мужское дело. Вот уже которую ночь почти вся деревня, и отец, и старшие братья Алёшки, и даже дед проводят в поле – началась косьба хлеба. А он теперь вместо кучера, он и дома за хозяина, даром что ему двенадцать лет. Что до тех, кто по степи шастает, то втайне он был уверен – они его не тронут, он им ничего не сделал. Да и те, кого он, бывало, возил, не садились к нему по одному и всегда были с наганами.
На конюшне его ждала удача: кроме Матрёны там отдыхал один только старый мерин, на котором возили воду, – а конюх сказал, что надо отвезти в Александровку (до неё было 18 вёрст) ветеринара. Матрёна радостно фыркнула Алёшке в лицо, ткнулась ему в плечо мордой, жадно вдыхая знакомый запах вздрагивающими ноздрями. «Признала… ах ты, рыжая». – пробормотал он, выводя лошадь из стойла. На дворе он подвёл Матрёну к единственному на всю деревню тарантасу, который держали для особых случаев. Лошадь так разволновалась, что слишком резво попятилась в оглобли, налетев на козлы.
– Ну-ну, анчутка! Застоялась, очумела от радости. – Он пошлёпал ладонью по тугой шее кобылы. – Небось с чужим-то не так уж в охотку тащиться куда ни то на ночь глядя… А уж мы с тобой поладим.
Запрягая, Алёшка задирал голову – небо всё больше затягивалось наползавшей хмарью. Намотав супонь на руку, поднатужась, собрав все силы, стянул концы хомута, закрепил. Кося глазом, Матрена ждала, нетерпеливо переступая копытами.
Наконец тронулись со двора. В тарантасе-то ехать хорошо – куда лучше, чем в телеге: не так трясёт да и скорее. И на козлах восседаешь как настоящий кучер. Важничая на виду повстречавшихся баб, Алёшка прогнал по проулку и лихо подкатил к коровнику. У задней его стены горой темнела туша племенного быка. Ещё недавно он видел этого бугая на выпасе, на него было боязно глядеть – до того он был огромный и свирепый с виду. А теперь вот он лежит мёртвый; рядом, понурившись, стоят оба пастуха, притихшие бабы… Ветеринар напоследок повторил мужикам, чтоб не сомневались – бык пал от сибирской язвы, а с ней шутки плохи: надо всё облить карболкой, а тушу закопать. И бросил Алёшке: «Поехали!». Когда он сел, Алёшка развернулся и выправил на дорогу. Сердце его на секунду обдало холодком страха перед тем, что их ждёт впереди. «Глядь, и впрямь один… И нагана не видать. Дела-а-а… Ну-к встренут?»
Заметно темнело. Хмурая наволочь уже застила полнеба. По-вечернему лениво, с прохладцей, брехали собаки. Проплывали мимо хаты. И почти из каждой лился ещё бледный свет керосиновых ламп, освещая то цветы в палисаднике, то стёжку к воротам, то кусок плетня.
Седок молчал. Человек он был пришлый, городской, жил теперь в Александровке, на постое. Алёшка робел перед ним и словно всей спиной своей чуял его присутствие.
Оставив позади деревню, выехали на гору. Алёшка оглянулся. Внизу среди тёмных пятен деревьев, хат дрожала горстка слабых огней, словно стайка жёлтых бабочек слетелась на ночлег в низину – там в теплых хатах все приготавливаются ко сну. И теперь уж с поля воротились дедушка, отец, братья, чтобы завтра, в воскресенье, побыть дома. Вот, усталые, топают они по крыльцу, входят в сенцы, сбрасывают серые от пота и пыли рубахи, идут в горницу, умываются. Отец, наклонясь над тазом, фыркает, плещет водой в лицо, на грудь, на шею, разделённую тёмной полосой загара и совсем белой кожи. Мать стоит рядом, подаёт и убирает мыло, потом поливает чистой водой из корца… И улыбается довольной улыбкой. Отец берёт у неё полотенце – с рыжей бороды капает на пол вода…
Так-то вот в такой же вечер на прошлой неделе отец спросил, вытираясь:
– Ну, мать, сказывай, как тут без нас Лексей хозяйствовал.
У Алёшки радостно прыгнуло сердце оттого, что отец о нём спрашивает, как о хозяине. Но он тут же отвернулся от отцовского взгляда – он не забыл как весной отец выпорол его супонью. Попало ему за то, что забыл вовремя закрыть крышку над погребом. Туда свалилась свинья, переломала ноги и её пришлось до срока зарезать. Случилось это вовремя поста. А тут ему как раз надо было петь в церкви.
Стоял он тогда в первом ряду хора. Внизу голос батюшки гудел, густой, низкий звук вытекал из его толстых губ, ширился, растекался по церкви – где-то в оконце позванивало стекло. Высокие, звонкие голоса хора возносились с клироса кверху, под своды, и там замирали – тонко, щемяще. Алёшке в тот раз нехватало голоса – он не мог вдохнуть полной грудью, потому что болела спина, и приходилось делать вид, что поёт во всю мочь…
Он опамятовался, огляделся. Наверху небо уже напрочь закрылось тяжёлыми тучами. По левую сторону – там, где село солнце, – ещё держалось желтоватое сияние, а небо над ним уже было тёмным. Справа было непроглядно, мрачно – ни звёздочки, оттуда ползли тучи, дышало холодом. Там раз за разом вспыхивало и погрохатывало глухо, как будто ворчливо. А впереди, над дугой, влажно подмигивала чистая голубая звезда.
– Давай скорей, что ль… Не то гроза накроет. Вишь заходит, – послышался за спиной глуховатый голос.
Алёшка причмокнул губами, дернул вожжи – и Матрёна пустилась рысцой, кивая головой и косясь глазом на правую сторону. Он видел, как она чутко прядёт ушами и как звёздным светом отсвечивает её глаз. Он обернулся на врача. Тот дремал, прислонясь к боковине кузова, свесив покачивающуюся голову. Алёшка заёрзал на козлах и снова передёрнул вожжами.
Проехали мимо кладбища, выехали на большак. Становилось совсем темно. При сполохе в бледном далёком свете из темени на миг выхватывалась дорога, Матрёна и его, Алёшкины, руки, державшие вожжи. После вспышки тьма, проглатывавшая всё вокруг, казалась ещё непрогляднее, и с ней – будто стая невидимых летучих мышей – слетались к нему ребячьи его страхи (словно нечистый невесть чего нашёптывал ему на ухо).
Но вот снова пробегала по облакам нестрашная, без грома, зарница – и даль распахивалась перед глазами: далеко вперёд виден был пустой большак и вместе с ним убегавшие в степь столбы с проводами. От картины этой, особенно от вида столбов, которые поставлены, чтоб соединять людей меж собой, на душе становилось легче. И под мерный, глухой стук копыт по дороге и тарахтение колёс Алёшка успокаивался, сам себе усмехался. Мысли его потихоньку поворачивали в завтрашний день к намечавшемуся празднику. Тимоша хвастал, что всем можно будет глядеть на ту железную птицу – и даже её потрогать. Вспомнив об этом, Алёшка снова огорчился оттого, что ему-то вряд ли удастся побывать при этом – тут он даже позабыл понукать лошадь.
Но Матрёна чуяла надвигавшуюся грозу и неслась во всю прыть. И ветврач проснулся, кашлял сзади скрипучим голосом. Всё ближе посвёркивали молнии и уже докатывались раскаты грома.
Показались редкие огни Александровки. Когда оставалось лишь въехать в улицу и повернуть направо, совсем неподалёку, за ближней хатой, кривая огненная змея, сорвавшись с неба, скользнула в землю – Алёшку ослепила вспышка, он сжался, вобрал голову в плечи, прикрылся руками. Тут же оглушающе грянул удар грома. Его грохочущие перекаты прокатились, казалось, по спине лошади, по повозке и глухо затерялись в степи, ушли в землю.
Но вот, наконец, и двор. Сторож отворил ворота и Алёшка, не останавливаясь, заехал под навес. Ветеринар сошел вниз, что-то сказал старику и ушёл в дом. Там ещё не ложились – ждали постояльца – в окнах горел свет. Матрёна, повернув голову, смотрела в сторону ворот, где суетился дед.
Алёшку забрали сомнения – может, он успеет обратно, домой? Что кто-то может повстречать его в пути – о том он и думать забыл, в мыслях его теперь была лишь заходящая гроза. Сторож словно прочитал его мысли.
– В обрáт неможно таперя – куды там! Роспрягай кобылу, пострел. Ды отвяди её вон туды, к кормушке! – кричал тонким голосом дед, шаркая по земле и запирая ворота.
Алёшка соскочил с козел, подошёл к лошади. Матрёна шумно вздохнула. Пахло сеном. Жёлтая полоса света достигала навеса, и было тихо здесь, громыхало где-то далеко. Пришёл дед, помог распрячь, отвёл лошадь, воротился и ухватил его за рукав.
– Подём в хату.
– Не… – упёрся Алёшка.
– Эка, чудной… Сожрут тя, что ль?
– Не пойду я. – Он упрямо высвободил руку.
– Ишь ты, гордец какой. Ну, погоди.
Старик кряхтя поднялся по ступенькам, прошёл в хату – и тут же воротился, принеся кринку с молоком, пару холодных картошин в мундире, головку лука и горбушку хлеба.
– Давай, оголец, лопай.
Алёшка застеснялся, выдавил:
– Не хὁчу я…
– Ну, будя, будя, – осерчал дед. – Дают – бери… Нешто можно не емши?
Он опять удалился и на этот раз принёс свой зипун.
– Не хошь в хате, ночуй здеся – на сене.
Когда дед ушёл, Алёшка расположился на сеновале: расстелил рогожу и принялся за еду. Хлеб был тёплый, его корка хрустела, поскрипывал на зубах лук, картошка таяла во рту, когда он запивал её молоком.
В хате потух свет, и ему пришлось наощупь шарить руками. По крыше звонко шлёпнула капля, за ней другая, третья – и тут вдруг будто сорвалось, будто кто-то стал сыпать горох на жесть из большого мешка – хлынул ливень.
Алёшка лёг, положил голову на руку. Крыша намокла, шум дождя стал глуше, ровнее. Сверкнула молния, обнажив свесивавшуюся с края крыши частую занавесь из серебристо-голубых нитей, – а на земле уже лужи, ручейки и вода в них кипит, булькает и пузырится. И тут же всё исчезает – снова темень. И слышно только шорох и плеск дождя.
Но вот уже нет ни дождя, ни грома, ни навеса. Вдвоём с Тимофеем они идут через поле, где высокая трава, летают бабочки. Они идут и разговаривают, вспомнили о железной птице. Алёшка удивляется:
– А как это она крыльями махаить?
– Ты чего? – смеётся Тимоша. – Она прямо летит – и всё. Папаня говорил.
– Да она ж упадёт тогда.
– А вот завтрева приходь, сам увидишь.
Они идут дальше и вдруг видят: в небе летит железная птица и машет крыльями. И Алёшка, довольный, кричит Тимоше:
– Во, гляди, говорил я тебе!
И тут огромная и чёрная, как грач, птица стала приближаться, потом снизилась, грохнулась о землю и вдруг кинулась к ним, выбрасывая ноги, неуклюже подпрыгивая и хлопая крыльями – взлетали кверху выдранные клочья травы…
Алёшка аж подпрыгнул на зипуне, тараща глаза в темноту, где всё так же шумел и плескался дождь и где-то рядом хрупала сеном Матрёна. И он, успокоенный, снова повалился на сено и теперь уж крепко заснул бестревожным сном.
Было уже светло, когда он протёр глаза и вышел из-под навеса. Вставало солнце – чистое, золотистое, словно омытое дождём. И в утренней свежести, во влажном воздухе его жёлтое, как лепестки подсолнуха, сияние исходило чуть заметным теплом, похожим на то, какое идёт от только что вынутого из печи каравая. Влажно дышала и парила земля, вдоволь напившаяся дождя. Пахло мокрой травой и сеном, блестели разбросанные по двору зеркальца луж. Небо сияло лёгкой, прозрачной голубизной, словно радовалось, что сбросило на землю тяжёлую ношу туч. Он глядел кругὁм и ему казалось, что донимавшие его вчерашние страхи – да и сама гроза – ему просто приснились. Но откуда же тогда лужи и крупные капли воды на лопухах возле ограды?
Алёшка вздохнул, оторопело переступил с ноги на ногу. Чего это с ним? Что, не видал он, что ли, такого сроду?
Что-то шевелилось в нём – там, внутри… будто какое-то слово просилось наружу да так и замерло, невысказанное. В растерянности он воротился под навес, подошёл к лошади. Матрёна тихонько заржала. Вот же, шельма, домой просится, и хорошее сено ей не впрок – подумал он. И потрепал по холке кобылы. Матрёнин глаз ласково и преданно смотрел на Алёшку.
Обратно, чтобы сократить путь, он поехал по просёлочной дороге. Теперь он уселся на сиденье тарантаса как заправский ездок.
Дорога блестела вся, сверкала, переливалась солнечными зайчиками. Алёшка совсем отпустил вожжи, понукать незачем – Матрёна сама торопилась домой. Колёса скользили, съезжали в наполненные водой колеи, снова выбирались оттуда – тарантас ходил ходуном. Шлёпки грязи летели из-под копыт лошади, словно потревоженные кузнечики из густой травы. А вокруг – одна красота: воздух чист и свеж, трава зелена, вымыта дождём, у самой дороги травинки клонятся под тяжестью крупных капель, вспархивают и уходят в небо перепела – всё радуется, всё улыбается утру и солнышку…
Едва лошадь, пофыркивая, выбралась на большак, как со стороны Ольшанки слабо донёсся тягучий колокольный звон. Звонили к заутрене. Алёшка вполне поспевал домой – ехать оставалось немного. Он вспомнил о празднике, но не с такой жгучей жалью, как это было вчера. Он надеялся, что поедет мимо и, может статься, увидит кой-чего издали.
Когда завиднелись кроны деревьев у кладбища, поодаль он разглядел кучку людей и расслышал прорвавшийся сквозь благовест обрывок музыки. Внезапным приливом поднялось в нём нетерпение, и он погнал лошадь скорее.
И тут он увидел её: на зелёном ковре травы, раскинув крылья, ослепительно сверкая серебром на солнце, стояла железная птица.
Что-то с ним сделалось: зная, что его ждут дома, слыша плывущий надо всем зов колокола, он чуял, как одолевает его греховное желание теперь не ехать домой, и нечаянно искал место, где можно будет повернуть на поле. Но тут проехать нельзя было – обочь дороги тянулась овражина, которая кончалась только перед самым спуском в село. Нетерпение возросло в нём до озноба. Алёшка натянул вожжи – Матрёна неохотно остановилась и недоумённо глянула на него. Он соскочил на дорогу, достиг оврага, почти скатился по склону, оскальзываясь, хватаясь за ветки лозняка, кое-как выбрался наверх, и, заляпанный грязью, но обезумевший от счастья, понёсся по мокрой траве.
Странная, неодолимая сила гнала его вперёд. Она была сильнее колокольного звона, сильнее страха перед совершаемым грехом, перед будущим неминуемым наказанием. Он позабыл обо всём.
Великолепная, сияющая под солнцем, как сама мечта, неумолимо звала к себе железная птица.







