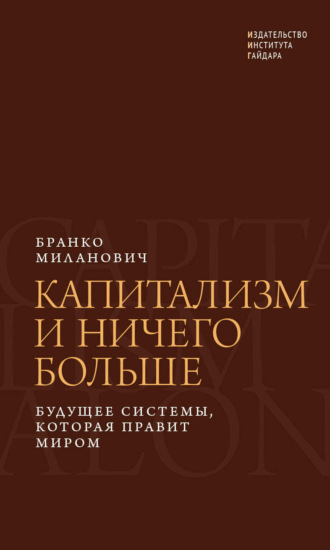
Бранко Миланович
Капитализм и ничего больше. Будущее системы, которая правит миром
2.3 Новая социальная политика
В этом разделе я обсуждаю новую социальную политику в отношении капитала и рабочей силы, а также давление на государство всеобщего благосостояния в условиях глобализации[41].
2.3a Почему для решения проблемы неравенства доходов в XXI веке нельзя использовать инструментарий XX века
Замечательный период сокращения неравенства доходов и накопленного богатства в богатых странах, который длился примерно с конца Второй мировой войны до начала 1980-х годов, зиждился на четырех основах: сильные профсоюзы, массовое образование, высокие налоги и существенные государственные трансферты. Поскольку неравенство доходов начало увеличиваться около сорока лет назад, попытки остановить его дальнейший рост основывались на расширении действия некоторых или всех из этих четырех столпов или, по крайней мере, на призывах к нему. Но в XXI веке такой подход не сработает. В чем тут дело?
Начнем с профсоюзов. Снижение членства в профсоюзах, которое имело место во всех богатых странах и было особенно сильным в частном секторе, является результатом не только враждебной государственной политики. Изменилась и сама организация труда. Переход от производства к услугам и от принудительного присутствия на предприятии или в офисе к удаленной работе привел к увеличению числа относительно небольших рабочих единиц, которые часто физически не находятся в одном месте. Организовать рассредоточенную рабочую силу намного сложнее, чем организовать сотрудников, которые заняты на одном огромном заводе, постоянно взаимодействуют друг с другом, варятся в одной и той же социальной среде и имеют общие интересы в отношении оплаты и условий труда. Кроме того, снижение роли профсоюзов отражает изменение баланса сил между работниками и капиталом в пользу последнего, что связано с массовым расширением пула рабочей силы, работающей в капиталистических системах после окончания холодной войны и реинтеграции Китая в мировую экономику. Хотя последнее событие было разовым потрясением, его последствия будут чувствоваться, по крайней мере, в течение нескольких десятилетий и могут стать даже еще более выраженными из-за будущих высоких темпов роста населения в Африке, что позволит сохранить относительное изобилие рабочей силы.
Обращаясь ко второму столпу, массовому образованию, мы видим, что оно послужило инструментом сокращения неравенства на Западе в тот период, когда среднее количество лет обучения увеличилось с четырех-восьми в 1950-х годах до тринадцати и более сегодня. Это привело к сокращению повышенной оплаты за квалификацию, то есть разрыва в заработной плате между людьми с высшим образованием и без него. Вера в то, что предложение высококвалифицированной рабочей силы останется изобильным, заставила Яна Тинбергена, голландского экономиста, получившего первую Нобелевскую премию по экономическим наукам, предсказать в середине 1970-х годов, что к концу века прибавка за квалификацию снизится почти до нуля и что в гонке между технологиями, требующими все более квалифицированных работников, и их предложением победит последнее[42].
Но дальнейшее массовое расширение образования становится невозможным, когда страна достигает в среднем четырнадцати или пятнадцати лет образования, просто потому, что максимальный уровень образования ограничен сверху. Он не только ограничен количеством лет обучения, но и ограничен даже с точки зрения когнитивного приращения. Когда страна вступает в переходный период от элитарного образования к массовому, как это и произошло в большинстве западных стран во второй половине XX века, приращение знаний, полученное в результате как более длительного, так и более качественного образования, было огромным. Но когда большинство людей учатся в школах и вузах практически столько, сколько пожелают, и узнают столько, сколько захотят или смогут узнать, общества достигают образовательного потолка, который невозможно преодолеть: в конечном итоге в гонке с образованием побеждают технологии. Таким образом, мы не можем рассчитывать на то, что небольшие повышения среднего уровня образования обеспечат то выравнивающее воздействие на заработную плату, которое некогда оказывало массовое образование.
Высокие налоги на текущие доходы и высокие социальные трансферты составляли третий и четвертый столпы сокращения неравенства доходов в XX веке. Но дальнейшее их увеличение сталкивается с политическими сложностями. Основных причин две. В условиях глобализации и большей мобильности капитала и рабочей силы более высокие налоги могут привести к тому, что и капитал, и высококвалифицированные работники покинут страну в поисках юрисдикций с более низкими налогами, и, таким образом, к потере налоговых поступлений для исходной страны[43]. Вторая причина кроется в скептическом отношении к роли государства и политике перераспределения через налоги и трансферты, которое сегодня гораздо более распространено в среднем классе многих богатых стран, чем полвека назад. Не то чтобы люди не понимают, что без высоких налогов системы социального обеспечения, бесплатного образования и современная инфраструктура рухнут. Но они сомневаются, что можно получить существенные выгоды от дополнительного повышения подоходных налогов, и не станут голосовать за такое повышение.
Ограниченные возможности налогов и трансфертов
В качестве иллюстрации того, что можно сделать, используя старые инструменты перераспределения при помощи налогов и трансфертов, и какие проблемы остаются, рассмотрим примеры США и Германии за последние полвека, как показано на рис. 2.5. Сначала посмотрите на графики неравенства рыночных доходов, которые показывают неравенство доходов до вычета налогов и без учета трансфертов. В обеих странах (как и практически во всех богатых странах) неравенство рыночных доходов резко возросло под действием факторов, рассмотренных ранее. В Германии рост был даже более резким, чем в США. Средний график на обеих диаграммах показывает неравенство валовых доходов, то есть уровень неравенства, который имеет место после учета трансфертов (таких как государственные пенсии и социальные пособия), а нижняя линия показывает неравенство располагаемых доходов – после того как приняты во внимание также прямые налоги. Если политики или законодатели хотят обуздать неравенство на уровне располагаемого дохода, они должны либо увеличить налоги и трансферты, либо сделать их более прогрессивными.

РИСУНОК 2.5. Неравенство рыночных, валовых и располагаемых доходов в Соединенных Штатах (1974–2016) и Германии (1978–2015)
Рыночные доходы включают заработную плату и другие выплаты со стороны работодателя, доход от собственности и доход от самозанятости. Валовой доход равен рыночному доходу плюс денежные социальные трансферты, такие как государственные пенсии, пособия по безработице и социальные выплаты (такие как SNAP, ранее известные в США как продовольственные талоны). Располагаемый доход равен валовому доходу за вычетом прямых налогов. Предоставляемые государством натуральные блага (здравоохранение и образование) не включены. Все расчеты сделаны на подушевой основе (то есть Джини рассчитываются по доходу, приходящемуся в среднем на каждого члена домохозяйства).
ИСТОЧНИК ДАННЫХ: Рассчитано на основе данных Люксембургского исследования доходов (https://www.lisdatacenter.org).
Германии почти удалось компенсировать растущее неравенство рыночных доходов; неравенство располагаемых доходов (нижний график) показывает лишь незначительное увеличение с начала 1980-х годов. Это было достигнуто за счет крупных социальных трансфертов (обратите внимание на увеличивающийся разрыв между верхней и средней линиями) и, в меньшей степени, за счет более высокого или прогрессивного налогообложения (разрыв между средней и нижней линией с 1990 года остается примерно одинаковым). Перераспределение доходов в Соединенных Штатах, напротив, стало лишь немного более прогрессивным, так что неравенство располагаемых доходов выросло на такую же величину, что и неравенство рыночных доходов (что видно из параллельного движения верхнего и нижнего графиков). Это сравнение показывает, что политика может сыграть свою роль, но также демонстрирует ее ограниченность. Более высокие трансферты и прямые налоги могут нейтрализовать более глубокое неравенство. Но если изначальное неравенство будет продолжать расти, эта политика столкнется со все более сильным сопротивлением. В какой-то момент старые инструменты перераспределения, вероятно, будут исчерпаны.
Либертарианская утопия маленького государства может быть достигнута только с помощью протокоммунистической политики
Если неравенство будет неизбежно продолжать расти и если старые инструменты, используемые для борьбы с ним, больше не работают, то какие инструменты следует использовать? Здесь нам придется не только нестандартно мыслить, чтобы найти какие-то новые инструменты; нам надо будет поставить перед собой совершенно новую цель: Мы должны стремиться к эгалитарному капитализму, основанному на примерно равном распределении капитала и образования среди населения.
Эта форма капитализма приведет к эгалитарным результатам даже без значительного перераспределения доходов. Если бы у богатых было лишь вдвое большее количество капитала и вдвое больше полезных навыков, чем у бедных, и если бы отдача на единицу капитала и образования была приблизительно равной, тогда общее неравенство не могло бы быть больше чем два к одному. Снова глядя на рис. 2.5, выравнивание обеспеченности капиталом и образованием напрямую повлияет на изначальное рыночное неравенство: оно замедлит и даже повернет вспять рост верхнего графика до такой степени, что объем перераспределения (разрыв между верхним и двумя нижними графиками) может даже снизиться, не повлияв в целом на неравенство располагаемых доходов. Ближайшим примером из реальной жизни является Тайвань, где распределение доходов от труда и капитала заметно более эгалитарно, чем в любой другой богатой стране (см. рис. 2.2), и где в результате уровень неравенства располагаемых доходов схож с канадским – результат, достигнутый с минимальным перераспределением. Если довести этот пример до крайности, представим себе мир с абсолютно равным распределением капитала и труда: неравенство рыночных доходов будет равно нулю, и никакого перераспределения не потребуется; неравенство располагаемых доходов также будет нулевым[44].
Но как сделать распределение капитала и полезных навыков менее неравномерным? Что касается капитала, то это может быть достигнуто путем деконцентрации владения активами. Что касается труда, то можно было бы уравнять оплату примерно одинаковых уровней квалификации. В случае капитала неравенство могло бы быть уменьшено за счет выравнивания его наличных запасов; в случае труда оно могло бы быть сокращено в основном за счет уравнивания доходов от его наличных запасов (то есть от образования)[45].
Деконцентрация собственности на капитал
Начнем с капитала. Как мы видели в разделе 2.2б, с 1970-х годов во всех развитых странах концентрация доходов от собственности оставалась на исключительно высоком уровне. Это ключевая причина того, почему продолжающееся смещение баланса сил между капиталом и трудом в пользу первого и увеличение доли капитала в чистом производстве непосредственно ведет и будет вести к усилению межличностного неравенства.
Политические меры на национальном уровне не обязательно смогут повлиять на то, как общий чистый доход распределяется между капиталом и трудом (поскольку этот процесс часто обусловлен развитием технологий и глобализацией), но они, несомненно, могут повлиять на распределение собственности на капитал между людьми в пределах национальных границ. При меньшей концентрации собственности на капитал увеличение доли капитала в чистом доходе не обязательно означает усиление неравенства между людьми. Рост межличностного неравенства можно будет сдержать или вовсе предотвратить.
Методы снижения концентрации капитала известны и не так уж новы – просто их никогда не пытались серьезно и последовательно применять. Мы можем разделить их на три группы. Во-первых, можно было бы ввести налоговую политику, благоприятствующую владению акциями мелкими и средними акционерами и делающую его менее привлекательным для крупных акционеров (политика, прямо противоположная той, которая существует сегодня в Соединенных Штатах). В настоящее время средний класс владеет относительно небольшим количеством финансовых активов, которые в долгосрочной перспективе более эффективны, чем жилье. Поэтому, если мы хотим помочь уравнять доходы, получаемые средним классом и богатыми, то мы должны поощрять средний класс держать больше акций и облигаций. Распространенное возражение против этой идеи состоит в том, что мелкие инвесторы не склонны к риску, поскольку даже небольшая отрицательная доходность может уничтожить большую часть их финансового состояния. Это правда, но есть способы и повысить доход, который они могут получить, и обеспечить более низкую волатильность. Многие налоговые преимущества, которые в настоящее время доступны только богатым инвесторам, могут быть расширены, чтобы охватить мелких инвесторов, или, что еще лучше, можно ввести для мелких инвесторов новые налоговые преимущества. Более низкой волатильности и большей надежности инвестиций можно добиться за счет обеспеченной государством схемы страхования, которая устанавливала бы нижний предел (например, нулевую реальную доходность) для некоторых классов достаточно мелких инвестиций. Мелкие инвесторы могли бы подавать заявку на участие в этой программе на ежегодной основе при подаче налоговых деклараций[46].
Вторая группа методов подразумевает расширение вовлеченности работников через программы владения акциями сотрудниками (ESOP) или другие стимулы на уровне компании, которые поощряют владение акциями со стороны работников. Правовые рамки на этот счет в США и многих других странах уже существуют. Эта идея тоже не нова. В 1919 году Ирвинг Фишер представил эту идею в своей президентской речи в Американской экономической ассоциации (Fisher 1919, 13); в 80-е годы Маргарет Тэтчер аналогичным образом говорила о «народном капитализме». Однако после относительно успешного периода 1980-х годов ESOP канули в лету. Когда акции все же передаются работникам, это чаще связано с поощрением высшего руководства, а не с установлением какой-либо формы рабочего капитализма. Возражение против этой идеи состоит в том, что работники предпочтут диверсификацию, чтобы их заработная плата и доход от собственности не зависели от результатов деятельности одной и той же компании; им было бы лучше «инвестировать» свой труд в одну компанию, а свой капитал в другие компании, или в государственные облигации, или жилье. Теоретически этот аргумент верен. При прочих равных, имеет смысл инвестировать свои активы в компании, отличные от той, в которой вы работаете. Однако большинство людей практически не владеют какими-либо финансовыми активами, поэтому в любом случае все яйца у них лежат в одной корзине – в той компании, в которой они работают. Если бы у среднего класса было больше возможностей для инвестирования в финансовый капитал, то ESOP могли бы быть не лучшей стратегией. Но пока возможностей для прибыльного инвестирования небольших сумм мало, ESOP как шаг к менее концентрированному владению активами имеет смысл[47].
В-третьих, налог на наследство или имущество можно было бы использовать как средство выравнивания доступа к капиталу, если бы налоговые поступления шли на предоставление каждому молодому взрослому гранта в виде капитала. (Это предлагали Аткинсон [Atkinson 2015; Аткинсон 2018] и Мид [Meade 1964].) Налог на наследство в принципе имеет много преимуществ. Он меньше влияет на решения, касающиеся работы или инвестиций, чем налоги, начисляемые на доход, и представляет собой налог на (незаработанное) богатство, получаемое будущими поколениями. Более того, сохранение высшего класса стало возможным благодаря его способности передавать, часто в обход налогов, многие активы из поколения в поколение. Таким образом, налог на наследство также призван сыграть важную роль в сокращении неравенства возможностей.
Важно рассматривать налог на наследство в определенных интеллектуальных и идеологических рамках. Джон Ролз в своей таксономии различных равенств вводит налогообложение наследства как первое (и самое базовое) дополнение к равенству перед законом (Rawls 1971, 57; Ролз 1995, 70). На низшем уровне равенства Ролза нет никаких юридических препятствий к тому, чтобы люди могли занять одинаковое положение в жизни. Этот уровень равенства удовлетворяет первому принципу справедливости Ролза, а именно, что все имеют равные политические свободы независимо от экономического или социального класса. В этом состоит система естественной свободы Ролза, или «меритократический капитализм». С середины и конца XIX века в Европе, России и Америке, а также после обретения Индией независимости и китайской революции в середине XX века весь мир начал функционировать в рамках системы естественной свободы. С тех пор страны в той или иной степени стали двигаться в направлении к выполнению второго принципа справедливости Ролза, а именно равенства возможностей. Достижение равенства возможностей требует применения корректирующих мер, чтобы компенсировать преимущества, которыми пользуются люди, родившиеся в «правильных» семьях или с «правильными» генетически заданными способностями. Такая корректировка никогда не может быть полной, потому что она требует поправок к различиям в талантах и нематериальных преимуществах, которыми пользуются дети, родившиеся в более богатых или более образованных семьях. Но значительные корректировки возможны, и первая корректирующая политика, которую вводит Ролз, – это налогообложение наследства. Это, в сочетании с бесплатным обучением, подводит нас к системе либерального равенства Ролза (тому, что в этой книге я называю «либеральным капитализмом»). Следовательно, налог на наследство, который желателен и сам по себе (по мнению Ролза и других, тех, кто придает значение равенству возможностей), также может быть использован для уменьшения концентрации богатства, если полученные таким образом средства распределяются между всеми гражданами. Таким образом, этот налог желателен по двум причинам: текущее равенство и будущие возможности[48].
К сожалению, в большинстве развитых стран налоги на наследство снижаются. Даже в странах, которые имеют такой налог и где предельная ставка налога высока (например, в Японии и Южной Корее, с предельными ставками налога 50 %, и Великобритании, Франции и США, с предельными ставками 40–45 %), поступления от налога сильно сократились из-за очень высокого льготного порога (то есть уровня, ниже которого наследство не облагается налогом). В Соединенных Штатах уровень освобождения от уплаты налогов составлял 675 000 долларов в 2001 году, но в 2017 году был увеличен до 5,49 миллиона долларов (22 миллиона долларов для супружеской пары). Кэролайн Фройнд (Freund 2016, 174) отмечает, что «в 2001 году поступления от налога на имущество могли бы покрыть стоимость [американской] программы продовольственных талонов 14 раз. В 2011 году выручка могла бы покрыть только две трети этой программы». Ослабление налога на наследство, сокращенного как за счет поднятия льготного порога, так и за счет снижения предельных налоговых ставок, мало чем поможет выполнению его предполагаемой роли – выравниванию игрового поля. Возвращаясь к классификации равенства Ролза, кажется, что многие страны начинают отступать даже от либерального равенства и возвращаться к системе одной только естественной свободы, которая предусматривает равенство перед законом, но не равенство возможностей.
Равный доступ к одинаковому качеству образования
Теперь, обсудив, как уравнять запасы капитала, мы переходим к труду. В богатом и хорошо образованном обществе проблема заключается не только в том, чтобы сделать образование более доступным, но и в том, чтобы уравнять отдачу от образования для одинаково образованных людей. Неравенство в оплате труда больше не возникает только из-за различий в продолжительности обучения (различий, которые, вероятно, будут сокращаться и дальше). Сегодня неравенство в заработной плате (при равном количестве лет обучения, опыте и других значимых переменных) также определяется предполагаемыми или фактическими различиями в качестве разных учебных заведений. Способ уменьшить это неравенство – это уравнять стандарты обучения. В Соединенных Штатах, и во все большей степени в Европе, это потребует повышения качества государственного образования. Этого можно добиться только за счет крупных инвестиций в государственное образование и отказа от многочисленных привилегий (в том числе безналогового статуса), которыми пользуются частные университеты и колледжи, многие из которых имеют огромные финансовые возможности[49]. Без выравнивания игрового поля между частными и государственными учебными заведениями простое увеличение количества лет обучения или зачисление некоторых студентов из семей из низшего среднего класса в элитные колледжи не уменьшит неравенство в доходах от труда и не уравняет возможности.


