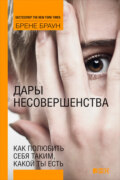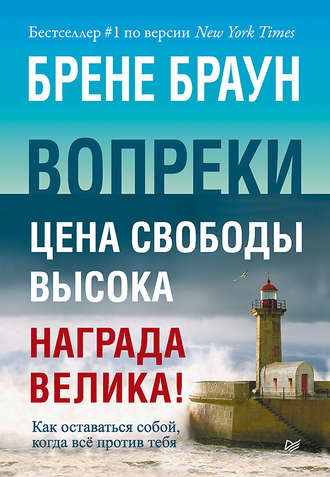
Брене Браун
Вопреки. Как оставаться собой, когда всё против тебя
Я рассмеялась, но плакать не перестала. «Ведь я всюду оказываюсь чужой! – пожаловалась я Стиву. – Ужасно. Иногда я не чувствую себя одинокой только дома. Какой-то у меня непонятный путь – больше никто по нему не идет, не подбадривает меня, не напоминает, что есть много других преподавателей-исследователей-сто-рителлеров-лидеров-религиозных-матершинников, не предлагает проверенный план, по которому предстоит двигаться дальше».
Стив взял меня за руку и ответил: «И правда, очень трудный у тебя путь. Понимаю, что ты чувствуешь себя одиноко. Ты и правда странная – необычная во многих смыслах. Вспомни: на той большой лидерской конференции было больше двадцати спикеров, а по результатам опроса именно твое выступление оказалось самым интересным. Именно тогда ты, между прочим, нарушила дресс-код и вышла на сцену в джинсах и сабо. Если твое выступление назвали лучшим большинство зрителей, разве можно считать, что кто-то принадлежит этой конференции больше тебя? И потом, ты всегда будешь своей в любом месте, куда приходишь с открытым сердцем, чтобы искренне говорить о себе и своей работе».
«Точно!» – в тот момент я поняла, что имела в виду Майя. Поцеловала Стива, побежала в кабинет, схватила ноутбук и нашла цитату. Вернулась к дивану и зачитала мужу:
«Свобода начинается с осознания того, что ты – человек из ниоткуда. Ты часть каждого уголка земли и в то же время не принадлежишь ни одному конкретному месту. Цена свободы высока. Награда велика».
Наконец я отказалась от привычной истории, которую рассказывала себе – истории о маленькой, одинокой, незаметной, отверженной девочке, тщетно искавшей свой номер на доске у спортзала. Я добиваюсь успеха в работе. У меня отличный партнер и замечательные дети. Но та старая история до сих пор отзывалась во мне ощущением одиночества и отверженности миром и семьей.
Стив чувствовал, что во мне что-то меняется. Он добавил: «Цена и правда высока. Но ведь награда в том, что ты искренне делишься результатами своего труда с миром, оправдывая доверие участников исследований, выслушивая их трогательные и страшные истории».
Я уточнила, понимает ли он странную дихотомию: и быть одной, и быть по-настоящему причастной к чему-то. Стив подтвердил: «Да. Я согласен. Это одиночество, в котором живет сила. Часто родители злятся, когда я отказываюсь выписывать антибиотики для ребенка. Первое, что я слышу от них: «Все педиатры их выписывают. Я просто пойду к другому врачу». Мне нелегко, но я говорю себе: «Они имеют право не соглашаться со мной. Но я верю, что для их ребенка лучше именно так. Точка».
Голова буквально взрывалась от мыслей. Я объяснила Стиву: «Мне понятна необходимость оставаться уязвимой и быть на своей стороне, когда никто со мной не согласен. И все равно трудно перестать хотеть быть частью группы. Мне плохо без отряда». Он ответил: «У тебя ведь уже есть отряд. Маленький и порой друг с другом не согласный, но будем честны: ты ненавидишь отряды, где все друг с другом соглашаются». Я чувствовала, что Стив прав, но чего-то не хватало.
Я встала и сказала, что мне нужно покопаться в своих архивах, посвященных причастности, раз уж я вернулась к цитате Майи. Вспоминаю ответ мужа и смеюсь: «Понятно. Я уже такое слышал. Пожалуй, ужин возьму на себя. Закину немного еды в кроличью нору исследователя. Когда ты в прошлый раз собиралась в чем-то покопаться, ты оттуда пару лет носа не высовывала».
Позже я нашла полную расшифровку записи[6] того самого интервью Билла Мойерса с Майей Энджелоу. Она заканчивается диалогом:
Билл:
– Вы чувствуете принадлежность к какому-то одному месту?
Майя:
– Пока что такого не случалось.
Билл:
– Вы принадлежите кому-то?
Майя:
– Да. Себе. Сильнее и сильнее с каждым днем. И очень этим горда! Для меня очень важно, какими глазами я смотрю на Майю. Майя очень много значит для меня. Мне нравится ее настроение, смелость… И если Майя ведет себя неподобающе, мне приходится с этим что-то делать.
Прочитав это впервые, я подумала: «Майя принадлежит Майе. Я принадлежу себе. Не могу сказать, что я разобралась до конца, но хотя бы это я поняла».
На этот раз кроличья нора исследователя оказалась глубиной в четыре года. Я вернулась к старым данным, собрала новые – и сформировала теорию настоящей причастности.
Выяснилось, что все, что я думала о причастности до этого, было либо неточным, либо и вовсе полной ерундой.
Вторая глава
В поисках настоящей причастности
Настоящая причастность.
В этих словах есть что-то ободряющее. Я читаю их вслух и чувствую: они символизируют что-то очень важное. То, к чему мы тянемся всю жизнь. То, по чему мы тоскуем. Каждому хочется стать частью чего-то большого – мы хотим испытывать настоящую причастность: безусловную, неподдельную, которую нельзя оспорить. Вот только где ее взять?
В 2010 году в книге «Дары несовершенства»[7] я сформулировала определение причастности так:
«Быть причастным к чему-то большему – естественное человеческое стремление. Оно так сильно захватывает нас, что мы спешим подстроиться, получить одобрение, стать своими – что, увы, не помогает и даже отвлекает от причастности. Настоящая причастность доступна нам в те моменты, когда мы раскрываем наши живые, неидеальные души, – она основана на принятии себя такими, какие мы есть».
Это определение выдержало проверку временем, но сейчас оно выглядит неполным. Я узнала, что настоящая причастность требует кое-чего еще. Необходимость оставаться собой – и принимать себя – может привести к одиночеству, неопределенности, отсутствию поддержки.
Работая над «Дарами несовершенства», я рассматривала причастность как внешнюю оценку – когда кто-то нас поддержит, признает, одобрит, поскольку мы отважно раскрылись и стали уязвимыми. Но сейчас, закопавшись глубже в результаты исследований, я понимаю: она не приходит снаружи. Мы не можем ощутить настоящую причастность в группе. Мы носим ее внутри. В сердце. Она основана на принадлежности себе и вере в себя.
Готовность принадлежать себе – это вызов, отвечать на который нам придется самостоятельно: покорять дикие джунгли критики, уязвимости, неуверенности. В современном мире, расчерченном на идеологические зоны политических дрязг и военных действий, это задача со звездочкой. Мы начали забывать, что даже несмотря на особенности каждого из нас в отдельности, мы неминуемо связаны друг с другом чем-то более основательным, чем идеология, политика или членство в группе – нас объединяют любовь и общечеловеческое единство. Как бы нас ни разделяли верования или другие разногласия, каждый из нас – человек, и все мы увлечены схожими духовными поисками.
Определение настоящей причастности
Я – исследователь, опирающийся на качественные обоснования теории. Качественное исследование (в отличие от количественного – статистики) не подтверждает и не опровергает существующие теории, а собирает и формулирует общие места в ходе подробных разговоров с людьми об их личной жизни (глубинных интервью). Мы задаем тему, а затем разбираемся, в чем участники согласны друг с другом. Когда речь зашла о причастности, мои первые вопросы были общими: «К чему вы стремитесь в отношении причастности?», «О чем беспокоитесь, думая о ней?»
Ответы были удивительно разнообразными. Люди хотят быть частью чего-то большего, испытывать подлинную связь с другими, но не готовы ради этого поступаться подлинностью, свободой или силой. Мне жаловались на подход «или с нами или против нас», популярный в современном обществе – он приносит ощущение нравственной разобщенности.
Я попросила подробнее углубиться в рассказ о «нравственной разобщенности», и участники заговорили о важном ощущении общечеловеческого единства, которое не выдерживает разделения на «с нами или против нас». Каждый по-своему говорил об одном и том же: кажется, нас стали объединять страхи и отвращение к одним и тем же темам, а не человечность, доверие, любовь или уважение. Со мной говорили о страхе озвучить непопулярное мнение, спорить с друзьями, коллегами, родственниками – такие дискуссии очень быстро перерастают в ожесточенные разборки, редко оставаясь вежливыми и толерантными.
Раздираемые выбором между лояльностью группе и верностью себе, тоскующие по общечеловеческому единству, участники моего исследования отлично видят, как на них давит стремление вписаться и чувствовать себя своими. В противоположность замкнутости группы, объединенной идеологически верным мнением, ощущение общности с человечеством переживается как свобода. Связь с другими людьми через общий опыт, принципы, ценности позволяет самовыражаться без страха быть отвергнутым. Люди хотят слышать: «Да, мы во многом разные, но где-то глубоко между нами есть прочная связь».
Выискивая общие места теории причастности в результатах исследования, я вернулась к определению духовности, выведенному в 2010 году из данных прошлого исследования, о котором я писала в «Дарах несовершенства»:
«Духовность – это узнавание и празднование неразрывной, объединяющей нас мощной силы. Это согласие с тем, что наша связь друг с другом – посредством этой силы – основана на любви и сопереживании».
Я перечитываю слова «неразрывная объединяющая нас мощная сила» снова и снова. Похоже, мы с вами уничтожили то, что нельзя было разорвать. В следующей главе я покажу, почему это случилось и как нам это удалось. А вся остальная книга посвящена тому, как обратиться к этой силе, – я покажу, как находить путь друг к другу.
Основным предметом количественного исследования, в результате которого появилась эта книга, стала настоящая причастность. Учитывая определение, которое я привела выше, и полученные данные, нет сомнений, что поиски настоящей причастности связаны с духовностью. Я говорю не о религиозных догмах и формулировках, а об отважной попытке остаться человечными (и беречь друг друга) в циничном современном мире, разделенном на противоборствующие сектора.
Разобравшись в определении настоящей причастности, я продолжила изучать истории участников исследования, задавая себе следующие вопросы:
1. Какие процессы, практика или подход объединяют людей, научившихся обращаться к настоящей причастности?
2. Как прийти к тому, чтобы не принадлежать ни одному месту и в то же время принадлежать любому месту? Как добиться того, чтобы причастность исходила из наших сердец, а не ожидалась снаружи как награда за то, что мы подстроились, совершенствуемся, делаем вид или доказали, что достойны? Как сделать так, чтобы причастность нельзя было отобрать, чтобы никто, кроме нас самих, не решал, причастны мы или нет?
3. Если мы готовы покорять дикие условия внешнего мира – оставаться собой, когда все против нас, – понадобится ли нам по-прежнему чувствовать себя причастными к группам?
4. Влияет ли современная культура, разделяющая нас по идеологическим лагерям, на доступность настоящей причастности? Если да, то как?
Из ответов участников у меня получилось четыре элемента настоящей причастности. Их можно найти повсюду – это не теоретические установки, а конкретные физические действия. Теории, возникающие в процессе качественного исследования, всегда сотканы из подходов людей, живущих вместе с нами в реалиях современной культуры. Невозможно получить теорию настоящей причастности, игнорируя жуткие события, творящиеся в наших домах и городах. Я не стремилась рассказывать об идеологическом или политическом хаосе. Но, похоже, в нынешних условиях без этого не обойтись. Моя работа – не переврать то, что я выяснила, и представить данные без искажений.
Четыре элемента, составляющие причастность, можно исследовать на практике ежедневно. А еще каждый из пунктов – это парадокс. Они бросают вызов:
1. Вблизи человека трудно ненавидеть. Сближайся!
2. Отвечай правдой на брехню. Корректно!
3. Держись за руку – за руку незнакомцев.
4. Гордая осанка. Мягкий взгляд. Дикое сердце.
Дикие джунгли бытия
Наблюдая за тем, как в процессе исследования прорисовывается понятие настоящей причастности, я приняла как факт: иногда действительно приходится отстаивать себя в одиночестве, несмотря на страх критики и отвержения.
У меня в голове замелькали картины дикой, непокоренной природы. Теологи, писатели, поэты, музыканты в американской культуре давно обращаются к этому образу, описывая бескрайние пространства, полные опасностей, сулящие суровые испытания, а также прекрасные, манящие прохладой оазисы, куда мы ускользаем от всего в поисках покоя и созерцания. Метафора диких условий подходит ощущению одиночества и уязвимости, а также цели: эмоциональному, духовному или физическому поиску.
Принадлежать себе настолько, чтобы оставаться наедине с собой – вот что такое настоящие дикие условия. Неприрученные, непредсказуемые обстоятельства одиночества и личного исследования. Время и места, по которым потом скучаешь – и вспоминаешь со страхом. Время и места, где было опасно и одновременно захватывало дух. Дикие условия могут оказываться невыносимыми, поскольку их нельзя контролировать (так же, как нельзя контролировать, что подумают другие, если мы решимся или не решимся шагнуть в эту пропасть). Но именно в них живет настоящая причастность. Именно там у нас есть шанс проявить максимальную смелость и прочувствовать священность внутреннего испытания. Храбрость, благодаря которой мы выбираем настоящую причастность, приходит к тем, кто не только покоряет дикие джунгли бытия, а сам становится этими дикими условиями. Это значит разрушать стены, возведенные между людьми, выходить из тесных идеологических бункеров – и чувствовать биение дикого, непокоренного сердца, а не застарелую боль.
Странно было бы ожидать, что путь по девственным местам, где не ступала нога человека, был заботливо проложен кем-то до нас. Я поделюсь тем, что узнала, проводя исследование, но у каждого своя дорога через дебри жизни. И если мы с вами хоть немножко похожи, вам вряд ли понравятся некоторые ее участки.
Нам придется согласиться и захотеть, а точнее почувствовать, необходимость соприкосновения с теми, кто отличается от нас. Мы решимся подойти ближе и сядем за общий стол. Мы будем учиться слушать, вступать в сложные разговоры, займемся поисками радости, разделим боль и будем скорее проявлять любопытство, чем защищаться, – в поиске моментов единства.
Настоящая причастность не пассивна. Она не приходит с членским билетом, выданным группой. Она не будет результатом встраивания в тусовку, решения стать незаметной, продаться и прикрыться в поисках безопасности. Эта практика требует проявлять уязвимость, переживать дискомфорт и учиться быть внимательными рядом с другими, не принося в жертву то, кем мы являемся.
Мы хотим настоящей причастности, но нам потребуется невероятная смелость, чтобы знать, на что мы идем, и продолжать двигаться.