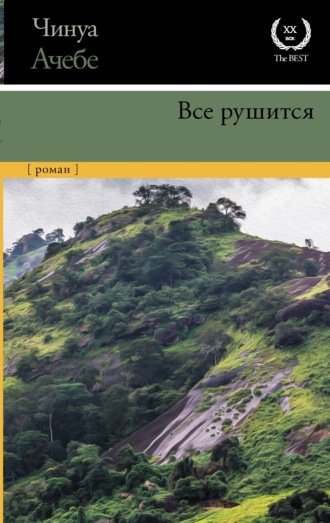
Чинуа Ачебе
Все рушится
Chinua Achebe
Things fall apart
© Chinua Achebe, 1958. All rights reserved
© Перевод. И. Доронина, 2020
© Издание на русском языке AST Publishers, 2020
Все шире – круг за кругом – ходит сокол,
Не слыша, как его сокольник кличет;
Все рушится, основа расшаталась,
Мир захлестнули волны беззаконья…
У. Б. Йейтс. Второе пришествие[1]
Часть первая
Глава первая
Оконкво был хорошо известен во всех девяти деревнях общины Умуофия и даже за их пределами. Репутацией своей он был обязан собственным достижениям. Еще в восемнадцатилетнем возрасте он прославил свою деревню, одолев Кота Амалинзе. От Умуофии до Мбайно Амалинзе слыл великим борцом, семь лет не знавшим поражений. Котом его прозвали за то, что лопатки его никогда не касались земли. И такого человека Оконкво победил в схватке, которая, по мнению старейшин, была одной из самых ожесточенных с того времени, когда основатель их рода семь дней и семь ночей бился с Духом дебрей.
Гремели барабаны, пели флейты, и зрители следили за поединком, затаив дыхание. Амалинзе был хитер и умел, но Оконкво оказался юрким, как рыба в воде. Каждая жила и каждый мускул отчетливо выдавались у борцов на руках, спине и бедрах, и казалось: они напряжены и натянуты настолько, что вот-вот порвутся. В конце концов Оконкво одержал верх над Котом.
Это было много лет назад, двадцать или больше, и все это время слава Оконкво росла и распространялась, как лесной пожар, раздуваемый харматаном[2]. Он был высок ростом, коренаст, кустистые брови и широкий нос придавали ему свирепый вид. Он тяжело дышал, говорили, будто, когда он спал, его жены и дети слышали его дыхание в своих домах. При ходьбе почти не касался земли пятками, создавалось впечатление, что он ходит на пружинах – как будто в любой момент готов на кого-нибудь напасть. Он и впрямь часто нападал на людей. Из-за небольшого заикания, возникавшего, когда он сердился, он порой не мог быстро найти нужных слов и тогда пускал в ход кулаки. Оконкво терпеть не мог неудачников. Оконкво терпеть не мог своего отца.
Унока – так звали его отца – умер десять лет тому назад. При жизни он был ленив, расточителен и совершенно не способен думать о завтрашнем дне. Если какие-то деньги попадали ему в руки, а случалось это редко, он тут же накупал несколько калебас[3] пальмового вина, созывал соседей и устраивал пирушку. Он любил повторять, что, глядя на рот мертвеца, всегда думает: какая дурость не наесться при жизни до отвала. Конечно же, Унока был вечным должником, всем соседям вокруг он задолжал от нескольких каури[4] до весьма существенных сумм.
Унока был высоким, но очень худым и немного сутулым. Вид у него был изможденный и унылый – за исключением тех моментов, когда он пил или играл на флейте. Играл он на ней очень хорошо, и самыми счастливыми периодами в его жизни были две-три луны после сбора урожая, когда деревенские музыканты снимали со стены инструменты, обычно висевшие над очагом. Унока играл вместе с ними, и лицо его тогда светилось блаженством и покоем. Иногда их оркестр вместе с их же танцующими эгвугву приглашали на некоторое время в другие деревни, чтобы поучиться их искусству. Они гостили в таких деревнях на протяжении трех-четырех базаров, исполняя свою музыку и пируя. Унока любил хорошее угощение и хорошую компанию, поэтому любил он и это время года, когда прекращались дожди и солнце всходило каждое утро в своей ослепительной красоте. И сильной жары в это время не бывало, потому что холодный и сухой харматан дул с севера. Выдавались годы, когда харматан особенно свирепствовал, и тогда в воздухе висело плотное марево. Старики и дети в такую погоду усаживались вокруг дровяных костров и грелись. Унока любил все это, любил наблюдать, как с наступлением сухого сезона возвращались первые коршуны и дети встречали их песнями. Он вспоминал собственное детство, как бродил по окрестностям, высматривая в небе коршуна, и, завидев его, лениво парившего в синем небе, разражался радостной песнью, вкладывая в нее все свое существо, приветствуя возвращение коршуна из долгого-долгого путешествия и вопрошая, не принес ли он домой хоть какой-то кусочек ткани.
Но то было много лет назад, в его детстве. Взрослый Унока стал неудачником. Он был беден и едва мог прокормить жену и детей. Люди смеялись над ним, считая его бездельником, и клялись ни за что больше не давать ему взаймы, потому что долгов он никогда не отдавал. Но было в этом человеке что-то такое, что заставляло тех же людей ссужать его снова и снова, и долги его накапливались.
Однажды к нему в хижину зашел сосед по имени Окойе. Унока полулежал, прислонившись к глиняной лавке, сооруженной вдоль стены, и играл на флейте. При виде соседа он тут же вскочил и пожал ему руку. Окойе расстелил козью шкуру, которую принес под мышкой, и сел. Унока сходил в заднюю комнату и вернулся с круглой деревянной дощечкой, на которой лежали орех кола, аллигаторов перец[5] и кусочек белого мела.
– У меня есть кола, – объявил он, сел и передал дощечку гостю.
– Спасибо. Приносящий колу приносит жизнь. Но я думаю, что ты сам должен расколоть его, – ответил Окойе, возвращая дощечку.
– Нет, я считаю, что это должен сделать ты. – Так они попререкались немного, пока Унока не согласился принять честь разделать орех. Окойе же тем временем взял мел, начертил на полу несколько прямых линий, а потом покрыл мелом большой палец ноги.
Разломив орех, Унока вознес молитву предкам, прося жизни, здоровья и защиты от врагов. Поев, они поговорили о том о сем: о проливных дождях, затапливавших посадки ямса, о грядущем празднике в честь предков и о надвигающейся войне с деревней Мбайно. Война никогда не радовала Уноку. По правде сказать, был он трусоват и не выносил вида крови. Поэтому предпочел сменить тему и заговорил о музыке, тут-то лицо его засияло. Его внутреннему слуху были внятны будоражившие кровь замысловатые ритмы экве, уду и огене, и он мог представить себе, как его флейта вплетается в них, украшая выразительными печальными мелодиями. Общее звучание было веселым и оживленным, но если выделить из него голос флейты: то взмывающий вверх, то падающий, а потом распадающийся на короткие рваные всхлипы, – становилось очевидно, что это голос тоски и печали.
Окойе тоже был музыкантом. Он играл на огене. Но он не был неудачником, как Унока. Его амбар ломился от ямса, он имел три жены и вскоре должен был получить титул идемили[6], третий по значимости в их краях. Церемония предстояла очень дорогостоящая, и он собирал все свои ресурсы. За этим-то и пришел к Уноке. Откашлявшись, Окойе начал:
– Спасибо за колу. Ты, может, слышал, что в скором времени я намерен принять титул.
Говоривший до сих пор прямо, следующие полдюжины фраз он выдал в виде пословиц. У ибо[7] искусство вести беседу ценилось очень высоко, и пословицы были чем-то вроде пальмового масла, на котором «готовились» слова. Язык у Окойе был подвешен отменно, говорил он долго, ходя вокруг да около, и только в конце перешел к делу. Короче говоря, он просил Уноку вернуть ему двести каури, которые тот взял взаймы у него больше двух лет назад. Как только Унока понял, к чему ведет сосед, он разразился смехом. Смеялся долго и громко, голос его звенел чисто, как огене, а из глаз лились слезы. Гость онемел от изумления. Наконец Уноке удалось – между приступами хохота – выговорить ответ.
– Посмотри на эту стену, – сказал он, указывая на дальнюю стену хижины, до блеска натертую красной глиной. – Видишь те черточки, нарисованные мелом? – Окойе увидел нанесенные мелом группы вертикальных штрихов. Их было пять: в самой маленькой насчитывалось десять штрихов. Унока обладал драматургическим чутьем, поэтому сделал многозначительную паузу, во время которой втянул носом щепотку табаку и громко чихнул, после чего продолжил: – Каждая группа черточек – мой долг кому-нибудь, а каждая черточка – это сто каури. Видишь, я должен вот этому, например, человеку тысячу каури. Но он не приходит и не будит меня из-за этого ни свет ни заря. Я отдам тебе долг, но не сегодня. Наши старики говорят: солнце освещает сначала тех, кто стоит во весь рост, а уж потом коленопреклоненных. Вот так и я: сначала рассчитаюсь с теми, кому задолжал больше. – И он вдохнул еще одну понюшку, словно она символизировала бóльшие долги. Окойе свернул свою козью шкуру и ушел.
Когда Унока умирал, он не имел вообще ни одного титула и был по уши в долгах. Удивительно ли, что его сын Оконкво стыдился его? К счастью, у здешнего народа было принято ценить человека по его собственным достоинствам, а не по достоинствам его отца. Оконкво, вне всяких сомнений, был рожден для великих дел. Будучи еще молодым, он уже завоевал славу первого силача всех девяти деревень, был зажиточен, имел два амбара полных ямса и только что взял третью жену. А в довершение всего обладал двумя титулами и продемонстрировал невероятную доблесть в двух межплеменных войнах. Поэтому, несмотря на молодость, Оконкво уже считался одним из самых выдающихся людей своего времени. В его народе возраст почитали, но перед личными достижениями преклонялись. Как говорили старики: если ребенок вымыл руки, он может есть с королями и старейшинами. Оконкво, безусловно, «вымыл руки», поэтому ел вместе с королями и старейшинами. И именно поэтому ему поручили присматривать за обреченным мальчиком, которого пожертвовали деревне Умуофия ее соседи, чтобы избежать войны и кровопролития. Несчастного мальчишку звали Икемефуна.
Глава вторая
Только-только Оконкво задул масляную лампу и вытянулся на своем бамбуковом ложе, как ночную тишину прорезал звук огене деревенского глашатая. Бом-м – бо-м-м – бом-м – гудела металлическая полость. Потом глашатай прокричал новость и после этого снова ударил в свой инструмент. А новость была такова. Всех мужчин Умуофии призывали собраться на следующий день утром на базарной площади. «Что же за беда нагрянула?» – думал Онокво; в том, что случилось что-то плохое, он не сомневался. В голосе глашатая он ясно расслышал трагический оттенок, и даже теперь, когда голос все больше и больше удалялся, отчетливо различал эту нотку.
Ночь была очень тихой, как всегда, кроме периодов полнолуния. Для его народа, даже для самых смелых его людей, темнота таила в себе смутный страх. Детям строго наказывали не свистеть по ночам, чтобы не вызвать злых духов. Опасные животные в темноте представлялись еще более зловещими и фантастическими. Ночью змею никогда не называли змеей, потому что она могла услышать. Ее называли Струной. По мере того как голос глашатая постепенно замирал вдали, на мир снова опускалась тишина – тревожная тишина, вибрирующая от вселенской трели миллионов и миллионов лесных насекомых.
В полнолуние все бывало по-другому. Тогда поляны оглашались радостными детскими криками. А те, кто постарше, уединялись парами в не столь открытых местах; старики и женщины, глядя на них, вспоминали молодость. Как гласит пословица ибо, когда светит луна, и хромому хочется погулять.
Но эта ночь была непроглядной и тихой. И во всех девяти деревнях Умуофии глашатай со своим огене призывал мужчин утром явиться на общий сход. Лежа на своей бамбуковой постели, Оконкво пытался разгадать причину срочного сбора: «Война с соседним кланом?» Эта причина казалась наиболее вероятной. Война Оконкво не страшила. Он был человеком действия, воином и, в отличие от отца, вида крови не боялся. В последней войне, которую вела Умуофия, он первым добыл человеческую голову. И это была уже пятая голова на его счету, а ведь он еще далеко не стар. По торжественным случаям вроде похорон деревенской знатной персоны он пил пальмовое вино из своего первого трофейного черепа.
Наутро базарная площадь была запружена мужчинами, их собралось там тысяч десять, все разговаривали приглушенными голосами. Наконец в центр площади вышел Огбуэфи Эзеуго и четырежды, поворачиваясь каждый раз в одну из четырех сторон и словно нанося кому-то в воздухе удар кулаком, громогласно выкрикнул:
– Умуофия, слушай!
И каждый раз десять тысяч голосов отвечали ему возгласом одобрения. Потом наступила мертвая тишина. Огбуэфи Эзеуго был великолепным оратором, и в подобных случаях говорить поручалось именно ему. Он провел рукой по своим седым волосам и огладил седую бороду. Затем поправил одежду – полотнище, пропущенное под правую подмышку и связанное над левым плечом.
– Умуофия, слушай! – пророкотал он в пятый раз, и толпа в ответ взорвалась оглушительным ревом. Потом вдруг он, словно одержимый, выбросил вперед левую руку, указал ею в направлении Мбайно и произнес сквозь гневно сжатые ослепительно-белые зубы: – Это отродье диких зверей посмело убить дочь Умуофии. – Голова его упала на грудь, он заскрежетал зубами и дал время гневному ропоту прокатиться по толпе. Когда же он заговорил снова, ярость в его лице сменилась улыбкой, оказавшейся еще более жуткой и зловещей, чем маска гнева.
Четким бесстрастным голосом он поведал жителям Умуофии, как дочь их племени пошла на базар в Мбайно и была там убита. «Эта женщина, – сказал Эзеуго, – была женой Огбуэфи Удо», – и указал на мужчину, сидевшего рядом с ним с поникшей головой. Толпа гневно взревела, требуя крови.
Многие высказались после этого, и в конце было решено следовать обычному порядку вещей. В Мбайно тут же был отправлен ультиматум, жителям деревни предлагался выбор: либо – война, либо – юноша и невинная девушка в порядке компенсации.
Все соседи боялись Умуофии. Она была сильна и в войне, и в магии, перед ее жрецами и колдунами трепетала вся большая округа. Их самое могущественное военное колдовство имело традиции древние, как сам клан. Никто не знал, насколько древние. Но в одном сходились все – секретом его владела одноногая старуха. Она так и называлась – агади-нвайи, что означало «старая женщина». Святилище агади-нвайи находилось в центре Умуофии, на расчищенном месте. Если кому-нибудь хватило бы дурости пройти мимо него в сумерках, он непременно увидел бы скачущую на одной ноге колдунью.
Соседние кланы, разумеется, все это знали, боялись Умуофии и никогда не стали бы воевать с ней, не попытавшись сначала уладить дело миром. И к чести Умуофии надо сказать, что она никогда не начинала войну, если причина ее не была совершенно ясна, справедлива и признана таковой ее оракулом – Оракулом холмов и пещер. Бывали случаи, когда Оракул запрещал умуофийцам вступать в войну. Если клан не повиновался Оракулу, ему неминуемо грозило поражение, потому что грозное агади-нвайи никогда не стало бы ему помогать в том, что ибо называют войной неправедной.
Но война, которая грозила разразиться сейчас, была праведной. И это понимал даже вражеский клан. Поэтому когда Оконкво из Умуофии прибыл в Мбайно как гордый и надменный посланник войны, принят он был с огромным уважением и почестями, а два дня спустя возвратился домой с пятнадцатилетним подростком и невинной девочкой. Мальчика звали Икемефуна, и его печальную историю в Умуофии рассказывают по сей день.
Старейшины, ндичье, собрались, чтобы выслушать отчет Оконкво о выполнении им порученной миссии, после чего решили – вполне предсказуемо, – что девочка в возмещение утраченной жены достанется Огбуэфи Удо. Что же касается мальчика, то он принадлежал теперь клану в целом, и не было никакой спешки с решением его судьбы. Тем не менее Оконкво попросили от имени клана приглядеть за ним до поры до времени. В результате Икемефуна прожил у Оконкво целых три года.
Оконкво сурово правил своими домочадцами. Его жены, особенно младшие, а также дети пребывали в постоянном страхе перед его горячим и крутым нравом. Вероятно, в глубине души Оконкво не был жесток. Но вся его жизнь определялась собственным страхом – страхом проявить слабость и оказаться несостоятельным. Этот страх был более глубоким и сокровенным, чем страх перед злыми и своенравными богами и волшебством, перед лесом, перед силами природы, жестокими, с кровавыми пастями и когтями. Страх, преследовавший Оконкво, был сильнее. Он не приходил извне, а таился глубоко внутри него самого. Оконкво боялся самого себя, боялся показаться похожим на отца. Уже в раннем детстве он презирал слабость и никчемность отца и по сей день помнил, какие страдания испытывал, когда кто-нибудь из сверстников называл его отца агбалой. Именно тогда он узнал, что агбала – не просто синоним слова «баба», так называли мужчину, не заслужившего ни одного титула. Поэтому Оконкво обуревала одна страсть – ненависть ко всему, что любил его отец Унока. Одним из объектов его ненависти была доброта, другим – праздность.
В сезон посадок Оконкво трудился весь день напролет: от первых петухов до того времени, когда куры усаживались на ночь на насест. Физически он был очень силен и редко уставал. Но его жены и младшие дети были отнюдь не так сильны и тяжко страдали от непосильной работы. Однако роптать вслух не смели. Старшему сыну Оконкво, Нвойе, было тогда двенадцать, но отца уже тревожила его врожденная склонность к лени. Во всяком случае, отцу казалось, что сын склонен к лени, и он упорно старался исправить его бранью и побоями. Поэтому Нвойе рос ребенком с постоянно печальным видом.
Владения Оконкво свидетельствовали о достатке и процветании его хозяйства. Территория вокруг них была огорожена толстой стеной из красной глины. Его собственное жилище, оби, стояло непосредственно за единственными воротами в красной стене. Каждая из трех его жен имела собственную хижину, они были расположены полумесяцем позади его оби. В одном конце двора у стены был построен амбар, в котором штабелями громоздились горы ямса. На противоположном конце двора находился загон для коз. И у каждой из жен к хижине был пристроен курятник. Возле амбара имелся маленький домик, «домовой храм», или святилище, в котором Оконкво держал символические деревянные фигурки своего бога-покровителя и духов предков. Он поклонялся им, приносил в жертву орехи кола, еду, пальмовое вино и возносил молитвы от собственного имени, а также от имени трех жен и восьмерых детей.
Итак, после убийства дочери Умуофии жителями Мбайно Икемефуна стал одним из домочадцев Оконкво. Вернувшись в тот день домой, Оконкво позвал старшую жену и поручил мальчика ей.
– Он принадлежит племени, – сказал Оконкво жене. – Так что присматривай за ним.
– Он долго у нас будет жить? – спросила та.
– Делай то, что велено, женщина! – рявкнул Оконкво и, слегка заикаясь, добавил: – Когда это ты стала одной из ндичье Умуофии?
Так что, не задавая больше вопросов, мать Нвойе забрала Икемефуну в свою хижину.
Что же касается самого мальчика, то он был до смерти напуган, не мог понять, что с ним происходит и что плохого он сделал. Откуда ему было знать, что его отец участвовал в убийстве дочери Умуофии. Единственное, что он знал, – это то, что несколько мужчин явились в их дом, тихо переговорили с его отцом, а после его вывели и передали какому-то чужаку. Мать рыдала навзрыд, а сам мальчик был слишком потрясен, чтобы плакать. Незнакомец повел его и еще одну девочку далеко-далеко от дома по уединенным лесным тропам. Девочку Икемефуна не знал и никогда больше не видел.
Глава третья
Свой жизненный путь Оконкво начинал не так, как обычно начинают его молодые люди. Он не получил в наследство амбар ямса. В Умуофии рассказывали, как его отец Унока отправился однажды к Оракулу холмов и пещер, чтобы выяснить, почему у него всегда такой скудный урожай.
Оракул вещал от имени бога Агбалы, и посоветоваться с ним приходили люди не только из ближних, но и из дальних деревень. Они приходили, когда несчастье являлось к ним на порог или когда возникали споры с соседями. Приходили они и чтобы узнать предуготованное им будущее или попросить наставления у духов покойных отцов.
В святилище вело круглое отверстие в склоне холма, лишь немногим большее, чем такой же открытый круглый вход в курятник. Поклоняющиеся и те, кто хотел что-то узнать у богов, проползали в это отверстие на животе и оказывались в темном бесконечном пространстве в присутствии Агбалы. Никто никогда не видел Агбалу, кроме его жрицы. Но ни один из тех, кто проползал когда-либо в его жуткое святилище, не выходил из него, не устрашившись могущества бога. Его жрица стояла возле священного огня, который разводила в самом сердце пещеры, и возвещала божественную волю. Над костром никогда не поднимались языки пламени, тлеющие поленья служили лишь для того, чтобы смутно освещать фигуру жрицы.
Иногда какой-нибудь мужчина приходил посоветоваться с духом своего умершего отца или другого родственника. Рассказывали, что когда такой дух появлялся, пришедший видел его расплывчатые очертания в темноте, но голоса не слышал. Зато кое-кто утверждал, что слышал, как духи летали и задевали крыльями потолок пещеры.
Много лет назад, когда Оконкво был еще мальчиком, его отец Унока отправился посоветоваться с Агбалой. Жрицей в те времена была женщина по имени Чика. Бог наделил ее огромной силой, и все ее страшно боялись. Встав перед ней, Унока начал свою историю.
– Каждый год, – печально произнес он, – прежде чем начинать посадки, я жертвую петуха богине Ани[8], владелице всей земли. Таков закон наших отцов. Я также режу петуха в святилище Ифеджиоку, бога ямса. Я расчищаю буш[9] и сжигаю выкорчеванные кусты, когда они высыхают. Я высаживаю ямс с первым упавшим на землю дождем и подвязываю ростки, как только они появляются. Я выпалываю…
– Хватит, замолчи, – приказала жрица, голос ее был пронзителен, ужасен и многократным эхом разносился по темному пространству. – Ты не погрешил ни против богов, ни против предков. А если человек в ладу с богами и предками, его урожай зависит только от его собственного усердия. Ты, Унока, известен всему племени своей ленью, тем, что еле ворочаешь мотыгой и мачете. Когда твои соседи выходят с топорами рубить девственный лес, ты сажаешь свой ямс в истощенную землю, чтобы не утруждать себя расчисткой. Другие пересекают семь рек, чтобы освоить новые земли, ты же остаешься дома и приносишь жертвы усталой земле. Иди домой и работай как пристало мужчине.
Унока был несчастным человеком. У него был плохой чи – бог-покровитель, злая судьба следовала за ним по пятам до самой могилы, вернее, до самой смерти, потому что не было у него никакой могилы. Он умер от отека, а это вызывает омерзение у богини земли. Человеку, у которого раздуваются живот и конечности, запрещено умирать дома. Его относят в Поганый лес и оставляют умирать там. Существует легенда об очень упрямом человеке, который несколько раз приволакивался оттуда домой; его относили обратно, и наконец пришлось привязать его к дереву. Эта болезнь считалась оскорблением для земли, поэтому тело жертвы нельзя было захоранивать в ее чрево. Больной умирал и сгнивал на ее поверхности – и не удостаивался ни первого, ни второго погребения[10]. Такова была и участь Уноки. Когда его уносили, он взял с собой свою флейту.
С таким отцом, как Унока, Оконкво не был обеспечен жизненный старт, какой имели многие другие молодые мужчины. Он не унаследовал ни амбара, ни титула, ни даже молодой жены. Но несмотря на столь неблагоприятное положение, он – даже еще при жизни отца – начал закладывать основу своего будущего процветания. Процесс был медленным и мучительным. Но Оконкво ринулся в него как одержимый. Он и впрямь был одержим страхом повторить презренную жизнь и позорную смерть отца.
Жил в деревне Оконкво богатый человек, имевший три огромных амбара, девять жен и тридцать душ детей. Звали его Нвакиби, и носил он второй по значимости титул, какой мог получить мужчина их племени. Именно на этого человека батрачил Оконкво, чтобы заработать на первую свою посадку ямса.
Однажды он принес Нвакиби кувшин пальмового вина и петуха. Послали за двумя престарелыми соседями, двое старших сыновей Нвакиби тоже присутствовали в его оби. Он выставил орех кола и аллигаторов перец, которые передали по кругу, чтобы все их рассмотрели, после чего угощение вернулось к хозяину, и тот, разломив орех, сказал:
– Будем живы! Помолимся, дети, попросим у богов долгой жизни, хорошего урожая и счастья. Пусть будет дано вам – то, что хорошо для вас, а мне – то, что хорошо для меня. Пусть парят в небе рядом и коршун, и орел. А если один скажет другому «нет», да подломится у него крыло.
Когда орех кола был съеден, Оконкво принес свое пальмовое вино из угла хижины, где оставил его, войдя, и, встав в центре круга присутствовавших, обратился к Нвакиби, назвав его «отцом нашим».
– Нна айи, – сказал он, – я принес тебе этот скромный дар. Как говорят у нас в народе, человек, почитающий великого, мостит путь к собственному величию. Я пришел выразить тебе свое почтение и просить о милости. Но сначала давайте выпьем вина.
Все поблагодарили Оконкво, и соседи достали свои роги для вина, принесенные в мешках из козьих шкур. Нвакиби снял с потолочной балки свой рог. Младший из его сыновей, который был и младшим из присутствовавших, вышел в центр круга, взял кувшин и, уперев его в левое колено, стал разливать вино. Сначала он налил Оконкво, которому полагалось попробовать вино раньше всех. Потом – остальным, начиная с самого старшего. Когда все выпили по два или три рога, Нвакиби послал за женами. Пришли только четыре, остальных не было дома.
– А где Анази? – спросил он. Ему сказали, что она сейчас придет. Анази была старшей женой, и другие не могли пить раньше нее, поэтому стояли в ожидании.
Анази оказалась женщиной средних лет, высокой, крепко сбитой. Она держалась с большим достоинством, и не было ни малейших сомнений в том, кто правит женской частью большой процветающей семьи. На щиколотке у нее красовался браслет с символами титулов мужа – такой имела право носить только первая из жен.
Подойдя к мужу, она приняла рог из его рук, опустилась на колено, отпила немного и вернула рог. Потом поднялась, назвала мужа по имени и отправилась назад, в свою хижину. Остальные проделали то же самое в положенной очередности и удалились.
Мужчины продолжили выпивать и беседовать. Огбуэфи Идиго заговорил о виноделе по имени Обиако, который неожиданно оставил свой промысел.
– За этим что-то стоит, – сказал он, вытирая винную пену с усов тыльной стороной левой ладони. – Должна быть какая-то причина. Без причины и жаба на свет не вылезет.
– Говорят, Оракул предсказал ему, что он свалится с пальмы и разобьется насмерть, – пояснил Акукалия.
– Обиако всегда был странным, – сказал Нвакиби. – Я слышал, что давным-давно, вскоре после смерти отца, он отправился посоветоваться с Оракулом, и Оракул сказал ему: «Твой отец хочет, чтобы ты принес ему в жертву козу». Знаете, что он ответил Оракулу? Он сказал: «А спроси-ка моего покойного отца, была ли у него при жизни хоть курица?»
Все от души расхохотались, кроме Оконкво, этот смеялся смущенно, потому что, как гласит пословица, старухе всегда неловко, когда в ее присутствии поминают старые кости. Оконкво вспомнил своего собственного отца.
Наконец молодой человек, разливавший вино, поднял рог, наполовину заполненный густым белым осадком, и сказал:
– Еда закончилась.
– Это мы видим, – ответили остальные.
– Кто выпьет гущу? – спросил юноша.
– Тот, для кого это насущно, – ответил Идиго и озорно подмигнул старшему сыну Нвакиби, Игвело.
Все согласились, что гущу должен выпить Игвело. Тот принял наполовину полный рог из рук младшего брата и выпил. Как сказал Идиго, для молодого человека это было «насущно», потому что тот месяцем или двумя раньше взял первую жену. А считалось, что густой осадок пальмового вина полезен мужчинам, которые часто навещают своих жен.
После того как вино было выпито, Оконкво поведал Нвакиби о своих трудностях.
– Я пришел к тебе за помощью, – сказал он. – Возможно, ты уже догадался, о чем речь. Я расчистил поле, но у меня нет ямса для посадки. Я знаю, что значит просить кого-то доверить другому свой ямс, особенно в наши дни, когда молодые люди чураются тяжелой работы. Но я работы не боюсь. Ящерица, прыгнувшая с высокого дерева ироко[11] на землю, сказала: сам себя не похвалишь – никто не похвалит. Я начинаю заботиться о себе в возрасте, когда большинство молодых еще сосут материнскую грудь. Если ты одолжишь мне немного ямса для посадки, я тебя не подведу.
Нвакиби откашлялся.
– Мне приятно видеть такого юношу, как ты, в наши времена, когда молодежь стала слишком изнеженной. Много молодых людей приходило ко мне просить ямса, но я отказывал им, потому что знал: они просто воткнут его в землю и бросят зарастать сорняками. Когда я им отказывал, они считали меня жестокосердным. Но это не так. Птица энеке говорит: с тех пор как люди научились стрелять без промаха, я научилась летать без отдыха. А я научился быть бережливым. Но тебе верю. Поверил, как только увидел. Как говорили наши отцы, зрелое зерно на глаз определить можно. Я дам тебе дважды по четыре сотни клубней. Иди, готовь свое поле.
Оконкво много раз поблагодарил его и, счастливый, пошел домой. Он знал, что Нвакиби ему не откажет, но не ожидал, что тот проявит такую щедрость. Он не рассчитывал получить больше четырехсот клубней. Теперь придется расширять поле. Потому что еще четыреста клубней он надеялся получить у отцовских друзей в Исиузо. Работа в долг была очень медленным способом обзавестись собственным хозяйством. После тяжких трудов должнику оставалась только треть урожая. Но для юноши, чей отец вовсе не имел ямса, это был единственный выход. А что было того хуже в случае Оконкво, так это то, что из остававшейся ему скудной доли урожая приходилось обеспечивать мать и двух сестер. Обеспечивать же мать означало обеспечивать и отца. Она не стала бы готовить и есть, если бы муж ее при этом голодал. Таким образом, в очень раннем возрасте, отчаянно стараясь создать собственное хозяйство тяжелыми трудами, Оконкво содержал еще и отцовский дом. Это было все равно что ссыпáть зерно в дырявый мешок. Мать и сестры трудились усердно, но они могли выращивать лишь то, что под силу женщинам: кокоямс, бобы и маниок. Ямс же, король всех полевых культур, был делом мужским.
Год, когда Оконкво взял в долг у Нвакиби восемьсот клубней посадочного ямса, был худшим на памяти живущих. Ничто не происходило в положенный срок, а только либо слишком рано, либо слишком поздно. Казалось, что мир сошел с ума. Первые дожди запоздали, а когда начались, продолжались очень недолго. Вернулось ослепляющее солнце, свирепое как никогда прежде, и сожгло все ростки, которые появились из-под земли за время дождей. Земля превратилась в раскаленные угли и испекла в себе весь посаженный ямс. Как все хорошие земледельцы, Оконкво начал посадку с приходом первых дождей. Он успел высадить четыреста клубней, когда дожди прекратились и вернулась жара. Он днями напролет высматривал в небе предвестников дождевых туч и не спал ночами. Спозаранку уходил в поле и видел там увядшие ростки. Он пытался защитить их от земного жара, окружая кольцами из толстых листьев агавы. Но к концу дня листья высыхали и серели. Он менял их каждый день и молился, чтобы ночью выпал дождь. Но засуха продолжалась восемь базарных недель[12], и посадки ямса погибли.



