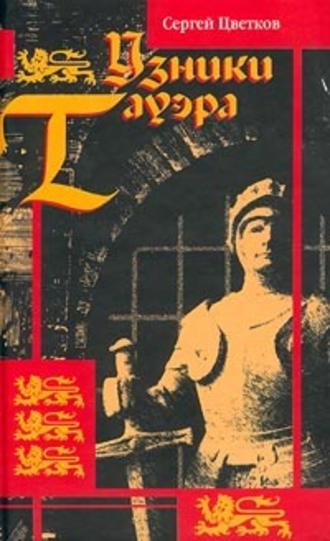
Сергей Цветков
Узники Тауэра
Филипп Исповедник и католическая обедня в Тауэре
Филипп Говард, сын лорда Томаса, герцога Норфолка, и леди Мэри Фиц-Алан, сделался известен как мученик своей веры. Иезуитские биографы называли его Филиппом Исповедником или Филиппом Обращенным. Правда, римская церковь сделала для него больше, чем он для нее, ибо все, что было сделано во славу Божью в доме Филиппа, было совершено не им, а его женой.
Ни один знатный род в Англии не менял веры так часто и легко, как норфолкские Говарды. Они первыми примкнули к церковной и государственной реформе, и сэр Томас, третий герцог Норфолк, очутился во главе завязавшегося с Римом спора. Он был дядей Анны Болейн и много содействовал разводу Генриха VIII с Екатериной и Папой. Сын сэра Томаса, известный поэт, был протестант, или, точнее, вольнодумец, а внук, тоже Томас, гордился званием гонителя католиков. Однако Филипп, представитель четвертого поколения Говардов со времен Реформации, перешел на сторону Рима и изменил Англии. Начиная с него Говарды стали переходить из одной веры в другую с принципиальностью флюгера, повинующегося преобладающему ветру: в молодости они были протестанты, в зрелые годы – гуляки, под старость – католики, или наоборот.
Подобно прочим Говардам, Филипп не желал нести свой крест – разве что нательный. В молодости он так мало походил на святого, что даже его родственники-протестанты, называвшие его не исповедником, а вероотступником, не решались опубликовать всех обвинений в распутной жизни, возведенных на него одним священником. От этого раннего биографа святого Говарда, усеченного семейной цензурой, мы узнаем, что Филипп покинул молодую жену, наделал долгов, дружил с какими-то темными личностями и затем… затем следует подозрительный пробел в биографии. По-видимому, его подозревали не только в том, что он гонялся за девицами легкого поведения, но и в более предосудительных делах. Биограф-иезуит намекает на пороки молодого Говарда, но не конкретизирует их. Знаем только, что впоследствии Филипп очень раскаивался в них и писал из башни Бошана своему духовному наставнику, отцу Саутвеллу, что, когда его освободят (он питал тогда эту надежду), он продаст все перстни и драгоценности, подаренные ему товарищами по распутной жизни, и вырученные деньги отдаст беднякам. «Впоследствии он был так далек от прежних заблуждений, – пишет далее добрый отец-иезуит, – что совершенно справедливо писал к тому же мужу, что никогда более не впадал в них после того, как сделался членом святой церкви».
Впрочем, Филипп был не столько испорченный, сколько просто слабый человек. Когда ему еще не исполнилось двенадцати лет, его женили ради денег на Анне Дакр, наследнице последнего герцога Дакра, – девушке, превосходящей его годами. У нее было угрюмое лицо и скрытный нрав, но она была добра к беднякам и очень привязана к католической церкви, каковую привязанность, правда, тщательно скрывала от свекра-протестанта. Когда свекра казнили за участие в заговоре Джона Лесли, епископа Росского, леди Анна отбросила притворство и заполонила дом иезуитами и священниками. После этого ее муж, будущий Исповедник, бежал от нее. Леди Анна любила сельское уединение, вставала с петухами и шла к заутрене; Филипп, желавший пользоваться всеми соблазнами и удовольствиями Лондона, после ночных попоек валялся в постели до полудня. Некоторое время их отношения казались вконец расстроенными, и Филипп поговаривал о намерении объявить свой брак недействительным. Однако неотступные просьбы жены и уговоры родственников все-таки загнали разгульного мужа обратно под домашнюю кровлю. В этот краткий период семейного примирения у них родился сын. Но затем Филипп не выдержал и вновь ударился в разгул.
Много лет продолжалась борьба леди Анны и католической церкви за душу ее мужа.
Унаследовав после смерти матери поместья и титул графа Арундела, Филипп решил занять место при дворе. Однако ему было нелегко блистать красотой и умом при тогдашних фаворитах Елизаветы – Рэйли и Лестере, и Филипп постарался превзойти их в роскоши. Когда королева посетила его в Кенинг-холле, он пригласил в гости все Норфолкское графство. Но Елизавета продолжала смотреть на него с улыбкой, в которой было больше насмешки, чем симпатии. Издержав состояние и наделав долгов, Филипп, наконец, одумался. Леди Анна воспользовалась этой минутой раскаяния и предложила супругу свои деньги и свою любовь. Она заплатила его долги, окутала его лаской, и – о чудо! – придворный кутила превратился в примерного семьянина, а после не очень долгого сопротивления он сделался и католиком. И то и другое было не чем иным, как формами оппозиции двору.
Душой новообращенного графа полностью овладел некто отец Грэтли. Человек недалекий, он вел переписку с отцом Джифордом, жившим в Париже и состоявшим на службе у английского правительства. Таким образом, каждое слово, сказанное Филиппом на исповеди или в беседе с отцом Грэтли, становилось известным властям. Тем не менее, отец Грэтли был помешан на конспирации и договорился с Филиппом о тайном условном пароле: «Черное есть белое, белое есть черное».
Немудрено, что карьера Филиппа при дворе была далеко не блистательна. Поскользнувшись на скользкой тропе фаворитизма, Филипп решил покинуть неблагодарное отечество без разрешения королевы и искать убежища у испанского короля Филиппа II, чтобы стать предводителем английских эмигрантов-католиков. Это было тяжелое преступление, так как Филипп II занимался в это время снаряжением «Непобедимой армады», а Филипп Говард, в чьих жилах текла кровь Эдуарда I, и чей щит был украшен гербом Эдуарда Исповедника, имел права на английский престол, что делало его очень выгодным союзником для испанского короля.
Филипп нанял корабль и, дождавшись попутного ветра, пустился в путь. Однако ночью красный фонарь, вывешенный на корме его судна, был замечен военным кораблем, которым командовал капитан Хеллуэй. Филипп принял его за пирата и на вопрос, куда и зачем он плывет, откровенно ответил, что направляется в Кале. Хеллуэй, продолжая разыгрывать роль пирата, сказал, что отпустит его, если он даст ему расписку к доверенному лицу на получение ста фунтов стерлингов. Филипп без колебаний написал письмо сестре, леди Маргарет Саквелл, с поручением отправиться к отцу Грэтли и выдать подателю расписки указанную сумму. А во избежание недоразумений он выставил условный знак: «Черное есть белое, белое есть черное». Капитан взял письмо, внимательно прочитал и положил в карман, после чего объявил, что он вовсе не пират, а офицер и государственный чиновник, который послан правительством схватить изменника на месте преступления.
25 апреля 1585 года беглец стал узником Тауэра. Филипп был обвинен в трех преступлениях: в намерении, оставить Англию без разрешения королевы; в перемене вероисповедания; в предложении иностранному государю (Филиппу II) возвести его в сан герцога Норфолка. Суд приговорил его к штрафу в тысячу фунтов стерлингов и тюремному заключению.
Леди Анна оставалась на свободе и лишь изредка привлекалась к допросам относительно ее домашних. С помощью иезуитов ей удалось отвертеться от всех обвинений.
Филиппа поместили в башне Бошана, в комнате, служившей темницей Доброму лорду Кобгему, «королю» Гилфорду, Кортни Белой розе и шпиону-моралисту месье Шарлю. В продолжение целого года условия его содержания были довольно строгие. К узнику приставили тюремщиками нескольких дворян, которые никогда не оставляли его одного. Впоследствии ему дозволили иметь своих слуг; впрочем, от них было мало проку, так как тюремная жизнь скоро сломала их, и за ними пришлось ухаживать больше, чем за их господином. В результате главным распорядителем в покоях Филиппа стал Роджер, слуга коменданта.
Леди Анна потратила много усилий и денег, чтобы увидеться с мужем. Но она непременно встречала отказ в своих просьбах, хотя к другим заключенным допускали жен. Тогда она решила укрепить дух мужа силой религии. В ее голову пришла невероятно дерзкая мысль: отслужить в Тауэре мессу – под носом у королевы, в ее твердыне, охраняемой цепями, пушками и солдатами! В год нашествия «Армады» (1588) леди Анна хотела, чтобы в Тауэре молились за успех испанского оружия!
В Колокольной башне, сообщавшейся с башней Бошана посредством галереи, известной под названием Арестантской Прогулки, в то время содержался старый патер Уильям Бенет. В прошлом он не раз менял религию, но теперь, в ожидании испанского вторжения, он был пламенный католик. Леди Анна обратилась к миссис Гоптон, дочери коменданта Тауэра, сэра Оуэна Гоптона, и с помощью тридцати фунтов стерлингов убедила ее отпереть дверь в галерею, чтобы отец Бенет мог свободно входить в комнату Филиппа.
Первая часть плана удалась: Филипп имел священника. В его комнате был устроен импровизированный алтарь и собрано все нужное для совершения богослужения. В назначенный день Филипп пригласил к себе других узников-католиков – сэра Томаса Джерарда из Ланкашира и Уильяма Шелли, собеседника незадачливого Генри Перси, графа Нортумберленда. В присутствии этих джентльменов отец Бенет отслужил обедню и молебен за победу Испании. Филипп исполнял при этом обязанности причетника, а его коленопреклоненные гости составили хор певчих.
Позднее, когда испанские корабли стояли в Ла-Манше, молебен повторился, и все католические узники Тауэра день и ночь твердили молитвы о взятии испанцами Лондона. Все это время Филипп пребывал в приподнятом настроении; он мечтал, что вскоре станет королем, и обещал отцу Бенету, что первым его королевским распоряжением будет указ о возведении его в звание ректора собора Святого Павла.
Но «Непобедимая армада» пошла на дно, и член Совета лорд Гаттон явился в Тауэр для расследования истины. Елизавета не без оснований полагала, что одно дело – иметь свой взгляд на пресуществление Святых Даров, а другое – молиться о победе врага. Были собраны несомненные доказательства последнего преступления. Отец Бенет, Томас Джерард и Уильям Шелли под пыткой признались в содеянном и выдали Филиппа, пытаясь свалить всю вину на титулованного узника.
Весной 1589 года Филипп был предан суду по обвинению в государственной измене. Отец Бенет и оба католических джентльмена были главными обвинителями, так что лордам оставалось только вынести свой приговор. Леди Анна и тут не была арестована, – видимо, ее участие в этом деле осталось судьям неизвестным. Она лишь потеряла доходы с конфискованных поместий мужа.
Елизавета пыталась дать Филиппу шанс избежать смертного приговора. На суде ему был предложен вопрос: полагает ли он, что Папа вправе лишить королеву престола? Одно слово – «нет» – могло его спасти. Но Филипп заявил, что не хочет отвечать. На вопрос, будет ли он защищать королеву от нападения иноземного государя, он твердо ответил «да». Однако спрошенный, выступит ли он против Папы, Филипп вновь промолчал, и тогда лорд-сенешаль граф Дерби произнес смертный приговор.
На другой день Филипп написал два письма – к лорду-канцлеру и иезуиту отцу Саутвеллу. В первом он просил королеву простить ему его вины ввиду его чистосердечного раскаяния; во втором он объяснял духовному руководителю, что его слова, обращенные к королеве, имеют двусмысленное значение, так как он раскаивается только в мелких проступках, совершенных за время придворной службы. Он оставался верен иезуитскому паролю: «Черное есть белое, белое есть черное».
Елизавета придерживалась мнения, что этого слабого и изворотливого человека следует оставить в покое. Довольно проливать кровь Говардов (отец и дед Филиппа сложили головы на плахе), те были опасны, а этот нет. Неизвестно, поверила ли королева его раскаянию, но она решила сохранить ему жизнь, несмотря на приговор суда пэров.
С этого момента наступила лучшая часть жизни Филиппа, которая дала право его католическим биографам назвать его святым и исповедником. Оставаясь в заключении в башне Бошана, он составил план, как жить в Боге согласно правилам его церкви, и остаток земного бытия посвятил молитве и посту. Он молился два часа утром, полтора часа днем и еще четверть часа перед сном исповедовал сам себя. Вскоре он прибавил к молитвам чтение церковных служб. Сразу после смертного приговора он начал поститься трижды в неделю: в понедельник, среду и пятницу (позднее, когда его здоровье расстроилось, он позволил себе есть говядину и рыбу – один раз в неделю). Он также совершенно отказался от вина и употреблял его только изредка, как лечебное средство при несварении желудка. В сочельник, Преображение, Успение и праздники Тела Господня благочестивый узник совсем не прикасался к пище и питью. При этом он тщательно скрывал все это, для чего взял в слуги человека с неуемным аппетитом, который и поглощал все, от чего отказывался Филипп, так что новый наместник сэр Майкл Блунт даже и не догадывался, что Тауэр превратился в жилище аскета.
Воздержание Филиппа от единственных удовольствий, доступных заключенному, продолжалось десять лет. Однако этот строгий постник умер от панкреатита, после того, как однажды в конце долгого поста набросился на дичь. Конечно, некоторые уверяли, что его отравили, но тот слух, никем не поддержанный, затух сам собой.
Перед смертью Филиппа сэр Майкл Блунт отправился к нему, чтобы попросить прощения во всем, в чем он мог провиниться, исполняя свои обязанности тюремщика.
– Вы просите у меня прощения? – произнес умирающий. – Хорошо, я вас прощаю, так же, как, надеюсь, меня простит Господь, – и протянул Блунту руку.
Однако спустя минуту Филипп воскликнул:
– Вы очень жестоко обходились со мной!
– В чем именно, милорд? – возразил удивленный наместник, не ведавший за собой ничего подобного.
– Я не хочу вспоминать все, что было, но помните, добрый господин наместник, что Бог может сделать вас узником в той темнице, где вы теперь держите других.
Эти странные, едва ли осмысленные слова оказались пророческими. Действительно, не прошло и двух месяцев после смерти Филиппа, как сэр Майкл потерял свое место и был заточен в той же башне Бошана, где услышал предсказание своей судьбы.
Глава пятая
Тауэр в царствование Якова I
Уолтер Рэйли
Это имя носил знаменитейший и интереснейший узник, когда-либо содержавшийся в Тауэре. Его трижды бросали в королевскую тюрьму, где он за долгие годы своего пребывания сменил много помещений. Большая часть его заточения прошла в Кровавой башне и Садовом доме, одна из террас, прилегающих к саду, по сей день называется Прогулкой Рэйли, многим комнатам и клетям в других башнях приписывается значение его темниц, хотя он никогда в них не находился.
Во время его заточения Тауэр превратился в Академию наук и искусств или некую творческую лабораторию. Здесь Рэйли посещали известные поэты, ученые, изобретатели и лучшие умы своего времени (он был другом Шекспира и Бэкона), которые приходили сюда поболтать с ним, обсудить античные древности или философские вопросы, уточнить карту Вирджинии или поспорить о действенности того или иного медицинского снадобья; в Садовом доме Рэйли гнал различные спирты и эссенции, приготовлял свою знаменитую микстуру, изобрел способ превращать соленую воду в пресную, написал «Всемирную историю».
Об этом человеке в Англии создано больше книг, чем о каком-либо другом из его современников, за исключением Шекспира. Рэйли стал одним из любимейших героев английских преданий и английской истории. Между тем он отнюдь не был приветливым и любезным человеком, напротив, он был горд и себялюбив, подчас жесток, а жизненный путь его выглядит чрезвычайно несчастливым. Но он был личностью, и это обстоятельство придает вес всем его поступкам и даже неудачам. Подобных людей можно любить или не любить, но их нельзя не заметить или, заметив, просто пожать плечами. Рэйли не терялся даже в поколении гигантов XVI – начала XVII века, ибо они были велики в каком-нибудь одном отношении, он же был выдающимся человеком во всем. Ему не было надобности учиться у профессоров или специалистов – это они кое-чему учились у него. Сочиненные им песни приводили в восхищение Спенсера, а в прозе он не имел себе равных. Бен Джонсон советовался с ним в вопросах драматического искусства, Бэкон считал за честь соперничать с ним в красноречии, Майерн брал у него уроки физики; он танцевал лучше всеми признанных мастеров этого дела, он затмил блеском всех прежних фаворитов, богословы признавали свое поражение после споров с ним, искатели приключений смотрели на него как на предводителя всех мореходов, а корабелы учились у него строить корабли. При всем том он был еще и красивейшим мужчиной елизаветинского двора. Поэт, ученый, воин, моряк, придворный, оратор, историк, государственный муж – казалось, не было сферы человеческой деятельности, где бы он не продемонстрировал свой талант и специальные знания. В одну свою жизнь Рэйли уложил дюжину человеческих жизней.
В историческом отношении его деятельность была направлена на возвеличивание Англии. Именно он, основав Вирджинскую колонию, сделал свою родину матерью США.
Во времена Рэйли владычицей на суше и на море была Испания. Филипп II (как и его преемник Филипп III) считал английский народ еретиками, обратить которых на путь истинный составляет его священный долг. Он посылал в Лондон шпионов и наемных убийц и отправлял целые эскадры к ее берегам. При помощи американского золота он создавал врагов Англии внутри нее самой, в Шотландии и на континенте. Он закрывал моря для английских кораблей. Каждый противник Англии и королевы находил в нем друга и союзника. Одним словом, современники Рэйли видели в Испании смертельного врага их родины.
Рэйли питал к Испании такую же ненависть, как Ганнибал к Риму. Мечом и пером он боролся с ней всю свою жизнь – в Гвиане, Кадиксе и Вирджинии. Но борьба была неравной, и, в конце концов, он – английский подданный – был умерщвлен в Тауэре по приказу испанского короля.
Первое пребывание Рэйли в Тауэре, которое едва ли можно назвать заточением, относится еще ко временам правления Елизаветы. Оно последовало после обольщения им Бесси Трокмортон, одной из звезд елизаветинского двора. Бесси была сиротой, и все юные лорды при дворе ухаживали за хорошенькой умной девушкой. Высокого роста, грациозная, с голубыми глазами и золотистыми локонами, она представляла разительный контраст с Рэйли, который пугал и одновременно очаровывал ее своей жгучей и несколько мрачноватой красотой загорелого лица в обрамлении смоляных прядей волос. Бесси слушала его пламенные речи, как пастушки слушали соблазнительные слова пастушков в тех идиллических поэмах, которые начали тогда входить в моду. Но Рэйли отнюдь не был наивным и грубоватым пастушком, и хотя Эдмунд Спенсер, воспевая отважного морехода, и называл его «пастухом океана», однако признавал, что Рэйли знал в совершенстве не только мореходное искусство, но и искусство вызывать любовь. Вскоре весть об обольщении им молоденькой фрейлины дошла до Елизаветы.
Королева была огорчена и возмущена. Рэйли, ее фаворит, не только изменил ей, но опозорил ее двор и свое имя. Елизавета была для Бесси вроде матери, и потому друзья Рэйли дали знать ему в Чатем, откуда он собирался отправиться в новую экспедицию, что ему придется остаться в Англии и жениться.
– Жениться! – воскликнул Рэйли. – На свете нет никого, с кем бы я согласился связать свою судьбу!
Но королева была не из тех женщин, которые легко прощают провинившихся любовников, даже если они являются юными красавцами, и когда Рэйли вышел в море на «Гирлянде» с целью перехватить испанский флот, везший серебро, она послала за ним сэра Мартина Фробишера на быстром ботике «Презрение».
Арестованный и привезенный в Лондон, Рэйли был отдан под надзор сэра Джорджа Карю, начальника артиллерии Тауэра и его родственника, и жил в Кирпичной башне – до тех пор, пока не женился на обесчещенной девушке. Обвенчавшись с Бесси, он вышел из тюрьмы под руку с прекрасной женой, которая являлась одновременно его славой и его позором. Елизавета вроде бы простила фаворита, но в глубине души она разочаровалась в Рэйли и уже более не смотрела на него как на прежнего благородного и незапятнанного героя.
С 1602 года Елизавета начала медленно угасать. Она не хотела умирать и теперь, когда жизнь уходила, со страшным упорством привязывалась к ней, охотилась, танцевала, кокетничала и шалила в свои шестьдесят семь лет, как и в тридцать. «Королева, – писал один придворный за несколько месяцев до ее смерти, – в течение многих лет не была так галантна и так весело настроена, как теперь».
Но смерть была близка, и Елизавета чувствовала это. Она похудела и превратилась почти в скелет. Наконец силы оставили ее, она утратила стремление к изяществу и по целым неделям не меняла платье. Ею овладела меланхолия, она потеряла память, характер ее сделался невыносим. Даже обычная храбрость покинула королеву, и она требовала, чтобы рядом с ней постоянно лежал меч, которым она время от времени ударяла в драпировки, словно хотела поразить спрятавшегося там убийцу. День и ночь она просиживала в кресле с приложенным к губам пальцем, с устремленными в пол глазами, не произнося ни слова.
23 мая 1603 года лорды Совета пришли к ней, чтобы обсудить вопрос о престолонаследии. Она отвергла всех предлагаемых в наследники лиц и только при упоминании имени шотландского короля Якова VI, сына Марии Стюарт, сделала неопределенное движение головой. На следующее утро она скончалась.
Правами на английский престол обладали несколько лиц, в том числе представители рода Суффолков, родственников Девятидневной королевы, и Арабелла Стюарт, внучка леди Маргариты Леннокс от ее младшего сына, брата Дарнлея. Однако интересы большинства лордов сошлись на Якове VI. Для католиков главным аргументом в его пользу было то, что он являлся сыном Марии Стюарт; пуритане уповали на тo, что он был воспитан в кальвинизме. Одним словом, Яков олицетворял собой религиозный компромисс.
Яков был королем с детства, но в течение многих лет, после изгнания Марии Стюарт, юноша был игрушкой в руках шотландских лордов. Беспомощный среди грубых войк, он, тем не менее, был умен не по годам и удивлял придворных своими речами «о знании и невежестве». Его учителями были республиканец Бьюкенен и пуританин Нокй, но проповедуемые ими теории являлись в глазах Якова олицетворением мятежа и покушением на его королевские права. Впоследствии он называл сочинения своих учителей «гнусными инвективами» и хотел ввести наказание для их читателей.
Яков свято верил в божественное происхождение своих прав. В общем-то, в это верили и бароны, и это обстоятельство помогло Якову их одолеть. В 1603 году, после смерти Елизаветы, он приехал в Лондон, преисполненный торжества от своей победы над кальвинизмом и демократией. В Англии он стал править под именем Якова I.
Новый король обладал далеко не королевской внешностью – огромной головой и искривленными от ревматизма ногами; к этому добавлялось заикание и наклонность к довольно низкопробному шутовству. При всем том Яков был образованным человеком, остроумным, проницательным и не лезущим за словом в карман. Иронией и шуткой он умел сгладить остроту религиозного или политического спора. Он обнаруживал огромную начитанность, особенно в богословских вопросах, и был автором объемистых проектов о всякого рода предметах – от курения табака до доктрины божественного предопределения. Это не мешало Генриху IV Бурбону называть его «самым мудрым дураком в королевстве». Действительно, Яков обладал характером педанта и отличался любовью к отвлеченным теориям. Если в Шотландии он обнаружил недюжинные политические способности, то Англию новый король не знал и не понимал. Он явился в Лондон чужестранцем и так навсегда им и остался. Образованность и начитанность, быть может, и уберегли его от глупостей, зато он не сделал и ничего разумного.
Яков I страдал недугом, редко наблюдаемым у шотландцев, – трусостью. Он не был добр и мягкосердечен, напротив, наслаждался чужими страданиями и часто ездил в Тауэр, чтобы любоваться пытками. Однако вся его жизнь состояла из одного нескончаемого припадка трусости. Он падал в обморок при виде обнаженного меча и дрожал при громе пушек в торжественные дни; одно имя известного испанского полководца могло заставить его считать войну заранее проигранной. Этой чертой его характера воспользовались его советники. Они наполнили его воображение ужасными картинами убийств и тайных отравлений, так что даже во сне король постоянно видел иезуитов и заговорщиков.
Самую могущественную партию при дворе, из тех, которые боролись за влияние на короля, составляла группа лиц – государственный секретарь Роберт Сесил, лорд Генри Нортгамптон и его брат граф Суффолк. Все они имели единственную цель – возвышение рода Говардов, к которому принадлежали или с которым породнились. Эти люди выступали за мир с Испанией, так как они знали, что в случае войны вся власть перейдет к их противникам, знаменитым полководцам – Рэйли, Нортумберленду, Грею. А поскольку Якову нужно было только спокойствие, он охотно прислушивался к доводам Сесила и Нортгамптона, которым испанский король Филипп III щедро платил за их миролюбие. Именно партия Говардов и несет ответственность за то, что в царствование Якова I в Тауэре содержались и умирали патриоты и ни в чем не повинные люди. Одним из таких людей был Рэйли.
При восшествии на престол Якова I Рэйли был вновь заточен в Тауэр, но на этот раз за дело, которое делает ему честь, – он вернулся туда жертвой за отечество. Король частным образом узнал, что мир с Филиппом III может быть заключен только при одном условии – гибели человека, который дал клятву вечной вражды с Испанией. Иначе говоря, первым шагом к миру должно было стать заточение Рэйли.
Во втором заточении Рэйли был помещен в Кровавую башню, под непосредственный надзор наместника Тауэра сэра Джона Пейтона, которому разными намеками дали понять, что если он доведет узника до смерти, то получит место губернатора Джерси – одну из высоких должностей, занимаемых Рэйли. Однако чтобы уморить такого узника, надо было иметь не только душу злодея, но и определенное мужество, которым Пейтон отнюдь не обладал. Наместник обходился с заключенным не столь сурово, сколь низко. Тем не менее, Рэйли пришлось отчаянно бороться за свою жизнь.
Предлогом к его заточению послужил один его разговор с лордом Кобгемом. Кобгем был человеком разочарованным. Большая часть его родственников занимала видные посты: его зять Роберт Сесил был государственным секретарем, его тесть Эфингем состоял в звании лорда-адмирала, двоюродный брат его жены, лорд Нортгамптон, являлся членом королевского Совета, и только его великие таланты никем не признавались. Тогда ему пришло в голову, что он может добиться желаемого, став сторонником Арабеллы Стюарт и ее прав на престол. Кобгем был уверен, что в этом деле он может рассчитывать на помощь Испании. Он рассказал о своем проекте Рэйли, который рассмеялся ему в лицо. Однако самого факта этой беседы было достаточно, чтобы Сесил привлек Рэйли к суду как соучастника «заговора Арабеллы Стюарт».
Никто лучше самого Сесила не знал, что «заговор Арабеллы» существует лишь в голове одного человека – лорда Кобгема; сама внучка леди Леннокс и не подозревала, что сделалась заговорщицей. Но государственный секретарь и партия Говардов решили воспользоваться этим мифическим заговором, чтобы свалить своих врагов, в числе которых был и Рэйли.
Кобгем был заключен в Тауэр вместе с Рэйли, но помещен в гораздо лучшие условия – он жил в Наместничьем доме и обедал за столом Пейтона. При дворе лорд Кобгем выглядел гордым, надутым бароном, в Тауэре он сделался низким, презренным рабом. Жизнь он ценил больше, чем незапятнанное имя и чистую совесть.
Главе мнимого заговора передали, что единственный способ спастись для него – это сдать Рэйли. И Кобгем дал показания, что Рэйли разделял его планы по возведению на престол Арабеллы Стюарт. Сразу после этого распространился слух, что Рэйли, сидя за обедом, схватил нож и с криком: «Все кончено!» – вонзил его себе в грудь. Сесил тут же объявил, что попытка самоубийства доказывает вину узника. Однако не исключено, что вся эта история была выдумана врагами Рэйли. На суде о ней не обмолвились ни словом, да и Рэйли был не такой человек, чтобы не довести до конца задуманное. Позднее, когда у него хотели забрать из комнаты все спирты и яды, под предлогом заботы о его жизни, он с презрением заметил: «Если бы я хотел умереть, что помешало бы мне разбить себе голову об эту стену?»
Возможно, что слух о самоубийстве был пущен Говардами для испытания общественного мнения. Яков боялся одного имени Рэйли. «Я слыхал о тебе, человек», – сказал он герою Гвианы и Кадикса вместо приветствия при первом свидании. Действительно, имя Рэйли обладало такой силой, о которой мог бы призадуматься государь и похрабрее Якова. Уже Елизавета в дни молодости Рэйли была изумлена его популярностью во флоте, а лорд Эфингем, его враг, однажды в признание его заслуг смахнул пыль с сапог Флибустьера полой своего шелкового плаща. Поэтому нет ничего удивительного в том, что такие дальновидные люди, как Сесил и Нортгамптон, сочли благоразумным вначале узнать, как отнесутся Лондон и флот к вести о возможной Смерти Рэйли.
Результаты, вероятно, заставили их отложить мысль о насильственных мерах. Через несколько дней пришло известие о полном выздоровлении Рэйли, а Пейтон передал свои полномочия Джорджу Харви.
Началось единоборство Сесила и Рэйли за душу лорда Кобгема. Силы, однако, были неравны: государственный секретарь обладал властью и находился на свободе, а заключенный мучился от бессилия и пребывал в заточении. Первый вопрос, вставший перед Рэйли, был: как добраться до Кобгема? Подкупить Харви не удалось, и тогда Рэйли подружился с сыном наместника, который согласился стать посредником в его переписке с Кобгемом.
Несколько недель заточения так расшатали нервы Кобгема, что каждый день он давал новые показания: то оговаривал Рэйли, то твердил о его невиновности; сегодня он плакал от сознания собственной слабости, а назавтра возвращался к первоначальному обвинению. Строгие взгляды судей заставляли его произносить ложь, но силы покидали его, когда нужно было подтвердить ее под присягой. Наконец непосредственно перед судом молодой Харви доставил Рэйли в Кровавую башню окончательное решение Кобгема: он письменно отрекался от всех обвинений и призывал Бога в свидетели, что теперь, и только теперь, говорит правду.







