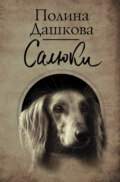Полина Дашкова
Источник счастья
Москва, 1916
Старуха не только смазывала раны своего сына плесенью иссопа, но еще и кормила его с ложки этой гадостью. Рядовой Иван Карась выжил. А вот пехотный унтер Самохин, которому ампутировали правую руку, умер, хотя заживление у него шло отлично.
– От тоски, – объяснил Тане его сосед.
– У него оказалась грудная жаба, – сказал Михаил Владимирович, – я, старый дурак, проворонил.
Карася перевели в другую палату. В мастерской при госпитале для него сделали примитивную инвалидную коляску. Целыми днями в сопровождении своей матери он разъезжал по коридорам, привязанный к доске на колесах, учился отталкиваться от пола короткими костылями.
Унтера снесли на кладбище. На освободившиеся койки положили двух новых раненых.
– Папа, это правда, что святые Косьма и Дамиан пришили человеку чужую ногу? – спросила Таня.
– Не знаю. Они жили в третьем веке в Риме, были хирургами. Есть полотно Франческо Бетулино. Напомни, дома я покажу тебе репродукцию. Нога на полотне черная. Возможно, ее, правда, пересадили от чернокожего человека. Но, скорее всего, нога почернела. Чужая конечность не прижилась, началась гангрена. Вообще, попытки пересадки живой ткани в большинстве случаев заканчиваются неудачей. Организм воспринимает их как враждебные и отторгает. Когда-нибудь, лет через пятьдесят, наука справится с этим.
От госпиталя до дома они шли пешком. Было первое по-настоящему весеннее утро. Небо расчистилось, солнце сияло в лужах и в оконных стеклах. Таня ловко обходила лужи, но все равно забрызгала грязью и промочила насквозь свои кремовые замшевые ботинки на высоких каблуках.
– Говорила тебе нянька: надень боты! – ворчал Михаил Владимирович. – Никогда никого не слушаешь, всегда поступаешь по-своему, даже в мелочах.
У храма Большого Вознесения толпились нищие. Шла обедня.
– Зайдем? – спросила Таня.
– Ну, если ты так хочешь, – профессор зевнул, – честно говоря, я мечтаю поскорей принять ванну и выспаться.
– Не волнуйся, мы недолго.
Тане хотелось поставить свечи, подать записки о здравии своего полковника и за упокой души унтера Самохина. В Бога она верила искренне и просто, как в раннем детстве, когда в храм ее водила нянька, так и сейчас. В гимназии многие прогрессивные барышни над ней смеялись. Барышни ее возраста и старше увлекались спиритизмом, читали «Теософский вестник», ходили к медиумам и гадалкам. Быть православной в культурном кругу считалось не то что старомодным, но почти неприличным. Брат Володя нарочно при Тане издевался над церковью, священников называл «попиками», зачитывал сплетни из бульварных газет о распутстве и обжорстве монахов, о гомосексуализме среди высшего духовенства. Таня никогда не спорила, старалась уйти, потом горячо, до слез, молилась за брата. Она знала, какими мерзостями занимается Володя в своем веселом оккультном кружке.
Михаил Владимирович атеистом не был, но церковь считал всего лишь одним из государственных учреждений. Танины чувства щадил, в храме аккуратно крестился и в Великий пост не ел скоромного.
Когда поднялись на паперть и стали раздавать нищим мелочь, крошечная, похожая на птичью лапку рука вцепилась в подол Таниной белой шубки.
– Помоги, помоги…
Высокий голос звучал совсем тихо, но заглушал остальные голоса. Существо в истлевшей гимназической тужурке, в кальсонах и огромных кирзовых сапогах смотрело на Таню выпуклыми карими глазами без ресниц. Голова была замотана рваной вязаной шалью. Маленькое сморщенное лицо казалось злой карикатурой и на ребенка, и на старика, и вообще на человека. Здоровая баба в лохмотьях дернула ребенка-старика за ворот тужурки, прошипела:
– Оська, черт, не тронь благородную барышню, отцепись, замараешь дорогую шубку! Иди к своей синагоге, там проси, не здесь! Барышня-красавица, подай на хлебушек солдатской вдове, пожалей деток-сироток!
То ли баба встряхнула Оську слишком сильно, то ли сам он едва держался на ногах, но ребенок-старик стал вдруг медленно падать, и так получилось, что упал он Тане на руки. Михаил Владимирович приподнял голое веко, пощупал пульс.
– Обморок, – тихо сказал он Тане.
Она держала мальчика на руках, он был странно легким, почти бесплотным. Профессор побежал за извозчиком. Через двадцать минут вместе с ребенком-стариком они вернулись в госпиталь. По дороге он очнулся. Сказал, что чувствует себя хорошо, зовут его Иосиф Кац, ему через месяц будет одиннадцать лет.
– Где твои родители? – спросил Михаил Владимирович.
– Дома, в Харькове, – ответил мальчик.
Пока Таня вместе с сестрой Ариной мыла его и кормила, он успел рассказать, что учился в первом классе гимназии и сбежал из дома с бродячим цирком. По дороге в повозку попала немецкая бомба, все погибли, а он выжил, но стал седым от пережитого ужаса.
– Так родители твои ищут ведь тебя, волнуются, – покачала головой сестра Арина.
– Ничего. Я им телефонировал, – ответил мальчик, – они все знают.
– Что – все? – спросила Таня.
– Что я в Москве и буду поступать в театр. Я хочу сыграть шута в «Короле Лире». Вот только поправлюсь, то есть вылечусь.
Когда мальчика стал осматривать Михаил Владимирович, ребенок болтал без умолку. Признался, что из дома не сбегал, просто так получилось случайно. Давно, еще летом, на полянке возле дачи сел немецкий аэроплан. Летчик спросил Осю, где тут ближайший трактир, и ушел обедать, а Ося залез в кабину, стал крутить руль, нажал на рычаг, аэроплан возьми и взлети. Ося сначала испугался, но потом ему понравилось, он летел выше облаков и даже взял пассажира, старого ворона Ермолая. Ворон этот жил когда-то на дереве возле дома Оси, был умный и добрый, умел говорить, ел с рук, но потом пропал. И вот Ося встретил его в небе, взял в кабину своего аэроплана. Ворон рассказал, что сбежал от филеров охранки, поскольку сочувствовал социал-демократам, ночами расклеивал листовки и мерзавцы воробьи донесли на него.
– Мы с Ермолаем летали, пока не замерзли. В небе ведь холодно, холодней, чем на земле. Приземлились ночью в Москве, в Нескучном саду. Было темно, никто нас не видел. Мы зарыли аэроплан в клумбу. Я решил остаться в Москве инкогнито, поменять фамилию и стать великим артистом кинематографа, как господин Чаплин. Ермолай побоялся остаться. За ним охотились филеры, у него не было паспорта, и он нарушил черту оседлости. Мы попрощались.
– Где же ты живешь? – спросил профессор, прощупывая железки у ребенка на шее.
– Теперь нигде. А раньше на Малюшинке, в странноприимном доме, там кухарка Пелагея Гавриловна добрая женщина. Я ей помогал чистить картофель и газеты читал с выражением. Но потом у нее случилась личная драма. Ее интимный друг Пахом стал изменять ей с дочкой хозяина дома. Пелагея Гавриловна запила. Как напьется, так сначала плачет, а потом бьет меня чем попало, кричит, будто я продал Христа. Я пробовал ей объяснить, что это преступление произошло очень давно, тысяча девятьсот шестнадцать лет назад и я в нем участвовать никак не мог. Но она злилась еще больше, махала кочергой, потом заявила, что я немецкий шпион, масон, погубил Россию, пеку мацу на крови христианских младенцев. Я говорил, что пищу с кровью евреи не едят, она не кошерная, и мацу делают только из воды и муки, даже соли не кладут.
– Ося, ты помнишь, когда и как ты заболел? – спросил Михаил Владимирович.
– Лет в пять, наверное. Сначала я стал худеть. Мама кормила меня изо всех сил, но я худел. Я был бледный, и кожа совсем сухая, сморщенная. Потом побелели волосы, и я стал задыхаться, как побегаю немного, так задыхаюсь.
– Родители показывали тебя каким-нибудь докторам?
– Конечно. Меня смотрели лучшие доктора Харькова, даже сам профессор Лямпорт.
– Лямпорт? Иван Яковлевич? Очень интересно. Ты помнишь, что он сказал?
– Отлично помню. Он сказал, что я умный мальчик, что все пройдет. Надо есть больше мяса, овощей и фруктов, быть на свежем воздухе, обтираться холодной водой и делать гимнастику. – Ося вдруг раззевался, принялся тереть глаза.
Когда Михаил Владимирович уложил его на кушетку и прощупывал живот, ребенок уснул как убитый. Профессор накрыл его пледом, задернул шторы в кабинете.
– Он не заразный? – шепотом спросил пожилой фельдшер Васильев, который все это время был в кабинете.
– Нет.
– А что же это? Чем он хворает, бедняга?
– Пока не знаю. Может, крайняя степень истощения. Но говорит он живо, соображает отлично. При такой тяжелой дистрофии возникают психические нарушения, астения, депрессия, психозы.
– Да уж, с головой у него все в порядке, – фельдшер хмыкнул, – шустрый, даже слишком. Сказки рассказывает, про аэроплан, про ворона. А вдруг и про возраст свой тоже наврал?
– Ну сколько ему может быть, как вы думаете?
Васильев на цыпочках подошел к кушетке, при тусклом свете стал вглядываться в лицо Оси. Во сне он больше походил на ребенка, чем на старика. Морщины разгладились, щеки и губы порозовели. Тень падала так, что не видно было седины и стариковской плеши на круглой голове.
– Неужели правда ему только одиннадцатый год? – спросил фельдшер.
– Да. Вряд ли больше. Но организм его изношен, как у семидесятилетнего старика.
– Господи, помилуй, сколько же ему осталось?
– Год, полтора. Сердце слабое. Как проснется, покормите еще раз и дайте побольше теплого сладкого питья.
– Михаил Владимирович, вы хотите его здесь оставить?
– Хочу, не хочу, но деваться ему пока некуда.
– Так ведь мест совсем нет, все койки заняты, – возразил фельдшер, – и его превосходительство узнают, будут возражать.
– Я не сказал, чтобы вы клали его в палату к раненым. Этого не нужно. Пусть ночует здесь, в моем кабинете. Принесите ему белье, подушку, зубную щетку, мыло, полотенце. А с его превосходительством я объяснюсь.
В вестибюле Михаил Владимирович увидел дочь. Таня дремала в углу, в кресле.
– Я же велел тебе взять извозчика и ехать домой.
Таня зевнула, потрясла головой, чтобы проснуться, и спросила сиплым, севшим голосом:
– А где Ося?
– Спит у меня в кабинете.
– Ты понял, что с ним?
– Боюсь, что да. Хотя это совершенно невероятно.
Москва, 2006
Ключи, перчатки, кошелек. Эти три предмета казались Соне заговоренными. Они всегда исчезали в самый неподходящий момент, когда надо было срочно выбегать из дома. Папа в таких случаях говорил: «Шишок, Шишок, поиграй и отдай!» – и волшебным образом все находилось, будто правда жил в тесной городской квартире капризный маленький домовой. Папу он слушался, Соню – нет.
Она металась по комнатам, по кухне, заглядывала во все шкафы и ящики. Перчатки пропали бесследно. Оставалась надежда, что Соня забыла их в машине. Кошелек валялся на полке в ванной. Ключи Соня взяла папины, они лежали в кармане его дубленки. В том же кармане Соня обнаружила мятую цветную картонку. Это была карточка гостя отеля «Кроун» в городе Зюльт-Ост, Германия.
«Зюльт, Зюльт», – повторяла про себя Соня, сбегая вниз по лестнице.
Ее старенький голубой «Фольксваген» стоял во дворе, занесенный снегом и безнадежно запертый с трех сторон чужими машинами. Соня посмотрела на часы и помчалась к метро, убеждая себя, что все к лучшему. Сейчас такие пробки, что можно застрять часа на полтора. А на метро она доедет за двадцать минут, к тому же не придется искать место для парковки.
На «Белорусской» неожиданно встал эскалатор. Сзади на Соню навалился дядька в камуфляжной куртке. От него несло перегаром. Соня ухватилась за поручень, чтобы не упасть на маленькую хрупкую бабушку. Не упала, но больно вывернула правую руку.
На платформе скопилось много народу.
– Поезд дальше не пойдет, просьба освободить вагоны, – сообщил радиоголос.
Стрельба в правом ухе продолжалась. Температуру Соня сбила анальгином. Голова слегка плыла, коленки дрожали от слабости. Толпа повалила из поезда, сердитая дежурная вместе с милиционером быстро обходила вагоны. Из последнего выволокли сонного дядьку в тулупе. Милиционер нес его полосатый баул, дядька ворчал и тер глаза кулаками. Пустой поезд умчался со свистом. С эскалатора хлынул очередной поток пассажиров. Соню теснили все ближе к краю платформы, она решила не ждать, перейти на Кольцевую и доехать до «Кузнецкого моста» через «Краснопресненскую».
По лестнице на переходе медленно двигалась плотная толпа. Соне стало жарко. Она расстегнулась. Отлетела пуговица от дубленки. Это была уже третья потерянная пуговица, осталось всего две, а запасных не было. Соня с тоской подумала, что придется покупать и пришивать новые.
В голове продолжало пульсировать короткое глухое «Зюльт». Это было похоже на стук дятла.
На гостевой карточке стояли две даты, приезда и отъезда. Получалось, что папа прожил на маленьком острове Зюльте, в отеле «Кроун», в номере 23 десять суток. То есть нигде больше в Германии он не был. Долетел до Гамбурга, оттуда на поезде по знаменитой насыпной дамбе отправился на остров, в город Зюльт-Ост. Зачем?
Когда она выскочила из метро и перебегала дорогу, в сумке заверещал мобильный.
– Соня, с вами все в порядке? Вы не заблудились? Не застряли в пробке? – услышала она голос Валерия Павловича Кулика.
– Я скоро, я уже близко, – ответила Соня.
В нескольких сантиметрах от нее резко затормозил и засигналил грязный «Форд». У Сони стукнуло сердце. Она только сейчас заметила, что перебегает на красный, машин полно и она посреди улицы. В два прыжка она добралась до разделительной полосы, чтобы дождаться зеленого.
– Я совсем рядом, – сказала она в трубку, – вот, я вижу, кафе «Грин».
– Так, Соня! Вы опять все напутали. Не «Грин», а «Григ», и не кафе, а ресторан. «Грин» это забегаловка. Не отключайтесь.
Кулик объяснял ей, как идти к ресторану, шаг за шагом, пока она не оказалась внутри.
– Чем могу помочь? – надменно спросил охранник-шкаф в безупречном костюме.
Вокруг был мрамор, живые цветы, картины в золоченых рамах, бархатные кресла и зеркала. Гигантские, беспощадные зеркала, в которых отражалось все в подробностях. Дубленка, купленная пять лет назад на Савеловском рынке, пучки ниток вместо пуговиц. Плохо сидящие, но единственные приличные черные брюки. Коричневые сапоги в неистребимых разводах от соли зимних московских улиц. Пух белого свитера давно скатался комочками. Волосы следовало бы уложить феном, а лицо подкрасить. Но поскольку Соня почти никогда этого не делала, то и сейчас забыла. А зеркала напомнили.
Швейцар не хотел ее раздевать. Охранник говорил по телефону и как будто не услышал ее робкого «Меня ждут», стоял так, что она не могла его обойти. Из зала вышла высокая, феноменально красивая брюнетка, остановилась, принялась подкрашивать губы, искоса, неодобрительно посмотрела на Соню. Особенно не понравились ей коричневые облезлые сапоги под черными брюками.
Наконец появился Кулик, большой, мягкий. Соня заметила, что он сбрил остатки волос, стал откровенно лысым и расстался с очками, наверное, линзы вставил. Он был без пиджака, голубая рубашка туго обтягивала пузо. Он блестел, лоснился, улыбался и чувствовал себя здесь как дома.
– Рад вас видеть, Сонечка! А что бледная? Глазки красные? Ох, простите, простите, девочка, я все знаю, вы потеряли папу, сочувствую от всей души.
Он снял с нее дубленку, отдал швейцару. Тот подобострастно заулыбался и принял из рук Валерия Павловича Сонино рыночное старье с почтением, достойным норковой шубы.
В зале свет был не таким ярким, и Соня слегка расслабилась. Кулик повел ее в самую глубину, где столики прятались в нишах за бархатными шторами.
– Сейчас я познакомлю вас с очень важным человеком, – шепнул он, – постарайтесь ему понравиться.
За столиком сидел мужчина лет сорока пяти. Светлые жидкие волосы зализаны назад, лицо неприятное, надменное. Грубые крупные черты, толстые бледные губы. Он встал навстречу Соне, пожал ей руку, слишком крепко, так, что пальцы заныли, улыбнулся, и улыбка вдруг удивительно преобразила его. Засверкали белые зубы, черты смягчились, стало заметно, что глаза у него ярко-голубые и вполне живые.
– Зубов, – коротко представился он.
– Вот, Иван Анатольевич, я привел вам самый лучший экземпляр, – сказал Кулик и отодвинул стул для Сони.
– Как вы себя чувствуете, Софья Дмитриевна? – спросил Зубов, откровенно разглядывая ее. – Кажется, вы приболели?
– Да, немного. Но теперь уже выздоровела. Спасибо. – Соня спряталась от его пристального взгляда, уткнувшись в меню.
– Возьмите форель, – посоветовал Кулик.
Когда заказ был сделан и официант ушел, Зубов спросил:
– Скажите, Софья Дмитриевна, кроме тех трех статей по апоптозу, которые висят в Интернете, у вас есть еще какие-нибудь работы на эту тему?
– Ее диссертация об этом, я же говорил вам, – ответил за Соню Кулик.
«У Зигфрида Ленца есть роман „Урок немецкого“, там действие происходит на острове Зюльт, – вдруг вспомнила Соня, совсем некстати. – Вторая мировая война. Нацистская Германия. Художник сослан на север, на остров Зюльт. Художнику запрещено рисовать, и начальник местной полиции обязан следить, чтобы он не брал в руки ни кисть, ни карандаш. Сын полицейского, маленький мальчик, втайне от отца навещает художника, они становятся лучшими друзьями. Вот почему слово „Зюльт“ мне знакомо. Я читала роман Ленца по-русски и по-немецки, он мне страшно нравился когда-то».
– Что такое васкуляризация? – низкий голос Зубова звучал слегка обиженно.
Соня вздрогнула. Оказывается, она говорила все это время, пыталась объяснить, над чем работает в последние пять лет.
– Иван Анатольевич занимается кадрами, он не биолог, а экономист по образованию, так что вы попробуйте обойтись без нашей заумной терминологии, – мягко напомнил Кулик.
У Сони пересохло во рту. Она залпом выпила полный стакан минералки.
– Раковые клетки вырабатывают особый белок, ангиогенин, который вызывает образование капилляров, то есть васкуляризацию, – стала объяснять Соня, – опухоль как бы притягивает к себе новые растущие сосуды, через них ест и дышит, становится неотъемлемой частью живого организма, причем самой сильной и агрессивной его частью. Еще в середине семидесятых удалось определить полную аминокислотную последовательность этого белка, найти ген, который отвечает за его синтез. Но на этом этапе исследования зашли в тупик.
Зубов не сводил с Сони ярко-голубых глаз. Нельзя было понять, слушает он или просто изучает Соню. Глаза ничего не выражали. Соне хотелось верить, что слушает. Иначе зачем просил рассказать? Кулик скучал, все оглядывался, ждал, когда принесут закуски.
– Если я вас правильно понял, вы сейчас говорите об онкологии? – уточнил Иван Анатольевич. – Но при чем здесь самоубийство клетки?
– Рак – одна из форм самоубийства живой системы, на макроуровне, то есть на уровне всего организма. Раковая клетка практически не отличается от одноклеточных, ведет себя так же, как бактерии. По идее организм должен реагировать на нее мощной иммунной атакой.
– Не самая аппетитная тема, – хмыкнул Кулик и убрал со стола мобильник, чтобы официант мог поставить перед ним тарелку с крабовым салатом. – Соня, прервитесь и обратите внимание на карпаччо.
«Правда, что же я все болтаю? – спохватилась Соня. – Им, кажется, это совсем неинтересно».
– Валерий Павлович сказал, вы свободно владеете английским и немецким. – Зубов продолжал сверлить Соню взглядом, при этом ловко подцепил маслинку и отправил в рот.
– Немецкий у меня слабоват, я им редко пользуюсь. Английский в активе.
– Детей у вас нет, мужа тоже. – Зубов поднял на вилке прозрачный ломтик сыра и, прищурившись, взглянул сквозь него на Кулика.
– Да, – сказала Соня, – я одна. Мама с новым мужем живет в Сиднее.
– У нее был замечательный папа, но он умер совсем недавно, – сказал Кулик.
– Соболезную, – механически кивнул Зубов, – то, что вы одна – это дополнительный плюс. Для вас не составит проблемы переехать на год в Германию. Вы там бывали?
– Нет.
– Придется вспомнить немецкий. – Прожевав сыр, Зубов опять улыбнулся Соне. – Скажите, а откуда такая страсть к биологии? У вас в роду были биологи?
– Нет.
– Вы уверены?
– В наше время мало кто знает о своих прадедушках, – заметил Кулик, – люди теряют корни, а напрасно. Вот я, например, совсем недавно выяснил, что мой предок со стороны отца был знаменитым медиумом и поэтом. Модное сочетание для начала двадцатого века. В эзотерическом альманахе «Оттуда», который выходил в Петербурге с девятьсот четвертого по девятьсот восемнадцатый, я нашел статьи, стихи и даже фотографию Степана Кулика, моего замечательного предка.
– Я дальше бабушек и дедушек ни о ком не знаю, – сказала Соня.
– Ну и кем же они были? – спросил Зубов.
– Мамин отец всю жизнь проработал бухгалтером в Министерстве сельского хозяйства. Этого дедушку я помню. Папин был летчик, но он погиб еще до папиного рождения.
Соня принялась наконец за карпаччо. Розовые ломтики лосося оказались потрясающе вкусными, она давно ничего подобного не ела, зажмурилась от удовольствия.
– Вкусно? – спросил Зубов.
– Да, очень.
– Розы вам понравились?
Соня поперхнулась, закашлялась. Кулик налил воды, протянул ей стакан. Она жадно выпила, кашель прошел.
– Мы никак не могли вам дозвониться. – Зубов одарил Соню очередной улыбкой. – Мы знали, что у вас день рождения, круглая дата. У нас принято поздравлять наших сотрудников, дарить подарки. Вы пока еще не с нами, но, надеюсь, очень скоро станете полноправным членом нашей дружной корпорации.