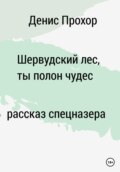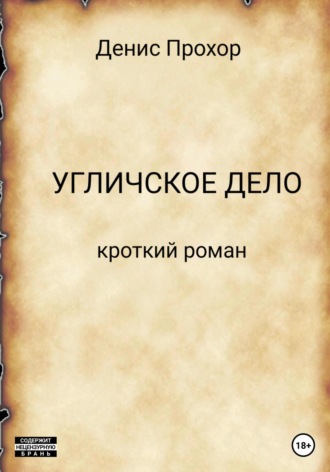
Денис Викторович Прохор
Угличское дело. Кроткий роман
Вступление
В 16-ое столетие Московское бывшее княжество ворвалось нежданно-негаданно. Единым русским государством. В ледяной геополитической пустыне, где скакали за данью блистательные в славе и ужасе монголы, где кто-то когда-то зачем-то жил в лесном небытии между псьеглавцами и Польшей явилась Русь. Крепкая, спелая. Русь новая. Русь старая. Жизнями и душами миллионов людей выстраданная. Назад оглядываешься и диву даёшься из нашего пост-перепост модернистского далёка. Ладно Мамай, но как наиглавнейшего врага своего одолели? Самих себя? До сих пор в себя вместить не могу до чего предки матёрые! Мы не такие. Или пока не такие. Когда их древняя Русь погибла, они не её, не вселенских степных захватчиков винили. «Божьим промыслом за грехи наши». Не так с советской Русью получилось. Помните? Конечно, помните. «Не мы такие. Жизнь такая». Как решили, так и получилось. Начали жить чужой жизнью. А тогда нет. Как бы тяжко не было, своего держались. А тяжко было, словами не передать. Вроде на поле Куликово вышли. Победили. А через два года Тохтамыш дотла разорил Москву. И бонусом кровавым ещё полвека политического мелкотемья. Княжества русские плевались и ссорились. Глобально воевали за очередной сарай на меже. Литва наседала. Подбирала под себя Тверь и Новгород. Большая орда, а потом Казанское ханство душили набегами. Да и Москва после Дмитрия Донского опростилась. Забыла, не хотела, опасалась надвигающегося неумолимо величия. Сын и особенно внук святого в будущем Дмитрия, оба Василии, своими не успехами и злой судьбой и поступками, а больше не поступками основательно растрясли от Ивана Калиты собираемое наследство. Чужими слезами, своей совестью. Чего там кроме лалов и яхонтов не было. Скопидомничали. Кирпичик там, кирпичик здесь белокаменный. 10 лет. 20. И вот же. Победа на весь 14 век. Можайск наш! А потом раз-раз и митрополит из Владимира переезжает. Москва уже первопрестольная, а Дмитрий Иванович сам себе ярлык на великое княжение. В завещании без оглядки на Сарай ордынский оставил великий стол своему сыну. Москва, конечно, умеет удивлять. Бревенчатая, подбитая мхом и робкими надеждами безнадёга в глухом медвежьем углу, вотчина Даниила Александровича самого младшего сына буреломного Невского сумела конкретную ордынскую точку превратить в досадную запятую, а значит продолжить русскую судьбу. И вот эта набравшая исторический ход Москва едва-едва не утопла в середине 15 века в гражданской и семейной войне. Великий князь Василий 2-й против родного дяди Юрия Дмитриевича Звенигородского. Плюс сыновья дяди, кузены-разбойники Василий Косой и Дмитрий Шемяка. Юрий Дмитриевич – вояка славный и умелый взял Москву лихим наездом. И проиграл. Василий 2-й бежал и выиграл. Москва его не бросила. Переехала вместе с ним. Бояре, торговые люди, чиновники – все те кого можно было назвать народом политическим, оставили захватчику стены, дома и пустые церкви, но лишили главного. Смысла завоевания. Первая гражданская война, в самой высшей степени момент переломный. Русское самодержавие становится делом коллективной ответственности. В битвах и трагедиях Великой Феодальной войны 1430-50-х годов рождается фундаментальный принцип русской государственности. Во все времена и при любой власти спасательный круг. Демократический тоталитаризм. Это когда все за всё в ответе. Власть государя органична до той поры пока не ограничивает русский политический народ в его стремлениях и надеждах. После столетий княжеских усобиц, иноземного владычества, прямых и косвенных угроз духовно-нравственному ядру самоидентификации – русской православной вере, самое последнее чего могло желать думающее русское общество это возврата в прошлое. Как следствие, умница и воин Юрий Дмитриевич вместе с сыновьями проиграл несчастливцу Василию 2-му уже Тёмному. Вместе с ним проиграла московская Русь и выиграла русская. Её матушку подтвердил и утвердил наследник несчастного Василия Иван Великий третий этого имени. Помимо прочих двухглавых орлов, стояний на Угре и Кремля с ласточкиными хвостами в правление Ивана начал решаться главный русский вопрос. Кто мы? Каково наше первородство? Тверичи, рязанцы, новгородцы или русские от истока веков и до устья? Вопрос сугубый. Куда больше чем определение этнической принадлежности. Если русский, значит, вызов. Значит, борьба. За свой мир среди других миров и, следовательно, великое экзистенцианальное одиночество. Осилим? Не поломаем ли хребты? Правильно ли, что коллективная инаковость всегда больше отдельной взятой жизни? Вряд ли бы Иван, математический автократор, сдюжил бы в одиночку. Одно дело холодно калькулировать явные безопасные прибытки, другое дело на невиданное решиться, где впереди неизвестность. После измены братьев перед финальной схваткой с Ордой пришлось архиепископу ростовскому Вассиану ободрять великого князя и заставить смириться с общей волей. Идём на вы! По-другому никак. Теперь он и народ заединщики. Одним миром мазаны. Этот союз почти помог пережить бурный и противоречивый 16 век. Разорения Москвы крымчаками, провальную Ливонскую войну, душегубские погромы Пскова и Новгорода впавшим в безумный сумрак Иваном Грозным. Ведь наряду с катастрофами, были и победы. Казань. Поход Ермака. Расширение воли и власти народа через широкое привлечение к управлению служилого дворянства как противовес родовой боярской знати, окостеневшего пережитка удельных времен. Героическая оборона Пскова служилыми и посадскими людьми от европейского наёмного интернационала короля польского Стефана Батория – образец низовой организации. Слабеющее, запутавшееся государство страна решила не бросать. Пожалуй, главное достижение судного Иванова царства и русского будущего. Привычно, после Карамзина и Пушкина «народ безмолствует» – главное и поверхностное объяснение взлётов и падений отечественной истории. Это удобно, но не справедливо. События, последовавшие после смерти Ивана Грозного, всё их величие и прах, доказывают обратное. Народ в России безмолствует громко, решительно и бесповоротно.
Часть 1
Весна 1591 года.
И надо же было такому случиться. Всю Сибирь отмахали. Через Урал Камень перевалили, на дворе казанского воеводы сдюжили. Только 5 шкурок собольих выжали из Федора Каракута тощие с гнилыми зубами казанские дьяки. Болтались вокруг Федора как черные монашеские платья на веревке в ветренный день. Льстили, грозили, выли, глядя на проезжающие мимо богатства сибирские. Да не таков Каракут, чтобы перед племенем этим сгибаться. Соболей отдал, конечно, но самых простецких. Тех из которых татары сибирские сита себе делают. И не просто так отдал. За вагенбурги литовские. Две боевые телеги железом обитые с крохотными картечными пушками. Их при псковской осаде у ляхов отбили. Самое то для охраны казны. Каракут не думал что по-настоящему пригодятся. Ведь после Казани своя земля сто лет как русская пошла. И надо же было так.... У волжской переправы, где стояли царские стрельцы в клюквенных кафтанах, нарвались на голодную бродяжью ногайскую толпу. Семеро их было казаков которых воевода Трубецкой с казной в Москву отрядил, а остались только он Федор да Рыбка запорожский полоненный у того же Пскова казачина. А было так. Переправу увидели. Пошли быстрей и расслабились. Животы обмякли, глаза повеселели. Рыбка дремотно мотался между сдувшимися горбами верблюдицы Васьки. И тут Каракут увидал, как один из казаков в конце обоза Нелюб Овцын начал немо валиться с коня. В его спине торчала татарская стрела. Пока Федор спрыгивал с коня, успел коротко оглядеться. На них заходило около двух десятков всадников. От орды отбились или головной отряд. В любом случае сильно оголодали за зиму или со стрельцами сговорились. И такая симфония возможна. Каракут спрыгнул на землю, намотал поводья на руку. Хлопнул со всей силы по лошадиному боку. С трудом удерживая поводья, Каракут бежал, прячась за лошадиным крупом к телегам обоза. Ногайцы приближались медленно, обстреливали густо, туго затягивая петлю вокруг обоза. Каракут сбросил с руки поводья и взобрался на телегу. Из сена на дне телеги Рыбка доставал короткие ушастые пушки. Ставил на край, в сторону приближающихся всадников. Каракут вытащил из сена железный ящик. Расстегнул кафтан. На шее у него висел трехгранный крест с бороздкой ключа на конце. Зажал крест между пальцами и открыл миниатюрный изящно выделанный замок. В сундуке были плотно сложены пороховые мешочки. Каракут бросал их Рыбке, а тот скоро забивал порохом пушечные дула. Последний мешочек Рыбка разорвал руками и всыпал понемножку в запальные отверстия. Каракут бросил Рыбке мешочки с чугунной хрупкой картечью.
– Фитили! – крикнул Рыбка. Каракут скатился с телеги вниз. Пока они готовили пушки, казаки поставили телеги кругом. Выставили вперед пищали. Работали слаженно и споро. Все шло в дело. Каждый знал свое место. Живой. Мертвый. Нелюба Овцына бросили на телегу. Рядом положили еще двух. Сидора Клейменного и Трофима Ряшку. Не убереглись казаки, но службу и дальше несли. Защищали других от стрел татарских. Теперь их осталось четверо. Это вместе с Каракутом и Рыбкой. В центре укрепленного вагенбургами обоза Грачик худой длинный литвин палил фитили. Он держал взлохмаченные концы веревок, почти по запястье опустив руку в тающие угли.
– Давай. – крикнул Каракут.
– Погодь. Погодь.
– Руку сожжешь, Грачик!
Грачик бормотал свое.
– Говорил фитили сушить. А Рыбка…
Каракут не стал слушать. Вырвал руку Грачика из углей, отобрал тлеющие фитили.
– Слышь, Грачик. Казна на тебе. Казну держи.
Каракут показал глазами на сундуки, окованные железом. Их стащили с повозок и поставили рядом. Каракут пробежал мимо сундуков. Хотел остановиться, но лишь крикнул на бегу Грачику.
– Кречета схорони!
– Себя бы схоронить. – бросил в ответ Грачик. Пригнувшись, он побежал к казне. Возле сундуков хрипел, загребал руками уже точно родную, но все еще не ласковую землю Авдейка Петров. Казак ермаковский. Грачик склонился над ним на мгновенье и побежал дальше. Возле сундуков подхватил деревянную клетку, накрытую темной тканью. Поставил в центр, чтобы со всех сторон было прикрыта казенными сундуками. В ткань клетки вонзилась стрела. Грачик выругался и сорвал ткань.
– Ну чего? Как ты, небарака?
Белый кречет – красивая полунощная птица сидел неподвижно и был жив. Раздумывать Грачик не стал. Забрался на сундуки и закрыл клетку своим худым мосластым задом. На согнутый локоть он положил пищаль и держал наготове тлеющий фитиль в сожженном кулаке. Когда рядом пролетали стрелы, Грачик закрывал глаза и морщился. Когда Каракут вернулся, Рыбка натягивал на свою голую круглую голову бухарский круглый шлем с затыльником и тонким острым наносником.
– Что тут? – спросил Каракут, устраиваясь рядом с запорожцем.
– Упор. – бросил Рыбка.
Каракут нашарил в сене железную пластину. Подпер ее пушки, чтобы не разбросало после выстрела. До ногайцев оставалась шагов сто, когда Рыбка, наконец, протянул раскрытую ладонь.
– Фитили.
Рыбка воткнул фитили и вслед за Каракутом слетел вниз под телегу. Пушки ударили жирно с глухим оттягом. Вагенбург вздрогнул, одна из пушек упала на землю.
– Упор менять надо. – проворчал Рыбка. – А Грачик…
– Потом, потом…
Каракут выбрался из-под телеги. Огнем хорошо сработали. В половину никак не меньше ногайцев уменьшили. Зато остальные пять-семь продолжали переть вперед.
– Ты гляди-ка. Сабельки повытаскивали. – проговорил Рыбка. – Это…Не знаю. Это борзо, Каракут.
– Оголодали за зиму. Что?. Давай что ли? – Каракут потащил вверх из ножен свою черкесскую шашку. Рыбка немного замешкался. Он отгибал вверх острый наносник. Он мешал ему дышать.
– Рыбка!
Каракут отбивался на повозке сразу от двух всадников в нагольных тулупах. Сабли у них были плохие из болотной нечистой руды. Каракут отбил пару тяжелых ударов и нанес косой сверху. Один из ногайцев маленький, юркий успел выставить свою саблю, и шашка Каракута рассекла ее без сопротивления. Полоснула по кирпичного цвета щеке. Ногаец повалился вниз и вслед за ним качнулся Каракут. Если бы не Рыбка второй ногаец определенно достал бы его по спине своей геройской трухлятиной по беззащитной спине. Рыбка успел. Встал на Каракутом, выставил вперед рогатку. Казацкая смекалка превратила детскую игрушку в хитрое потайное оружие: с острыми концами обитыми железом, наборной ручкой и шнурком вокруг запястья. Отбросив вверх саблю, Рыбка воткнул рогатку в полоску темной кожи на шее. Ногаец продолжал сидеть на лошади, а из его шеи текли две кровавые струйки. Ногой Рыбка сбросил ногайца с лошади. Каракут тяжело дышал и оглядывался по сторонам. Ногайцев осталось пятеро и казаков всего трое. Грачик кружил вокруг себя длинным бердышом, отгонял двух всадников, сумевших перескочить через телеги. Против Каракута и Рыбки остальные. Выбросили арканы и один поймал Рыбку. Каракут колебался мгновение.
– Я к Грачику. – крикнул он.
Грачик выдохся. Еле ворочал бердышом. Он рычал по-звериному. Правая нога кровоточила и сгибалась. Каракут, что есть силы, рубанул шашкой по сухожилиям. Ногайская мохноногая лошадка с жалобным криком завалилась набок. Каракут наступил на голову всадника, приваленного бьющейся от боли лошадью. Оттолкнулся от мягкого уже мертвого еще теплого лошадиного бока и оказался на сундуках рядом с Грачиком. Вовремя чтобы парировать удар сверху и пронзить врага насквозь. Второй ногаец растекся в седле. Вместе с воздухом из наколотой груди толчками бежала кровь. Грачик обхватил руками короткое копье. Им лучше всего орудовать в степи в быстрых трусливых набегах. Грачик опустился на сундуки. Свернулся калачиком вокруг копья.
– Все? – обмелевшее лицо Грачика было тихим. Каракут склонился над ним. Копье воткнули в живот глубоко, безнадежно.
Каракут сказал.
– Все, братка. Все.
Грачик вздохнул с болью.
– Только это....Не зарывайте. Здесь бросьте. Чтоб солнышко видеть.
– Каракут! Каракут!
Рыбка звал на помощь. Каракут подхватил Грачика под колени и плечи. Он положил его рядом с железными коваными сундуками. На мягкую новорожденную степную траву. Прямо под наливающиеся силой округлые утренние лучи. Но последнее что увидели стекленеющие глаза Грачика, было разорванное в немом крике лицо убитого им человека....
– Как клещ, малахайка. – Рыбка пробил лоб ногайца острым наносником и теперь никак не мог отцепиться.
– Шлем сними. – посоветовал Каракут.
– Без дурных дорога слизка. – ворчал Рыбка. Он ворчал и ворочался на убитом ногайце. Пытался одновременно снять шлем и вырвать наносник из черепа ногайца. Каракут обхватил Рыбку за шею, потащил назад. Рыбка ударил несколько раз Каракута по ноге.
– Придушишь. – сипел казак. Тогда Каракут уселся на землю и взялся за сияющий металлический шишак.
– Голову не оторви. – предупредил Рыбка.
– Ему то теперь чего?
– Да мою. – Рыбка скривился. Как мог втянул внутрь нос свой горбатый и круглые щёки. Каракут заскрипел от натуги, но одолел Рыбкину жадность. Ногайский узкий шлем в сторону откинул. Сел на землю рядом с козаком. От широкой реки негромкого селедочного цвета поднимались вверх по холму царские стрельцы конно и оружно.
Когда через некоторое время неспешно подъехал пожилой сотник с братией, Каракут и Рыбка уже переместились под телегу. Рыбка набивал табаком длинные пеньковые трубки, а Каракут осматривал кречета.
– Табачок? – пожилой сотник наклонился в седле.
– Долго ехали. – укорил стрельцов Рыбка.
– Зато вовремя. – усмехнулся сотник выжига.
Стрельцы рассыпались по степи. Обдирали мертвых ногайцев. Вели лошадей.
– Наших не трогайте. – Рыбка раскурил трубку и передал ее Каракуту.
– Наших не тронем. – ответил сотник. Стрельцы снимали сапоги и сабли с убитых казаков.
– В сундуках что? – спросил сотник.
– А ты глянь. – Каракут внимательно посмотрел на сотника.
– Лубянник! Глянь что у них там. – приказал сотник.
Здоровый стрелец, в два раза больше Рыбки, озаботился шлемом запорожца. Пыхтя, пытался снять с наносника окровавленный кусок черепа.
– Оставь, говорю, Лубянник. – крикнул сотник. – Ты его разве что на хер оденешь. Лубянник бросил шлем.
– Дай место. – потребовал он у Каракута.
– Дорого встанет, стрелец.
– Чего с ним? Приколоть? – спросил Лубянник у сотника.
– Приколоть? Утро ведь....Чего уж....А приколи за Ради Христа.. – размыслил сотник.
Рыбка вынул изо рта трубку. Улыбнулся сотнику.
– Ты как дожил до таких лет, а? Совсем государство людьми оскудело....Всякого жопохлопа в сотники ставят.
Сотник подбоченился в седле, но не разгневался. Сказал буднично, словно квасу попросил.
– Коли их, ребята.
– Стой! – Лубянник рассматривал печать, покрывающую замок казенного сундука. – Тут ездец, Степан Тимофеев.
Сотник слез с коня и долго внимательно рассматривал печати на сундуках и клетке с кречетом. Вздыхал, глядел, пробовал на вкус восковых всадников пронзающих копьями змеев. Их налепили в Казани на воеводском дворе. Московская смиряющая лапа.
– А может....– в конце концов выдал сотник. – Они сами. Хитрованы набили.
– А ты попробуй. Сломай печать царскую.
Каракут достал из за пазухи свиток.
– Грамоту знаешь?
– Что я мотало какое. – оскорбился сотник.
– Тогда сюда гляди. – Каракут показал на печать в конце списка. – Казанского воеводы печать.
– Лубянник. Чти. – распорядился сотник.
Здоровый стрелец удивительно бойко зачитал.
– От воеводы Трубецкого. Казна Сибирская....Федор Каракут, Иван Рыбка, Грачик Федор....Через Казань, Жигули, Ярославль, Углич…Всем людям служилым царства Московского.
Лубянник свернул грамоту и отдал ее Каракуту. Сотник вздохнул.
– Это…Вы не серчайте. Мы ж не знали что вы государевы.
– А если бы не государевы были? – спросил Рыбка.
– А разве есть такие? – удивился деланно сотник. – Не знаю.
Всех казаков кроме Грачика похоронили. Себе оставили один вагенбург и телегу покрепче. Все остальное отдали стрельцам. Возниц решили взять в стрелецком городке. Сотник теперь старался изо всех своих сил.
– У меня тут от Жигулей до Царицына всего до сотни людей. А из приказов шлют и шлют коты баюны. Говорят: пчел разводи. Остроги строй. Щук считай. Корабельный лес готовь… Слыхал, казак, корабельный лес. – сотник предлагал Каракуту полюбоваться безлесым степным пространством. – В острог приедем я тебе хорошего коня дам. Персияне оставили. Такой конь. Для Бовы королевича конь.
– Царский размен. – Каракут усмехнулся коротко. Для себя и в землю. – Я табун, мне лошадку.
– Не рад? – посочувствовал не искренне сотник.
– Отчего же? – отвечал Каракут. – Рад. Как не рад, если домой вернулся.
****
Ловили Андрюшку Молчанова Осип Волохов и Мишка Качалов. По среди ночи, по самой середке наисладчайших снов, сбежал поганый помяс. С тех пор и ловили. Если бы сразу нашли, забили бы кистенями. Не до смерти, конечно. Дьяк Битяговский он, если словом одним, змей змейский. Ослушаться нельзя. Чтобы было потом, чем слушать. Да и под утро с росой и рябиновым солнцем злость сама собой подостыла и теперь чего больше всего хотелось так это вернуться назад в теплую, как нахоженный чирик, Брусеную избу. Там парились в людской печи забеленные щи и фунтовые пироги из тяжелого теста с курятиной и желтой облитой яйцом коркой. Мишка Качалов как вспомнил, так ажник застонал от досады и бесповоротно решил, что эта его досада будет стоить помясу лишнюю дюжину затрещин. Собака подняла помяса на опушке Макаровского леса. Тот бежал через кусты в пропаленной ветхой шубе на голое тело. Он постоянно оглядывался. Тимоха собаку не спускал, держал у седла. Собака загрызет Молчанова. Битяговский загрызет Осипа. Не ласковый размен. Андрюха продрался сквозь кусты и тут же утонул в распаханом поле. Засосала его влажная глинистая почва. Молчанов попытался выдернуть ногу. Ему это удалось с превеликим трудом. Нога превратилась в огромный бесформенный кусок глины. Сил не было совсем, и Андрюха обреченно поставил ногу на место. Мишка и Тимоха за помясом не полезли. Сошли с коней. Орали с берега.
– Вылазь, Андрюх.
– Выходи, гузка немытая.
Помяс молчал. Щурил живые зеленые глазки и махал руками. Подгребал под себя томившееся на земле холодное солнце. Начали бросать аркан. Со злостью, а потом в перебивку с камнями. Пару раз попали. Не арканом. Андрюха в долгу не остался. Накрыл голову шубой, сел и превратился в огромный ком майской влажной юной земли.
– Еще и обтрюхался, гад. Что ты будешь делать! – зло сплюнул Осип Волохов. Посмотрел на Мишку.
– Лезть надо.
Мишка Качалов почесал бритый подъячий затылок.
– Надо.
– Так чего?
– Чего?
– Лезь.
– Сам лезь.
Осип тяжело вздохнул. Отыскал глазами камень почище да побольше. Сел на него. Ударил каблуком сафьянового сапожка.
– Значит, местничать желаешь?
– Желаю.
– Так давай.
– Давай да.
Мишка Качалов, курносый с оспяными круглыми щеками, стоймя стоял. Не сомневался. Но и Волохов не на полбе с забалтыком возрос.
– Только без деда Федора Акундинова сына Телепня. Он на свадьбе государя нашего Ивана Васильевича с Марией Темрюковной царской утиркой ведал. Это боярская справа, а мы не воеводства делим, а кто помяса полезет из грязищи доставать.
– Лады. – быстро согласился Мишка. – Без дедушки. Без Федора Акундинова сына.
Волохов замешкался. Что-то быстро Мишка согласился. Задумал чего?. Или как обычно? Думает, что думает. Волохов выбрал второе.
– Ты чего не знаешь, что богоспасаемая матерь моя, боярыня почтенная Волохова Василиса мамка царевича Дмитрия. Сама царица Ирина ее поставила. Куда уж больше чин. Наш чин ничем не перебьешь. Не было в вашем семействе такого чина окромя дедушки-неждана. Выше третьего дьяка в Разрядном приказе не прыгали.
Качалов молчал. Хитро посмеивался.
– И что? – спросил Волохов. – Чем перебивать будешь? Какой теткой? Каким дядькой?
– Мне и моего чина достанет.
– Как так?
– А вот как....Я подъячий. Человек государев. Ты на дворе Нагих обретаешься, как и матерь твоя достопочтенная. Хотя у нас кормишься.
– Углич – удел царевича Дмитрия и я в своей силе. – не сдавался Волохов.
Мишка ощерился. Показал зубной вдовий тын.
– Надо дьяку Михайле Битяговскому передать как ты. Вот прямо здесь на этом самом камне крамолу чинишь на государя.
– Это как это…
– А так это… Государя с Нагими равняешь.
– Чего ж с государем....С Битяговским.
– Ну – свистнул с удивлением Мишка.– Вот чумной. Пока батогами бит, а теперь и Лобного места добиваешься.
– Да чего ты городишь. Чего городишь то.– вскочил Волохов. Он испуганно оглядывался на многочисленных свидетелей его неосторожных речей. Все елки слышали. Все шишки запомнили. Колобов свое тарахтел.
– По-твоему, дьяк своевычно действует? Он слово и дело государево, а значит и я раз его подъячий. Так что же это выходит брат, Осипе? Ты своих князей через себя со мной, а значит, с государем московским и всея всеясности равняешь?
Волохов заморгал усиленно и неправдоподобно. Ему показалось, что вокруг пухлой мишкиной фигуры появилось чудесное свечение.
– Сымай сапоги, Осип.– посоветовал Мишка.– А лучше совсем голяком, как перед теткой Забелихой бегал.
– Я такой же подъячий как и ты. – огрызнулся, не сдаваясь Волохов. Но у Мишки сегодня все стыковалось.
– А Битяговскому кто по утрам чашу помойную от всего подъячества подносит?
Плевался Волохов, но сапоги начал снимать. Крикнул в последней надежде.
– Андрюх! Если не сдох. Пожрать хочешь? Баранья лопатка есть.
Земляной ком разрушился. Появилась кудлатая голова и тонко по-комариному пискнула.
– Покажь.
– Вот ты…Вылазь говорю.
Не было у них бараньей лопатки. Ничего у них не было. Кроме себя да сурового приказа. Мишка Качалов выручил. Подобрал с земли какую-то палку рогатую. Помахал ей перед своим носом и носом помяса. Пока отдаленным носом. Этого хватило. Полез Андрюха обратно. Чисто медведь из берлоги. Выбрался на берег, покрытый зеленой паутиной травы. Перемазанный. Страшный. Жалкий. Глаза безумные и обреченные.
– Давайте.
– Сади его. – сказал Мишка.
– Сам сади. У меня седло дареное.
– Так че? Пожрать не дадите? – влез в разговор помяс.
– Вот закавыка. – пожаловался Мишка – И не двинешь ему как следует. Измажешься.
Осип порыскал в седельных сумках и нашел у Мишки сухари и флягу . Бросил Андрюхе.
– Смотри флягу не сожри.
Помяс не ел и не пил. Сухари и кислое слабое разведенное винцо словно вдохнул в себя. Качалов и Волохов и глазом моргнуть не успели.
– И чего бегал? – спрашивал Осип.– Где ты еще винцом разживешься.
Помяс не ответил. Вытянулся на земле. Закрыл глаза. На лице его худом и плоском блестела безмятежная улыбка. Мишка и Осип соорудили люльку из двух раззеленевшихся сосенок. Положили в нее сонного помяса и крепко привязали, чтобы не потерять по дороге. Снова поместничали лениво и отправились в путь. Впереди довольный Волохов, позади добрый Мишка Качалов. К его седлу была привязана самодельная люлька, а в ней помяс в запойном от голодухи сне. У Брусенной избы были после полудня. Въехали в низкие ворота и прочертили две глубокие полосы в речном слежавшемся песке двора. Остановились прямо возле широкого бревенчатого крыльца с резными потемневшими перилами. Битяговский сошел вниз. У него были квадратные плечи, округлый живот крепкий как грецкий орех и седая перченая борода такая плотная, что напоминала шкуру старого волка.
– Кажись, сдох? – сказал Битяговский, оглядывая люльку.
– Не…Это не…-ответил Волохов. – Мишка придушил немного.
– Когда это? – удивился от неоправданной лжи Качалов. Дьяк не услышал. Он скомкал маленькое лицо Молчанова широкой ладонью.
– Ты чего это, Андрюх? А? Куда бежать собрался?
Еле ворочая сплющенными в трубочку губами, Молчанов промычал.
– В Москву.
– В Москву. – протянул Битяговский. – Так совсем не понимаю. Я ж тебя туда и сам направлю. Лошадка тебя повезет. Сначала телегу, а потом тебя на аркане. Не понимает народ своей благости.
Молчанов заверещал.
– В яму не сади боле…Не выдержу.
– А куда тебя определить. – задумался Битяговский.
– Куды хошь…И пожрать бы…
Битяговский повернулся к Качалову.
– В мыльню его.
– А потом?
– Что у нас в клетях нижних? – спросил дьяк.
Качалов отвечал бойко.
– Гостя Трюхана майно. Конопля неразобранная. Кадушка с квасом. Кабысдох дворовый к цепке чугунной прилагающийся.
– Злой?
– Тещей кличуть. Микитке Едокову надысь портки спустила.
– Да ты что же это, дьяк? К тёще на съедение? – слабым голосом возмутился Молчанов.
– Попортим, господине, помяса. – заметил почтительно Волохов.
Дьяк подумал и решил споро, государственно.
– Тещу выселить, помяса в колодки. Всех кормить сообразно чину.
Мишка поволок люльку с Молчановым в сторону мыльни, а Битяговский прошелся по двору. Закрепить хозяйство верным глазом. День был на переломе. Углич город тихий, глубинный. После полудня и мухи не летали. Висели в воздухе недвижимо. А Битяговский работал. Таков был приказной московский порядок. На двор Брусеной избы свозили царев оброк с окрестных монастырей и сел. Здесь перебирали, раскладывали по особым клетям зерно, битую птицу, рыбу и полотно. Работала кузня. В углу обширного двора скучал в неровной шеренге отряд стрельцов. Перед строем стрелецкий голова Семенов отчитывал молодого высокого стрельца с малиновым смущенным лицом. Семенов тряс фитильной пищалью и шумел открытым черным ртом. Но так лениво и нехотя, что Битяговский поморшился. " Оттого и беды наши" – внезапно подумал дьяк.– "Что вроде бы по уму да без сердца. Но он то не таков. Нет не таков." – убедил сам себя дьяк и поднялся по ступенькам. Дело надо было дальше делать. Пробу сымать с монастырского меда в счет прошлогодних недоимок. Чарки две-три не более. Дьяк меры во всем держался.
****
Романовы пошли в рост из-за женщины. Московский боярский род средних дарований, но хитрый и терпеливый. Между ними и троном долгое время стояли семьи великие и знатные пусть не делом, но памятью далеких, а значит невероятно славных предков. Рюриковичи. Гедиминовичи. Прямиком от Иафета через Августа Цезаря и императрицу Феофано. На этом фоне Андрейка Кобыла – родоначальник Романовых гляделся неважнецки. Бояре московские какими бы богатыми не были перед спесивой золоченой пылью пасовали. Шуйские, Воротынские, Голицины. И несть им числа частоколом глухим встали перед троном. Одна надежда была на самоуправство государево. Священное прогрессивное начало, мастерок, которым царство каменный Кремль построило, а не кучу песочных удельных замков. Царь Василий 3 умер, когда его наследнику Ивану и трех лет не было. За государство, уже окрещенное старцем Филофеем третьим Римом, взялся хищный клубок из царицы матери Елены Глинской и ближней аристократии. И начала опять расползаться Русь по имениям да поместьишкам, полетели во все стороны кровавые брызги, когда власть сама себя грызть начала, сойдясь в междуусобной бойне. Мать царя отравили, дядю, вообще весь род Глинских почти вывели. Ребенком царем, как мячиком, играли. Перекидывали от одной партии к другой. На всю жизнь запомнил Иван, что это значит в Москве быть слабым государем. По возрасту или какой иной причине. Крепко запомнил, как бояре перед ним ребенком убивали друг друга, как один из Шуйских (всегда где измена они!) на его кровать садился и речи непотребные вел. Как будто с ровней говорил, а не с повелителем. Едва лишь в возраст Иван вошел, он этого Шуйского псарям отдал без сожаления и те его прямо на дворе убили, чтобы все видели и знали. Кончилось головотрясение в стране, настал, наконец, крепкий царь после многолетней бескрайней вольницы. После потомки на дискутабельный фарш изойдут, доказывая превосходство поэтической, из дурной образованной головы выдуманной, Новгородской республики перед прозаической темной наглой зверской тоталитарной Московией с ее князьями жилами, пахнущей кровью, слезами великими и неизбежностью, всеподъедающим великим равнодушием перед временем. Да что оно время для тех, кто строит вечность? Новгород был богат, знаменит и сиял во все стороны света. Золотой пустой болван и самодовольное трепло. Была бы Москва, не было бы ее, он все равно не пережил бы 16 столетие. Его сожрали бы Литва или Ливонский орден или Польша или Швеция да кто угодно с крепкими яйцами и правдой в душе. Несколько столетий блестел Новгород, пока будущая столица русского мира путалась в своих финских дремучих лесах. Ни зряшного каменного собора, ни берестяных грамот (Акундин – Твердило Тердиловичу…а ногату я себе заимам..), деревянные стены, в которые каждый год стучат недобрые татары. Абсолютно отрицательная стартовая позиция, только и оставалось, что продолжать растворяться в гнилых болотах, пока и имя такое русские из свитков своих справедливых история не вычеркнет. Мимо византийской иконы к блюдцу с молочком для коровьего бога Велеса. Однако…И это хорошо…Новгород предложил быть рабом своих вольностей, Москва быть вольным в своем рабстве. Сотни законов и сотни плетей или всего один закон, но и плеть одна…Спра-вед-ливая! Московитяне в это верили, и перед этой верой сгибали шеи, но лишь перед ней. Тем и победили.