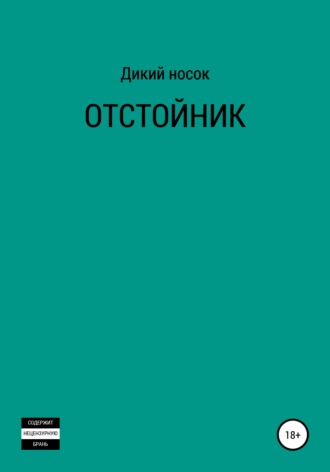
Дикий Носок
Отстойник
Сами мы неместные.
«Ложитесь! Падайте в траву!» – шипел быстро сориентировавшийся Эдуард Петрович, распластавшись на земле. Никита сидел в пыли, очумело тряся головой в шлеме и сжимая в руке подобранную стрелу. Катя, открыв рот, поедала глазами мужчину в одной лишь набедренной повязке. Агрессивный незнакомец был в высшей степени экзотичен: смугл, черноволос (маслянисто-черная коса доходила ему почти до талии и била по спине при каждом движении) и рельефно мускулист (хоть сейчас в рекламу мужского белья). Живых индейцев Кате прежде видеть не доводилось. Только когда он, поднявшись, снова заложил стрелу, она опомнилась и повалилась на землю, будто стог сена, увлекая за собой сына.
Стрела вонзилась в землю прямо перед её носом, спровоцировав истошный вопль. Пока Катя, как завороженная, смотрела на покачивающуюся стрелу с оперением из белых птичьих перьев, следующая продырявила увесистый школьный рюкзак Руслана. Девушка ахнула. Стопка учебников и рабочих тетрадей ученика начальной школы стреле оказалась не по зубам. Она с легкостью пробила учебники русского языка и литературы, и даже дневник, но безнадежно застряла в математике.
Это потом, вспоминая, Катя ужасалась, какую отчаянную глупость совершила. А в тот момент её страх внезапно испарился без следа, материнская ярость вспыхнула, как пожарная сигнализация, заглушая своим воем любые проблески разума. С рюкзаком (и торчащей из него стрелой) наперевес, Катя ринулась к обидчику. Только изумление индейца и сохранило девушке жизнь. Да еще то, что он никак не мог найти в этом мире подходящего для изготовления нормального лука и стрел дерева.
Катя добежала до аборигена, размахнулась рюкзаком, намереваясь ударить в живот, но индеец ловко, как кошка, отскочил. Вблизи стало понятно, что он совсем ещё молод: смуглое, скуластое лицо, нос с горбинкой, сурово насупленные брови. Катя размахивала рюкзаком и ругалась, не выбирая выражений, юноша только ловко уворачивался и молчал. Но при попытке мужчин подойти поближе, снова наставил на них лук. В конце концов, он его опустил, отступил на несколько шагов назад, повернулся и побежал. Побежал вовсе не от страха, а так, словно ему вдруг стало скучно обстреливать незнакомцев, и он решил заняться чем-то другим. Юноша бежал, будто скаковая лошадь: мерно, спокойно, двигаясь точно и ритмично, словно запрограммированный механизм. Эдуард Петрович готов был поклясться, что, пробежав даже пару километров, он не вспотеет и не собьет дыхание.
«Катя, это он тебя испугался,» – хохотнув, прокомментировал бегство Никита. – «Налетела на него, как фурия. Чуть рюкзаком не пришибла.»
«Идем за ним, быстро,» – скомандовал Эдуард Петрович.
«Вы шутите? За ним? Да он нас пристрелит,» – опешил Никита, у него все ещё гудело в голове.
«Все может быть. Но там, куда он бежит, наверняка есть другие люди. И если повезет, то не первобытные дикари со стрелами. Надо рискнуть. А шлем надень, полезная штука оказалась,» – вскинув на плечо злополучный рюкзак, уже на бегу посоветовал Эдуард. Остальные устремились за ним.
«А если дикари?» – задал риторический вопрос Руслан. Ответа не последовало.
Чтобы не упустить резвого индейца нужно было обладать выносливостью верблюда и скоростью лошади. Для современного городского человека категории немыслимые. Первым выдохся Эдуард Петрович.
«Все, не могу больше. Черт!» – согнулся пополам он. Вся компания тут же остановилась, дружно пытаясь отдышаться.
Как ни странно, абориген остановился тоже. Он не хватался за лук, не суетился, с совершенно невозмутимым лицом, замерев, как каменное изваяние просто стоял и ждал. Чего, спрашивается? Но стоило путешественникам снова направиться в его сторону, как он тоже начал двигаться.
«Что за кошки-мышки? Не нравится мне это,» – размышлял Эдуард. Но, даже чувствуя подвох, все же послушно шел туда, куда его вели.
Из-за абсолютно плоского, как блюдо для торта, рельефа, озеро они увидели, лишь оказавшись совсем рядом.
«О Господи,» – выдохнули путники разом. Оно было совсем небольшим, размером с футбольное поле, окаймленным черной, траурной каёмкой грязи, и абсолютно безмятежным, будто покрытым коркой льда. Вода казалась розовато-серой из-за отражающихся в ней облаков. По озеру плыли гроздья золотисто-желтых шаров размером с футбольный мяч, присобранных на макушках на манер тугих мешков с новогодними подарками. А на другой стороне зеленели деревья, курился чахлый дымок, высилась палатка и суетились люди, занятые своими делами. И неизвестно чему путешественники были рады больше: людям или воде.
«Эй, на том берегу, мы здесь!» – бросившись к воде, Катя, Никита и Руслан, отчаянно замахали руками и немедля увязли в грязи по колено.
«Стойте,» – бросился за ними Эдуард, но было уже поздно. Постоянно подпитываясь водой из озера, черная грязь по берегам не превращалась в камень, а пребывала в состоянии вечной ловушки: липкая, вязкая, засасывающая. Потерявшие бдительность путешественники влетели в неё на полном ходу, в азарте успев добежать почти до воды. Так, что Эдуард Петрович и добраться до них не мог, не угодив в клейкую жижу. Теперь они представляли собой идеальную мишень для индейца, который, невозмутимо стоя поодаль, уже доставал стрелу. У Эдуарда Петровича холодок пробежал по спине. Так вот куда дикарь настойчиво и неутомимо их вел. Знал, что они вляпаются по самые уши. А они шли, как послушные овцы на бойню.
«Руслан, лови,» – бросил он ничего не понимающему мальчику его школьный рюкзак. – «Закройся им и голову прикрой.» Больше Эдуард ничего для них сделать не мог. Поколебавшись несколько смертельно опасных мгновений, он развернулся и побежал от индейца прочь. Навстречу ему, обегая озеро, неслась красивая женщина лет тридцати с развевающимися длинными черными волосами. А следом за ней ковылял заросший старик и, грозно потрясая половником, кричал, срывая голос: «Парамошка, чертяка ты краснорожий! Ты что удумал? Вот я тебе задам.» После секундного колебания коварный индеец опустил лук, гневно выкрикнул что-то на своем гортанном языке и, не торопясь, с достоинством удалился.
Женщина бегала туда-сюда по кромке грязи, плакала, смеялась и, оживленно жестикулируя, не переставала говорить. Даже не вслушиваясь в певучий язык, уже только по одной экспрессивной манере говорить с бурей эмоций в каждой фразе, в ней безошибочно можно было узнать итальянку. Не в силах подобраться к застрявшим в грязи, она повисла на шее Эдуарда, от широты переполнявших её чувств целуя, обнимая, гладя по лицу. Эдуард Петрович молча пережидал это извержение вулкана, не пытаясь вставить ни слова, лишь приобняв красавицу за талию. А она действительно была красавицей: стройной, гибкой, черноглазой, с лицом, напоминающим всех итальянских актрис одновременно: от Софи Лорен до Моники Белуччи – залюбуешься.
Дохромавший, между тем, до места дед суетился, приплясывая вокруг: «Вот радость то! Радость то какая! Люська, да отпусти ты его, задушишь. Дай ка я обниму.» И бросился на грудь Эдуарду Петровичу.
Катя наблюдала за этим праздником жизни, с ужасом понимая, что все глубже и глубже погружается в черный жидкий пластилин. Она увязла уже почти по колено, когда, наконец, открыла рот и завопила, разом переорав громкоголосую, певучую итальянку и суматошного деда: «Да помогите же нам! Скорее!»
На мгновение воцарилась тишина.
«Сейчас, девонька. Сейчас, милая,» – первым спохватился старик. – «Ты не бойся. Глубоко не засосет. Проверяли уж.»
«Люська, неси решетку,» – фамильярно скомандовал он красавице.
«И ты подмогни ей, милок,» – обратился он к Эдуарду. – «А то из меня бегун уже хреновый.»
Тот послушно двинулся вслед за итальянкой, тянувшей его за руку.
«А зовут то тебя как?» – прокричал вслед старик.
«Эдуард,» – ответил он и добавил немного погодя. – «Петрович. А Вас?»
«О, тезка значит,» – обрадовался старик. – «Рядовой Никимчук Иван Петрович. А это наша Люся. Лючия Фантоцци по ейному.»
Лючия, утвердительно кивая, шустро тащила его за собой. К тому времени, когда они вернулись назад, волоча массивную, квадратную, деревянную решетку, как две капли воды похожую на те, что крепят к стенам домов, чтобы по ним взбирались виноградные лозы, все уже перезнакомились и оживленно болтали. Дед бросил половник, сноровисто уложил решетку наполовину поверх грязи, наполовину на сухую землю так, что она доставала до всех, попавших в грязевую ловушку, расставил Эдуарда и Лючию по углам, дабы они своим весом не давали решетке смещаться и тонуть в грязи, а сам пополз к терпящим бедствие.
«Ну давай, Катя – Катерина, хорошее у тебя имя, душевное, обопрись руками на решетку, колупайся ногами изо всех сил и выползай помаленьку,» – наставлял он.
Получив не тонущую в грязи опору для рук, Катя стала выворачиваться из липкой грязи, словно шуруп, ведомый шуруповертом. Остальные последовали её примеру. Не прошло и получаса, как все они по очереди выползли сначала на решетку, а потом и на землю и повалились на спины, отдыхая.
«Дедушка, а тот, кто нас сюда заманил, он ведь индеец, да?» – немедленно начал приставать с вопросами Руслан.
«Парамошка то? Да, индеец.»
«Почему Парамошка? Разве индейца могут так звать?» – включилась Катя.
«Как его звать, никто выговорить не может. Кличем Парамошкой. Вроде похоже. Да он все одно не отзывается,» – махнул рукой Иван Петрович.
«Беда с ним,» – тут же посетовал он. – «Никакого сладу нет. Озорничает, дичится, все в драку лезет. Вот сцепился недавно с кем-то, его и порезали – спину располосовали. Насилу выходили, когда нашли. Лук вот со стрелами кое-как сделал. Сектанта одного поранил. Они его в свою веру обратить пытались, да зубы об него и обломали. Больше не трогают. Прибился вот к нам. Ровно дикая собака – кругами вокруг ходит, а в руки не дается. Уж целый год, почитай, с ним мучаемся.»
«Год? А Вы сами здесь давно? И где это здесь? Где мы? Что это за место?» – посыпались со всех сторон вопросы, будто сухой горох из рваного мешка. Наконец-то появилась возможность их кому-нибудь задать и, может быть, даже узнать ответы.
«Так сначала думали – в аду. Ан, вроде, и нет: ни чертей, ни сковородок,» – пошутил старик. – «Андрюха сначала полагал – на другой планете. Солнца ведь нет здесь. Так и не знаем где. Просто – в другом месте.»
Дедовы рассуждения ровно никакой ясности не внесли. Версий по-прежнему оставалось множество, на любой вкус: параллельный мир, другая реальность, путешествие во времени, загробный мир, другая планета. Надежда обрести хоть какую-то определенность растаяла без следа.
«Про главное то не спросил,» – спохватился Иван Петрович. – «Вы из каких годов будете?»
«В каком смысле «из каких годов»?» – ошеломленно уставились на деда путешественники, умом уже понимая, но отказываясь осознавать услышанное.
«Да вот какая закавыка – мы все тут из разных годков оказались. Мы с Отто из 44-го, прямо с фронта, Андрюха из 1989 – аккурат перед Новым годом его и унесло, Люся аж из 1911 прямо из Италии, вот только Парамошку не допытались,» – объяснил Иван Петрович, с интересом ожидая ответа.
«Этого не может быть. Просто не может быть,» – устало проговорил Эдуард Петрович, спрятав лицо в ладонях и покачиваясь из стороны в сторону, словно душевнобольной. Последние питаемые им иллюзии, что все происходящее какое-то недоразумение, вот-вот должное разъясниться, и жизнь вскоре вернется на круги своя, рушились под грузом реальности, наступающей, как каток асфальтоукладчика: неумолимо, убийственно, не оставляя ни малейшей лазейки для надежды.
«То же мне аргумент. Эх, милок, если бы все, чего не может быть, действительно не случалось. Быть может все. Вот так,» – припечатал своей немудреной мужицкой философией, подкрепленной жизненным опытом, дед.
***
Отсутствующие члены маленькой коммуны у озера вернулись через два дня.
Высокий, худой, жилистый старик, с абсолютно лысой, блестящей, словно бильярдный шар, головой оказался Отто. Он с отеческой нежностью гладил Руслана по голове, счастливо улыбаясь беззубым ртом. Отто был немногословен, несуетлив и печально задумчив. Одет он был в некогда белоснежную мужскую рубашку, украшенную огромным, пышным и многослойным воротником – жабо, с широкими рукавами, перехваченными в запястье и отделанными внизу кружевами, и видавшие виды невнятного цвета и фасона штаны. Подобную сорочку легко можно в было представить на Эдмоне Дантесе или Дориане Грее, но никак не на немецком военнопленном времен второй мировой войны.
Военнопленным он, конечно же, уже давно не был. За последние пятнадцать лет, проведенных Отто и Иваном в этом месте, старики притерлись друг к другу, как супруги с многолетним стажем, периодически беззлобно ворча или шутя подтрунивая. Поскольку Иван оказался совершенно неспособен выучить по-немецки ничего, кроме пресловутого «хенде хох», Отто пришлось учить русский язык. Говорил он на нем с каким-то твердым акцентом, как разговаривали в старых советских фильмах прибалтийские актеры. Военные гимнастерки за давностью лет истерлись до дыр и превратились в рубище. За новую одежу (пусть несуразную, но целую) пришлось отдать старому пауку Никодиму Савватеевичу пачку сигарет. Ту самую, реквизированную Иваном из кармана Отто при первой встрече, и бережно хранимую ими много лет. Сам Иван Петрович щеголял в цветастой рубашке с коротким рукавом и длинным узким воротником, за которую любой модник 70-х годов готов был бы продать душу дьяволу.
Андрюха, тот самый, которому не удалось встретить Новый 1990 год, оказался мужчиной лет сорока кое-как, неровно, но старательно коротко подстриженный (вряд ли кто-то смог бы сделать это лучше единственным на всю компанию ножом), с небольшой бородкой, поддерживаемой в приличном состоянии все тем же ножом и придающей ему ненужной степенности, такой круглолицый и русоволосый, что каждый, бросив на него один только взгляд, безошибочно мог определить в нем русского. Деловой костюм, в котором он здесь очутился около десяти лет назад, был еще скорее жив, чем мертв, чего нельзя было сказать о ботинках и носках. Андрей был бос, но поскольку климат в этом месте никогда не менялся, а пыль под ногами была мягкой, то отсутствие обуви не было большой проблемой ни для кого.
Периодические походы по окрестностям в поисках нужных или пригодных для обмена вещей были необходимостью и единственной возможностью обзавестись одеждой и предметами быта. Каждая вещь, какой бы никчемной она не была, а зачастую считалась даже мусором как, например, пустая бутылка из-под пива, попадая сюда обретала вторую жизнь, становилась предметом торга и вожделения. С каждым годом уходить на поиски приходилось все дальше и времени это занимало все больше. Зачастую походы эти оказывались и вовсе безрезультатными. Сторонники новомодного течения «минимального потребления» были бы в восторге от здешней жизни – минимум одежды (зачастую лишь та, что на тебе) и никаких ломящихся от тряпок шкафов. Маленькая коммуна располагала в своем хозяйстве массой бесценных вещей: парашютом, из которого соорудили палатку, автомобильным зеркалом заднего вида, бывшем в полном распоряжении Лючии, двумя самолетными креслами (почти целыми и старательно отмытыми от кровавых разводов) и котелком, сооруженным из брата-близнеца того шлема, что украшал голову Никиты. Деревянная решетка позволяла набрать воды из озера, не утонув в грязи. Робинзон Крузо мог бы позавидовать.
Вся та мелочевка, что обычно валяется у людей в карманах: зажигалки, носовые платки, ручки или освежающие дыхание драже – здесь становилась поистине бесценной. Поэтому первым, что сказал Иван Петрович, приведя гостей в лагерь, было: «Выворачивайте карманы.» Не слишком любезно и гостеприимно, но жизненно необходимо. Эдуард Петрович Ивана Петровича разочаровал, в его кармане оказался лишь маленький клочок бумаги – чек на бензин. «Эх, тезка,» – укоризненно покачал головой дед.
«Ну а у тебя, молодой, что в сумке? Эвон какая знатная, большая, а буковки то не русские,» – тыча пальцем в надпись «Reebok» любопытствовал он. – «А застежка какая диковинная. Как же её расстегнуть?»
«Дай я, дедушка,» – встрял Руслан.
«Ишь ты, чего придумали. Ловко,» – уважительно сказал старик, повозив туда-сюда металлическую «собачку» молнии и распахнув, в конце концов, сумку. Секунду спустя Лючия пронзительно вскрикнула, упала перед сумкой на колени и бережно извлекла лежавшую сверху найденную синюю шляпу. Потрясение, отразившееся на её лице, было так велико, что она не в силах была вымолвить и слова, а с итальянками это случается крайне редко. Держа перед собой шляпу нежно, словно дитя, Лючия гладила выцветшее перо, едва сдерживая слезы.
«Она … Ваша?» – высказала невероятную догадку Катя.
Лючия молча кивнула. Сколько бы не прошло лет, каждая женщина узнает свою шляпу, тем более, что она была последней в её жизни. Шляп итальянке не доводилось носить уже восемь лет. Это была она – та самая шляпа, что юная красавица Лючия впервые надела в тот роковой день прогулки на поезде, та самая шляпа, из-под которой она снисходительно оглядывала столпившуюся на перроне публику и стреляла глазками по молодым людям, та самая шляпа, что за минуту до её решительного прыжка с поезда улетела в сияющий туман и сгинула навек, как и вся её прошлая жизнь.
«Мы нашли её в нескольких днях пути отсюда,» – зачем-то пояснила Катя.
Иван Петрович, между тем, продолжил копаться в спортивной сумке Никиты. Три теплых осенних куртки, извлеченные им из неё, вызвали его горячее одобрение. Кроме того, Никита смог похвастаться пачкой жевательной резинки, оберткой от сникерса, смартфоном, наушниками и студенческим проездным.
«Телефон? Не брешешь? А говорить то куда? И проводов нету,» – вертел старик в руках бесполезный, мертвый, черный пластиковый прямоугольник, отключившийся как раз накануне из-за севшей батареи, даже постучал по нему грязным ногтем и поднес к уху, надеясь услышать гудок.
Извлекая стрелу, застрявшую в школьном рюкзаке Руслана, дед честил индейца на все лады: «Парамошка, сучий потрох, какую вещь хорошую попортил! Ай-ай-ай! Чтоб тебе пусто было!»
Иван Петрович с благоговением листал школьные учебники: разбухшие, перекореженные, с пожелтевшими от морской воды страницами. Катино предположение, что учебники могли бы пойти на растопку, вызвало у деда праведный гнев. Для человека, любящего читать, отсутствие хоть каких-нибудь книг, было испытанием, пожалуй, худшим, чем для заядлого курильщика отсутствие сигарет. Он бережно перебирал книжки и тетрадки, любовно поглаживая их морщинистыми руками и предвкушая удовольствие, словно сладкоежка от припрятанной шоколадки. А для растопки, как оказалось, вполне годилась местная сизая трава: сухая и ломкая, она горела не хуже картона.
Быт поселенцев был незатейлив. Основой рациона были хорошо знакомые фиолетовые ягоды, которые ели сырыми, либо варили с небольшим количеством воды, получая в итоге нечто вроде киселя. Вкус ягод от этого, впрочем, ничуть не улучшался. Золотисто-желтые шары, медленно дрейфующие по озеру, тоже были съедобны. Они наливались спелостью примерно за три месяца, выныривая со дна озера тугими, зелеными мячиками не больше теннисного и вырастая в легкие, пористые, словно губка для мытья посуды, шары. Её они и напоминали по вкусу, если предварительно не были сварены. Тогда получалось нечто вроде сладковатого пюре, будто сваренного из перемороженной картошки.
Вода в озере была пресной и безвкусной, как и все в этом мире.
Плоды и семена земных растений иногда заносило в этот мир, но прижиться смогли не многие. В большинстве своем это были растения неприхотливые, устойчивые к жизненным невзгодам, размножающиеся всеми возможными способами, кроме опыления. Кроме вишни и сливы, ползущих приятными глазу, такими земными островками зелени вправо и влево от лагеря, Катя опознала мяту, которую добавляли в ягодный кисель, пытаясь придать ему если не вкус, то хотя бы запах, и еще один злостный огородный сорняк – осот. Оказалось, что вареные корни осота приятны на вкус и годятся в пищу, а из стеблей и листьев Иван Петрович готовил отвары и настои, бывшие лекарством от всех болезней: от высокой температуры до бородавок, за полным неимением других лекарств.
***
«Ишь, какой мордатый,» – одобрительно отозвался Иван Петрович о Моне. – «А с ушами что? В драке обгрызли?»
«Нет, дедушка,» – засмеялся Руслан. – «Это порода такая – вислоухая.»
«Порода, говоришь? Значит специально вывели?» – расстроился дед. – «Поизмывались над животиной.»
«Ну ничего. И не такие живут,» – сочувственно погладил Иван Петрович кота. И, удивительное дело, кот ему это позволил. Осторожный Моня, после памятного похищения Никитой, всегда был настороже и кружил вокруг лагеря два дня, прежде чем с невозмутимым видом улечься рядом с Иваном Петровичем.
Коту были рады. Животина в этот мир, конечно, иногда попадала и птицы залетали. Пара чаек порой кружила над озером. Один Бог знает, чем они питались. На памяти поселенцев на озеро набрел отощавший ишак: оседланный, с двумя мешками сушеных абрикосов, подвешенных с обоих боков. Сожрано было без остатка все – и ишак, и абрикосы. Где был его хозяин осталось неизвестным. Попал ли он в этот мир и погиб где-то здесь? Или ему повезло, и своенравный ишак сбросил его до того, как шагнул в светящийся туман?
«Значит, Вы так и живете здесь вчетвером?» – грустно спросила Катя.
«Почему вчетвером? Народу здесь полно. Это мы на отшибе живем, а люди в основном там, у Большого озера,» – махнул рукой в сторону Андрей.
«И что за люди? Много их?» – живо заинтересовались вновь прибывшие.
«Вот пойдем меняться, сами все и увидите. Людей то много, а вот таких, как ты – детей почти нет. Не рождаются здесь дети. Совсем не рождаются. Оно и к лучшему, пожалуй.»







