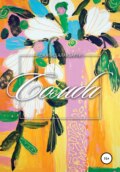Джавид Алакбарли
Муза
Как это ни странно, но на суде его преисполняла жалость. Но ему было жалко не себя, а тех литературоведов, которые осмелились возразить всей этой махине подавления и уничтожения человеческого таланта. Они говорили о том, что он не бездельник, а настоящий поэт. Труженик, а не тунеядец. Он был поражён. И польщён тоже. Так много хороших слов о нём ещё никто и никогда не говорил.
Это была никем заранее не написанная, но прекрасно срежиссированная и отлично сыгранная пьеса театра абсурда. Судебная машина, опираясь на уголовный кодекс, считала, что поэт, на самом деле, вовсе не поэт, а просто взрослый иждивенец. Сидящий на шее своих родителей и зарабатывающий время от времени какие-то гроши случайными подработками. И именно в силу этого подлежащий наказанию за своё нежелание трудиться. Литературоведы же утверждали, что поэт настоящий, и предъявляли какие-то, не столь значительные, с точки зрения суда, доказательства того, что тот работает в поте лица.
А сам этот молодой человек суммировал все свои заработки за последний год, делил их на число дней в году и получал некую цифру. Озвучивая её в суде, он говорил, что эта сумма больше той, которую затрачивает на него государство, пока он сидит в тюрьме. Тогда почему же его считают тунеядцем? Победителем в этом противостоянии оказалась судебная машина. Тунеядцу дали срок и сослали. Что творилось в эти минуты с Поэтом, который жил в теле этого «тунеядца», так никто и не узнал. Он не любил вызывать к себе жалость и считал, что его творчество надо оценивать по результатам того, что он создаёт, а не по степени жестокости того, что с ним сотворила судебная система.
В те годы советская идеология торжествовала во всех областях. Во всех. За исключением речи. Существовал казённый, официальный, почти деревянный язык государственных структур, готовящих инструкции, постановления и законы. Был городской, воровской, блатной сленг. А ещё влачил своё существование формальный язык учебников.
Но среди очень и не очень образованных носителей этого языка продолжал жить и отстаивать свои права на существование настоящий язык. Великий и могучий русский язык. С точки зрения Поэта, он на нашей бренной земле являлся именно слугой языка. Его хранителем, его нянькой и лекарем. У него была одна-единственная миссия – писать хорошо. А ещё при этом сознавать, что Поэт может и должен изменять общество. Именно поэтому его преисполняла уверенность в том, что посредством языка, сохраняя и приумножая все его богатства, он независимо от себя изменяет его звучание, дикцию, обогащает его словарь… Много чего делает. Порой и сам не до конца осознавая этого. А в результате он волею или неволею влияет на сознание всего общества, говорящего на этом языке. Рано или поздно – но влияет.
Поэт был искренне убеждён, что у каждой эпохи, у каждой культуры, равно как и у каждого человека, есть своя версия прошлого. У каждого из нас тоже есть своя версия нашего прошлого. Когда мы пытаемся его пересказать, то создаём фактически собственный автобиографический миф. Он же не хотел, да и не умел рассказывать о своём прошлом. К себе и к тому, что с ним происходило в этой жизни, он относился с изрядной долей иронии. Именно она не позволяла ему выплеснуть огромный пласт своих ощущений, связанных с тем, что он пережил в каких-то воспоминаниях, а не в стихах. Это была чётко обозначенная позиция. Его позиция, которую каждый его поклонник и при его жизни, и после его смерти должен был воспринимать с великим уважением.
Он был уверен, что сегодня в мире нет и не может быть массового рынка для стихов. А ведь когда-то в России, в начале двадцатого века, такой рынок появился. Его на корню уничтожила революция. Потом в шестидесятые годы были поэтические вечера в Политехническом. Были стадионы, на которых собирались любители поэзии. Но он всё же видел, что то, что им скармливали в виде поэзии, являлось всего лишь суррогатом. Занятия же истинной поэзией сочли просто тунеядством.
После суда Поэт отправился в ссылку. Там он был обязан заниматься тяжёлым физическим трудом. До конца жизни ему будут сниться эти огромные серые валуны, которые надо было убирать с поля перед посевной компанией. А в нём же просто не было той физической силы, которая нужна была для такой работы. Ощущение же собственного бессилия всегда наполняло его такой бездной негативных чувств и переживаний, что на корню уничтожало всякую надежду на то, что из этой ситуации можно найти хоть какой-то выход. Но она всё-таки жила. Вопреки всему. Но как известно, надежда – это хороший завтрак, но плохой ужин. И это просто убийственная еда, если весь твой рацион состоит только из неё.
Несмотря на все ужасные обстоятельства жизни вдали от любимого города, время ссылки он назовёт самым счастливым периодом своей жизни. Его Муза приезжала к нему. И даже оставалась вместе с ним в этой, практически лишённой мебели, простой русской избе. Иногда ему казалось, что это был, фактически, их медовый месяц. Здесь же были написаны строки, которые запомнились всем как песни счастливой зимы.
Как же его радовало, что наконец-то они вместе. Она уезжала, но вновь и вновь возвращалась. И это было просто прекрасно. А потом приехал он. Его соперник. Именно в тот момент, когда он провожал её. И она уехала с ним. Вернее, они вместе уехали на этом проклятом автобусе, в который он не имел права сесть. Он хорошо понимал, что если он покинет место своей ссылки, то наказание будет тяжёлым и неотвратимым. Местным милиционерам было абсолютно плевать, какие письма и каким людям писал Сартр. У них были свои инструкции и свои правила. И только они решали его судьбу. А не какой-то там французский философ.
***
Он никогда не умел исполнять своих обещаний. Обещал одному острову приехать и умереть на нём. А умер за тысячи километров от этого острова. Но своё последнее пристанище он обрёл всё-таки на острове. На другом острове. Не на том, которому дал когда-то своё обещание. На тот остров своей молодости он так и не вернулся. Не смог. Не мог пересилить себя и вернуться в места, где ему было так плохо и всё же так хорошо, как нигде и никогда. Этот остров остался жить в нём. Как копия, как отражение той, прежней жизни. Кто знает, может он побоялся того, что сравнение копии с оригиналом будет убийственным? Не для копии или оригинала, а для него самого.
По своему рождению он был иудеем. На этом кладбище его не могли похоронить ни в православной, ни в католической части. Лишь протестанты дозволяли хоронить на своей земле тех, чья религиозная принадлежность не могла быть подтверждена какими-либо документами. Такая позиция напоминала о том далёком времени, когда на двери Замковой церкви были прибиты знаменитые 95 тезисов. Именно с них и началась история протестантизма. В те дни, благодаря тому, что 500 лет тому назад один непокорный монах заявил о свободе, стало возможным похоронить великого Поэта в том месте, о котором он мечтал.