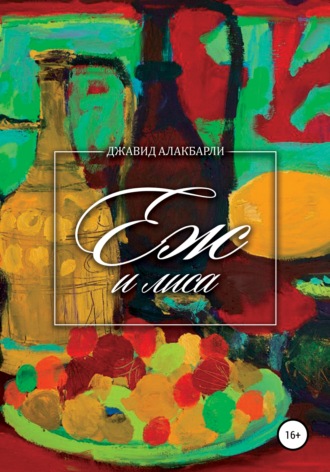
Джавид Алакбарли
Ёж и лиса
– Иди почисти селёдку.
За всем этим стояло твёрдое убеждение:
– Знай своё место!
А место это определено раз и навсегда: кухня, постель и молельня. Напрасно сюда иногда приплетают детей. Для мужчины ребёнок всегда видится существом, который отбирает у него любовь, внимание и время любимой женщины. Ведь мужской эгоизм просто безграничен.
– Смешно? Нет. Просто больно и обидно. И наверное, банально. Мужской шовинизм он ведь всегда такой разный и всякий. Но самые отвратительные его стороны проявляются именно по отношению к той, кого мужчины выбирают себе в качестве спутницы жизни.
В беседах с ним она не забыла упомянуть никого из тех, кто своей рецензией, добрым словом или дружеской поддержкой помог всё-таки состояться ей как поэту. Ведь она так нуждалась в этом в первые годы своего становления. Говорила о том, что она не искала своего пути в поэзии. Практически, сразу, с первых шагов, она нашла ту правильную ноту, ту тональность, ту поэтическую нишу, в которой оказалась столь естественной. Всё то, что она делала, невозможно было повторить кому-либо. Это было очевидно для всех. Точно также, как и понимание того, что ей невозможно было подражать.
Такова была реальность. Таково было её творчество. И по сути, и по содержанию. Никуда не спрятаться и не скрыться. Такой она и предстала перед ним: предельно обнажённая в своих чувствах, эмоциях и переживаниях. Нередко наша душа скрывается под гораздо большим количеством покровов, чем наше тело. Наверное, всё-таки именно с точки зрения такого сполна реализованного душевного стриптиза, эта встреча с Гостем была уникальным явлением в её жизни. Таков был изначальный настрой всех этих встреч: она не хотела ничего скрывать, прятать своё истинное «я», чем-то прикрываясь или защищаясь искусственной бронёй. Хотела предстать перед ним точно такой, какой она была.
***
Приговор был вынесен ей практически сразу после того, как Сэр уехал. Уже набранную её новую книгу, конечно же, не напечатали. После его отъезда вокруг неё образовалась какая-то жуткая пустота. Потом она признавалась в том, что, по-существу, у неё отняли пространство и время. А затем появилось знаменитое постановление. Кто-то назовёт его актом вандализма тоталитарного государства. Кто-то будет утверждать, что литература и причастные к ней люди оказались всего лишь жертвами в игре двух разведок и контрразведок. Будут и такие, которые будут упорствовать, считая, что влияние этих встреч на судьбы мира является чрезмерной переоценкой их значимости.
Вроде бы, формально постановление касалось деятельности журналов. Да и в самом тексте, видимо, для соблюдения гендерного баланса вместе с ней осудили и известного писателя. Ещё несколько человек были упомянуты в знаменитом докладе. Но почему-то центральной фигурой этого документа оказалась всё-таки она. Согласно тому, что было написано в этой официальной бумаге, она, наверное, была единственным поэтом в мире, которого публично обвинили в том, что он не до конца остался верен ни святости, ни блуду.
А ещё это постановление означало полный крах всех планов. Поэтических, материальных, чисто человеческих. Жить было не на что. Ведь в Советском государстве существовала система поощрения творческой интеллигенции в виде каких-то стипендий, пенсий, карточек или пайков. Причём, степень обилия или скудости этих щедрот определялось тем, насколько близко творчество конкретного человека к официальной идеологии. Конечно же, ей всегда доставались от всех этих благодеяний всего лишь крохи. Она ведь не была одной из тех, кто прославлял эту власть. Но уже после постановления её лишили даже этого. Из жалости друзья ей подбрасывали подстрочники стихов иностранных авторов. Именно благодаря этому, поэзия экзотических стран обрела в её переводах звучание, неведомое ей на языках оригинала. Эти переводы помогли ей выжить. Не умереть с голоду.
До конца жизни она сокрушалась о том, что нашлись люди, которые поверили в то, что она является всего-навсего автором эротических стихов. Не религиозных, а эротических. Те, кто это утверждал, фактически, ничего не знали о её поэзии. Убогие переводы не давали возможности отделить истину от клеветы. Все поверили её клеветникам, а не её стихам. Эти поклёпы на неё коснулись и её творчества, и её личности. Она была оскорблена в самых искренних своих помыслах и чувствах. От всего этого было очень больно. Эта боль затмевала даже мысли о том, что её оставили без куска хлеба. Не в переносном, а в буквальном смысле этого слова.
Её Гость ухитрился дожить почти до ста лет и увидеть развал Советской империи. Его философские и политические взгляды всегда были в центре внимания на протяжении всего двадцатого века. У него был хваткий аналитический ум, позволяющий ему постигать суть любых событий. В его философских концепциях найдут своё отражение все те катаклизмы, что с таким неистовством потрясали мир в двадцатом веке. И всё его творчество будет столь же неординарным, как и его личность и прожитая им почти легендарная жизнь.
А ещё он всю жизнь гордился тем, что получил бессмертие в её поэзии. Как он считал, незаслуженно получил. И до конца своих дней он сохранит в себе безграничное благоговение перед этой великой женщиной, которая в пасмурный осенний день, в залитом дождём Ленинграде продемонстрировала ему, что машина тоталитаризма бессильна перед Словом. И впервые в противостоянии Тирана и Творца творчество было представлено женщиной. Это был великий урок. Урок Поэта. Урок женщины, пережившей столько боли и утрат, что даже её поэзия была не в силах сполна вместить их горечь.
А ещё он много раз, точно также как в дни их встреч, будет говорить о том, что её поэзия всесильна. Она всегда пробивалась и будет пробиваться сквозь, казалось бы, несокрушимый бетон запретов. Будет цвести. Буйным цветом будет цвести. Да, были годы, когда она молчала. Но разве поэтической мысли обязательно быть всегда высказанной? Молчание было для неё той страной, в которую она всегда могла сбежать. Сбежать, чтобы сохранить себя. Сбежать, чтобы вернуться. А вернувшись, уже вернуть всем нам всё то, что мы потеряли на собственных дорогах наших странствий и скитаний. И одарить всех нас сполна новыми стихами и новым видением того, что было, есть и что будет. Это был её вариант эмиграции. Внутренняя эмиграция. Физически она находилась в этой стране. Над её же духом никто не был властен. Даже она сама.
***
Это знаменитое постановление отменят лишь перед самом развалом Советского Союза. Время от времени, в каких-то обсуждениях, беседах и, вроде бы, обыденных разговорах будет звучать сакраментальная фраза:
– А ведь постановления ещё никто не отменял.
Сразу после этого постановления в зарубежной прессе появилось множество публикаций враждебного, критического и даже недоумённого характера. Говорили о политической подготовке к новой войне. Задавались вопросом о том, что же происходит? Неужели идёт борьба писателей против Советской власти? Странно, но практически не будет каких-либо серьёзных заявлений знаменитых западных интеллектуалов. Лишь великий русский философ пытался объяснить вождям её страны, что творчество – вещь чрезвычайно сложная и трудно его корректировать, принимая какие-то формальные решения. А ещё он писал о том, что никогда и никому не удастся воспитать нового человека по идеологическим лекалам коммунистического режима. Но кто же его слушал?
***
С точки зрения спецслужб, место в котором она жила, было просто идеальным. Для того, чтобы попасть к ней, надо было не только сказать вахтёру куда и к кому ты идёшь, но и оставить свой паспорт. Паспорт возвращали уже при выходе на улицу. В силу того, что в основном здании Фонтанного дома располагалось какое-то официальное учреждение, такая система не вызывала каких-либо вопросов. Она же и обеспечивала жёсткий контроль над всеми, кто осмеливался после столь сокрушительного осуждения партии и правительства, навещать опальную Леди. Она всё это вынесла как должное. Иногда, правда, задавала очень пафосно звучащие риторические вопросы, адресованные, фактически, в никуда:
– А ведь интересно, что же такого мог сделать, всеми нами столь любимый поэт, если бы ему довелось жить при советской власти?
А ещё она, правда, с изрядной долей сарказма, говорила о том, что поражается тому, как она, человек, столь далёкий от политики, «смогла спровоцировать» холодную войну. Ведь после её встреч с гостем прозвучала знаменитая фултоновская речь. Именно после этой речи, словосочетание «железный занавес» обрело права гражданства по обе стороны этого занавеса. Только после постановления она догадалась о том, что каждое её слово записывают. Она называла это устройство «звукоулавливателем». И стала его бояться. В доме теперь она произносила только какието обыденные дежурные слова, а всё остальное, адресованное её собеседникам, писала на бумаге.
Она научилась радоваться разным всяким мелочам. Гордилась тем, что её сын, наконец-то, защитил диссертацию. Когда на защите зачитывали биографическую справку, зал ахал и охал. Ахал, услышав, что его отцом является поэт, расстрелянный по таганцевскому делу. Охал, когда узнавал, кто его мать. А многие в зале вообще не могли закрыть рот, когда слышали, что соискатель работает в сумасшедшем доме. Вернее, в библиотеке сумасшедшего дома. Они и не знали, что просто это было единственным местом, куда его согласились взять на работу.
А потом сына вновь арестовали. После его ареста был обыск. Именно тогда она начала жечь свои бумаги. А ещё она приходила к друзьям и знакомым, у которых хранились её рукописи, и приказывала сжечь их. Процесс сожжения нередко контролировала сама. Напрасно утверждают, что рукописи не горят. Её рукописи горели. Горели синим пламенем в буржуйках и каминах, в оцинкованных вёдрах и самодельных печках. Сгорали дотла, обеспечивая ей уверенность в том, что ничьи грязные руки не будут копаться в том, что составляло суть и смысл её жизни.
А потом ей весьма прозрачно намекнули, что если она напишет что-то прославляющее власть, то сможет облегчить участь сына. Она написала. Целый цикл стихотворений о победе. А сын всё ещё продолжал сидеть. Сначала в Лефортовской тюрьме. А потом его отправили в лагерь строгого режима. Осудили на десять лет за принадлежность к какой-то антисоветской группе.
Очевидно, что когда поэту надо написать нечто такое, к чему у него не лежит сердце, то ему очень трудно найти слова. Она писала эти хвалебные стихи, не забывая о том, что в истории литературы уже были попытки создать нечто, что могло бы понравиться Верховному. Не понравилось. Всё дело было в том, что вдохновению невозможно приказать. А когда приказываешь, то оно жестоко мстит за то, что ты осмелился разговаривать с ним неподобающим образом. Она помнила о том, что когда-то Опального поэта не осудили за его эпиграмму, посвящённую кремлёвскому горцу. А вот за оду, написанную с целью восхваления Верховного, посадили в лагерь.
А ещё был яркий пример того, как один мастер от драматургии пытался написать и поставить пьесу, посвящённую юности вождя. Пьеса была просто бездарная. И Самый-Самый-Самый понял это раньше всех. Пьесу изъяли из репертуара уже в процессе репетиции. Драматурга не преследовали. Просто перестали замечать. И вся эта пьеса так и осталась скрытым упрёком всем тем, кто пытался угодить, но не смог. Упрёк же Верховного заключался всего лишь в том, что нельзя было так бездарно писать о том, кто очень хорошо знает, на что на самом деле способен твой талант. Драматургу же оставалось писать в стол и придумывать анекдоты на тему о том, почему его пьесы не ставят.
Одна известная парижская газета сразу после появления её стихов о мире, назвала её личной трагедией то, что она, тридцать три года боровшаяся за свободу своего творчества, наконец-то, сдалась на милость победителя. Она молча проглотила эту горькую пилюлю. Гораздо страшнее этого было осознание простого факта, что даже эта её уступка власти так и не помогла её сыну. Слабым утешением всё же явилось то, что её восстановили в Союзе писателей. До конца жизни она будет вспоминать то, что всё же нашёлся литературовед, который сказал на этом знаменитом заседании о её восстановлении, что её стихи будут жить столько же, сколько будет жив язык, на котором они написаны. Это был всего лишь один слабый голос в рычащем потоке критики в её адрес. Но всё равно на душе от этого становилось тепло.
А ещё был курьёзный случай, когда какая-то делегация из Великобритании пожелала встретиться с ней. Ей задавались чёткие вопросы о том, насколько справедливым является это постановление. Она мужественно отвечала, что постановление правильное и что она с ним абсолютно согласна. Иностранцы её не поняли. Да и не могли понять. Просто все они были не в состоянии даже представить себе всё то, что могла бы сотворить власть с ней и её сыном, если бы она ответила иначе.
А сын её был искренне убеждён, что именно она является виновницей его трагической судьбы. Он писал в своих письмах, что если бы он был сыном простой бабы, то стал бы процветающим советским профессором. Таких в стране множество. И он был бы одним из них. А ещё он был уверен, что спасать его, доказывать его невиновность, пытаться вызволить его из лагеря – это её прямая обязанность. А пренебрежение этой обязанностью – просто преступление.
Конечно же, она ничего и никому не объясняла. Не рассказывала о том, каким оскорблениям она подвергалась в прокуратуре и других официальных учреждениях. О том, чего ей стоило написать эти, правильные, с точки зрения власти, стихи. Какое она свершила немыслимое насилие над собой, выдавив их из себя, желая всего лишь помочь сыну.







