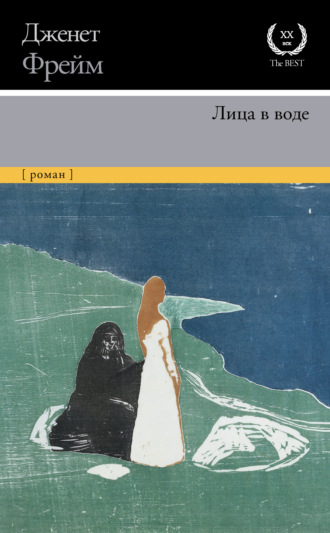
Дженет Фрейм
Лица в воде
5
«Ну как? Обживаетесь?» – временами интересовался доктор, точно легкий ветер, прилетевший из чужой страны и потревоживший зверя, который готовился к зимней спячке. Обживание было окружено ореолом одобрения: как считалось, «чем скорее ты обживался, тем быстрее тебе можно было вернуться домой»; «ну и как вообще можно надеяться, что вы сможете жить в большом мире, если не можете справиться с жизнью в больнице?» И правда, как?
В самом начале я с жалостью, любопытством и изумлением смотрела на тех немногих пациенток в наблюдательной палате, которым суждено было остаться тут навсегда: на миссис Пиллинг; миссис Эверетт, которая, будучи измотанной и неопытной молодой матерью, убила собственную малышку; мисс Деннис, изящную, острую на язык, с аккуратно уложенными седыми волосами, которая днями напролет занималась тем, что прибирала комнату регистрации в медсестринском корпусе, натирала серебро, стаканы для воды и вазы для фруктов, принадлежавшие светлейшим сестрам в белоснежных косынках; и еще нескольких других, которые разбирались в правилах и могли их объяснить: если ты вел себя достаточно хорошо, мог получить разрешение на ограниченное передвижение по лечебнице, а если очень хорошо и заслуживал доверия (как многие из них самих) – на полную свободу передвижения, и тебе разрешалось бродить где угодно на территории больницы; когда тебя отпускали домой, то выписывали не сразу, а назначали испытательный срок, как уголовному преступнику, и ты мог жить за стенами учреждения, но по закону оставался невменяемым, не мог голосовать, подписывать документы или выезжать за границу. В те времена не существовало добровольной госпитализации: мы все считались «недееспособными по причине психического расстройства согласно Закону об умственно отсталых от 1928 года».
Пациентки, которые прожили в лечебнице уже очень много времени и сами были похожи на сотрудников, могли поддержать беседу о том, кто из медицинского персонала главнее и как обстояли приватные дела у главной медсестры, что жила в квартире со стороны фасада. Минни из первого отделения исполняла обязанности ее личной служанки; ей выдали свою копию ключа от квартиры, и она приходила к нам днем, чтобы принести газеты и пересказать миссис Эверетт и миссис Пиллинг, и особенно мисс Деннис, которой нравилось к весомости своих манер добавлять превосходство осведомленности, все свежие сплетни о жильцах снизу.
А от Керри из первого отделения мы узнавали о жизни врачей, в чьих квартирах она выполняла работу по дому; а еще от Молли, которая обслуживала семью врача, что жил через дорогу. «Жена его пилит», – говорила она победоносно, потому что это означало, что его связь с пациентками, которые, казалось, его «понимали», будет только крепнуть. Так мы, новоприбывшие, и узнавали о важных событиях вроде праздников на Рождество («сдвинут все столы, нам подадут свинину с яблочным пюре и всем подарят подарки»), церковной мессы, танцев (в свете развития «нового» подхода к лечению душевнобольных теперь разрешались танцы), спортивных мероприятий, открытия площадки для боулинга, матчах по крикету между обитателями больницы и жителями деревни, визите Счетовода Одна Конфета из Общества оказания помощи пациентам и заключенным.
Другие вечные постояльцы жили во втором отделении. Кроме как во время процедур электрошока, больше мы их почти нигде не встречали. Они были для нас белым шумом, доносившимся из особого дворика; а ночью Кирпичный Дом, где располагались их палаты, превращался в улей, за ржавой сеткой окон которого они стенали и выли, как будто бы весь мед, что они должны были принести за день, куда-то исчез или вовсе не был собран. Иногда мы заставали момент, когда их загоняли обратно в Кирпичный Дом, а они, казалось, исполняли свой дикий танец, чтобы рассказать сородичам про поля, где нет цветов, про то, что они потратили впустую еще один день в череде бесконечных лет своих поисков. А иногда заставали момент, когда их же, одетых в темные рубахи в синюю полоску поверх неравномерно загоревшей и сморщенной кожи, сестры конвоировали в парк, где они должны были провести остаток дня. И как ни прискорбно признаться, они были похожи на людей; мы не могли отрицать нашего с ними родства; но при этом все они двигали головами и ходили в полусогнутой позе так, как будто столкнулись с пронизывающей метелью, как будто продвигались к своего рода полярному лагерю души, без всякой надежды туда добраться.
Или вот иногда, когда больничный священник проводил в главном зале мессу, на которую мы являлись со скуки или по желанию, чтобы, как Лир и Корделия «молиться, песни петь» в тюрьме, беспокойную группу из второго отделения заводили и усаживали на длинные деревянные скамьи. Они пели с таким задором, что, казалось, пугали проповедника, торжественно и застенчиво стоявшего за кафедрой, на которой лежала Библия, открытая на обещании дать апостолам другого Утешителя, которую он читал с виноватым видом. Обитательницы второго отделения в самых разнообразных шапочках вели себя как неугомонные дети, соскакивали с сидений и перебивали проповедника, вставляя свои уместные ремарки. Умиротворенно улыбались, когда предлагалось возвести молитву «о больных умом». Истово пели:
У реки соберемся,
У реки, несравненно прекрасной,
У реки соберемся,
Что у трона Господня течет [4].
И:
Солнце воссияет
Суше и морям.
Свет его мерцает,
Светит вольно нам [5].
Мужчины сидели с одной стороны, женщины с другой. Под покровом религиозности передавались записки, выражались симпатии, планировались побеги. Мужские голоса, протяжные, сильные, порой фальшивившие, с неохотой оставляли любимую последнюю ноту, заставляя послушную органистку, пациентку из первого отделения, похожую на Георга Третьего, до бесконечности держать усыпляющий звук, пока священник, чьи симпатии к вечности были продиктованы ее иллюзорностью, а вовсе не материализацией в виде протяжного «аминь» в конце церковного гимна, уверенно обрывал звук, громко произнося благословение: «Да пребудет благодать Господа нашего Иисуса Христа с каждым из нас ныне, и присно, и во веки веков».
Обитательницы второго отделения любили немного задержаться, чтобы обменяться с капелланом рукопожатиями, поговорить с ним о домашних делах, мы же, жительницы четвертого отделения, чувствуя тревогу при виде такого дружелюбия, похожего на симптом какой-то неизлечимой болезни, которая может очень легко передаться и нам, торопились побыстрее выйти и отправиться по устланному незабудками парку к своим палатам. Любое описание пациенток из второго отделения будет банальностью по сравнению с тем, что они являли собой на самом деле.
«Они по-своему счастливы».
«Там настолько все далеко зашло, что они уже и не страдают».
«Они привыкли, поэтому не обращают особого внимания».
«Да им все равно».
Они не давали мне покоя; не те, что посещали мессы, а те, которых я могла видеть через забор, окружавший их двор и парк. Кто были эти женщины? И почему попали в больницу? Почему они были так не похожи на обычных людей на улицах городов Большого Мира? И что значили все эти подарки или отбросы, которые они перекидывали через забор: лоскуты, корки, экскременты, башмаки? Делали ли они это из любви или ненависти к тому, что скрывала от них ограда?
6
Жареную баранину, которую подавали в воскресенье на обед, нарезала, как и во всякий другой день, главная медсестра Гласс, которая, переходя ради этого из отделения в отделение, не забывала и себе выделить кусочек – «на пробу». Мясо по тарелкам раскладывала, поддевая его вилкой, стоявшая за длинным сервировочным столом старшая медсестра Хани, овощами заведовала сестра, следующая по рангу, а миссис Эверетт, раскрасневшаяся и встревоженная из-за того, что могла расщедриться, выдавая первые несколько порций, а теперь должна была следить, как бы не понадобилась вся ее изобретательность, чтобы не обидеть никого из оставшихся, разливала мятный соус. Столы были накрыты, и очередь стала разбредаться по своим местам, ждать, когда закончатся последние приготовления и старшая медсестра Хани прочитает молитву: «Увещеваем и молим Господом нашим Иисусом Христом, чтобы вы были благодарны за то, что дается вам». И только после этого нам разрешали притронуться к уже остывшей баранине с овощами и картошкой, укрытыми одеялом из ломкого жира. Нас не заставляли есть, хотя частенько повторяли, прикрываясь показным состраданием к невзгодам антиподов, что «некоторым в этом мире еще хуже».
Иногда, проявляя невиданную щедрость и тем самым заставляя нас испытывать благодарность и даже думать, что «есть в ней все-таки что-то человеческое», старшая медсестра Хани разрешала сначала поесть, а молитву произносила потом, когда были собраны, пересчитаны и заперты все ножи, а мы сидели в ожидании почты и объявлений, которые обычно оказывались сводкой наших оплошностей: «Впредь не хотелось бы видеть, чтобы…» или «На некоторых пациентов поступили жалобы, что…». Мы вслушивались с трепетом.
Однако управляла своей вотчиной старшая медсестра Хани не только при помощи страха; случались у нее и приступы радости, которые выражались в том, что она собирала вечером всех на «посиделки» (как она это называла) у пианино, лихо снимала с себя красный кардиган, вешала его на спинку стула, садилась за инструмент и начинала играть для нас песни прошлых поколений, требуя резким голосом: «Давайте громче! Все вместе!»
Радужный свет над рекою парит,
Чувствуешь: нежность,
Сквозь скорби безбрежность,
Незвано в сердце спешит [6].
А еще «Когда ирландские глаза улыбаются» и «Дорога на острова», завершая все церковным гимном:
Был на холме высоком град,
Непросто и дойти, —
И наш Господь в нем был распят,
Убит, чтоб нас спасти [7].
К этому моменту выражение ее лица становилось суровым, она поворачивалась к нам, многозначительно глядя, словно хотела сказать: «Помните, что есть вещи, за которые вам стоит быть благодарными, поэтому хватит ныть, тут все делается для вашей же пользы, и есть места, дамы, где людям гораздо хуже, чем вам».
А затем, растянув свои тонкие ненакрашенные губы в горькую улыбку, она начинала играть танцевальную мелодию и приглашать нас всех в завершение вечера потанцевать друг с другом. Продемонстрировав принципы несогбенного товарищества, она покидала общий зал, а кто-то обязательно говорил: «Молодец она все-таки».
На следующее утро, хмурая и неприветливая, она холодно заявляла: «Вы сегодня без завтрака. У вас процедура».
По сравнению с другими днями недели воскресенья были приятными. Не было никаких электрошоков; утром была месса, а днем – прогулка по территории, возможно, даже мимо тополей, вверх по холму, минуя деревянный дом, где жили некоторые из пациентов-мужчин, старые, с трясущимися конечностями, которые только и могли, что сидеть на солнце, а еще молодые азиаты и имбецилы, которые выполняли на ферме и в садах несложную работу. Между двумя столбами у задней двери была натянута бельевая веревка, провисавшая под тяжестью их полосатой одежды. Иногда мы замечали, как на нас глазел кто-то из окна без занавесок или таращились те, что сидели на солнце, по-старчески шевеля губами, пытаясь проговорить что-то, что не сумели сказать за всю жизнь, или что-то, что сказать было некому, а теперь они бубнили и бубнили, не особо подбирая слова, с одной лишь целью – успеть выговориться. Пока человек жив и охраняет свое суверенное право на жизнь, его, короля-солнце, окружают невидимые царедворцы бытия, которые следят, чтобы он был сыт и опрятно одет, подобно муравьям, прислуживающим своей королеве; но когда последний час становится все ближе, они забывают о нем или объединяют усилия, чтобы убить, и тогда, окутанный флером умирания, человек приобретает особый заброшенный вид. Неопрятность стариков как будто жила в них, выглядывая из-под небрежно пристегнутых к штанам подтяжек, расстегнутых ширинок, незаправленных, измятых фланелевых рубашек.
Проходя мимо, мы видели в их столовой деревянные столы без скатертей, накрытые для чая – керамическая чашка, тарелка и ложка, и каждый раз меня приводила в уныние мысль о том, каким же тоскливым должен быть день, если чай подавать сразу после обеда. Наверняка после этого их тут же укладывали спать, еще засветло. Как мне хотелось зайти к ним, расстелить на длинных столах белые скатерти и расставить вазы с цветами. В некоторых больницах Большого Мира заведующие отделениями выяснили (и об этом даже писали в газетных статьях, с заголовками), что цветы «помогают». Могли ли они помочь сейчас? Возможно, нет. Похоже, это было место, где никого не было дома. Мне это напоминало те моменты из детства, когда отец возвращался домой с работы, а мама была в саду или в туалете или разговаривала с соседкой у забора; он заходил на пустую кухню, и выражение паники появлялось у него на лице.
«А где мама?» – спрашивал он.
И я вдруг вспоминала стихотворение, которое мы учили в школе, мистическую историю, начинавшуюся строками: «“Есть ли в доме кто-нибудь?” – освещенный лунным светом, путник в дверь стучал». Странник мог годами стучать в двери того угрюмого отделения, мог даже кричать, как путешественник из стихотворения: «Скажите им, что я пришел!» – но ответа так и не добился бы. Старики уже были мертвы, даже если рты их все еще шевелились и у них получалось выпить чаю и умыкнуть кусок борстальского пирога; даже если они выходили погреться на солнце в компании единственных своих спутников – собственных теней, недвижно и безмолвно лежавших рядом.
А еще во время прогулки мы приходили к загону для телят – голштинские малыши на кривых ножках просовывали через забор свои головы и лизали своими шершавыми языками наши протянутые руки. Или же мы прогуливались, зажав носы, по свинарникам, где поросята, похожие на розовые колбаски, плотно утрамбованные сосали вымя лежавших на боку, измазавшихся в грязи свиноматок, а подростки гоняли носами по полу объедки или фыркали, засунув морды в корыто с молоком, в котором не осталось сливок. Интересно, догадывались ли они, что в столовой нашего отделения висело объявление, полностью посвященное только им?
«Просьба не бросать кости от рыбы в бак для свиней. Несколько ценных особей стали жертвами этой пагубной практики».
Там, рядом со свинарниками, наверху холма, мы стояли и смотрели на море, на дым на горизонте, выходивший из труб корабля, перевозившего пшеницу или уголь в один из портов на восточном берегу; ближе к нам, под холмом, серела аспидная кровля главного больничного здания с его маленькими зарешеченными окнами, специально созданными, чтобы противостоять солнечному свету, и башней, на которой колокол, как его древний тюремный собрат, сигналил о наступлении утра и вечера.
Или же мы шли вниз к саду у главного входа, мимо священного участка, принадлежавшего главврачу, на ограде которого висело предупреждение «ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Мы брели дальше, подстраиваясь под самую медленную из нас, пока не замирали у центральных ворот, за которыми открывался Большой Мир: раскинувшаяся на лугах деревушка Клифхейвен, школа, церковь да два универмага, а ниже по дороге, за домом доктора, железнодорожная станция и служивший залом ожидания деревянный навес, выкрашенный красной краской, похожий на те, что строят в школах для прогулок; сюда залетали чайки и оставляли на полу серо-черные крапчатые кляксы, здесь в углу сбрасывали в кучу багаж, который, казалось, пробыл тут вечность, здесь за дверью, висевшей на сломанных петлях, таился туалет, где по раковине и унитазу бежали дорожки ржавых капель, на пол натекла лужа воды, а клочок бумаги полуприкрывал темнеющие результаты чьих-то трудов, которые этот кто-то не стал смывать.
Мы стояли у ворот, смотрели на Большой Мир, где, как нам обманчиво подсказывала память, люди могли поступать, как им вздумается: покупать собственную мебель, туалетные столики с салфетками и платяные шкафы с зеркалами; открывать и закрывать двери столько раз, сколько им хотелось; у них была одежда с этикетками, на которых не писали их имена, сумки, куда можно было положить пилочку для ногтей и косметику; никто при этом не надзирал за ними, пока они ели, не собирал и не пересчитывал после этого ножи и не говорил устрашающе: «Вставайте, дамы».
Затем по дорожке из гравия мы возвращались в четвертое отделение. Отпиралась входная дверь, нас вели по коридору мимо палат для туберкулезных больных, палат для пожилых, палаты миссис Пиллинг, к шкафу для верхней одежды, где мы, кроме самых хитрых (иногда включая меня), у которых получалось убедить сестру, что они «всегда» помогают накрывать на стол к чаю, «никогда» не забывают последить за тем, чтобы на огне в столовой сварились яйца для пациентов в наблюдательной палате, или «обычно» занимаются тем, что развозят по отделению закуски к чаю, оставляли свои пальто и шарфы, а затем нас запирали в общем зале, пока не подадут вечерний чай. Там нас, раскрасневшихся, полных впечатлений от того, что мы видели по дороге: поросят, телят, вещей доктора, сушившихся на веревке, цветущего дерева магнолии, которым гордилась вся больница, пустым взглядом встречали те, что были слишком стары или больны, чтобы выходить на прогулку. И дошли мы до самых ворот!
В ответ на нас смотрели отупелым взглядом: наши рассказы никого не впечатляли. Они продолжали таращиться; некоторые тихо стонали, некоторые были заняты своим обычным делом – рвались наружу, дергая за дверную ручку и прося о помощи, некоторые уставились в окно и смотрели на деревья, на темно-пунцовый бук, сияющий в лучах заходящего солнца, на ели и на черных дроздов, скользивших крыльями по траве.
Ну и что такого в том, что мы были у ворот или заглядывали в коровник? Те, что оставались в общем зале, казалось, смотрели на нас с осуждением, как будто бы мы, выходившие на улицу, потратили время впустую. Им-то это было не нужно: они могли созерцать собственную цветущую магнолию. Подавленные, мы рассаживались по местам и ждали чая. Завтра был понедельник. Не снимайте ночную рубашку и халат, ночную рубашку и халат, ночную рубашку, ночную…
7
После трех лет, которые я провела в четвертом отделении, когда я покорно – почти всегда – посещала процедуры по утрам, зарабатывала уважение миссис Пиллинг, энергично натирая полы в коридоре, расположение миссис Эверетт, вызываясь (порой без желания) чистить яблоки и столовое серебро по пятницам, и все возрастающее неодобрение главной медсестры Гласс и старшей медсестры Хани своими приступами паники за обедом, мне сказали, что я достаточно здорова, чтобы возвращаться домой. Когда пациенты узнавали, что кого-то отпускают, они смотрели на него с завистью и назначали особенным для самих себя и тех, кто приходил их навестить: «А это Мона (или Долли, или Ненси). Ее отпускают».
«Правда?» – отвечали на это посетители, словно туристы, которым указывают на обычное здание и говорят, что это местная достопримечательность. Не хотелось и самому говорить о том, что тебя отпускают, даже оповещать об этом; тебя одновременно переполняли чувство вины и чувство радости, как ребенка в приюте, которого собирались наконец забрать и которому предстояло выдержать проникнутые тоской взгляды брошенных позади.
За мной должна была приехать мама. Как и всех остальных в семье, новость о том, что одну из ее дочерей упекли в Клифхейвен, пугала, повергала в шок. Общее представление о людях в Клифхейвене, да и в любой другой психиатрической больнице, они получали из шуточек про чокнутых, из тех, где высокопоставленного проверяющего спрашивали, как к нему обращаться, он отвечал: «Лорд» или «Сир», а его утешали: «Это скоро пройдет. Когда меня сюда привезли, я тоже думал, что я король Англии».
Моя семья нечасто приходила меня навестить. Они казались мне чужими и отстраненными; иногда, когда я бросала быстрый взгляд на мать или отца, с удивлением обнаруживала, что их тела дробились на множество частиц, клетки их кожи, похожие на зерна пшеницы, перемалывались в муку; иногда они проворачивали свой трюк и обращались в птиц, взмахами могучих крыльев, разгонявших в воздухе шторм.
Мама надела новую одежду, которая вызывала у меня недоверие. Годами, с того самого момента, когда она вышла замуж, ее главным предметом гардероба был, как она его называла, «миленький темно-синий костюм». Но недавно она отправила свои нестандартные мерки фирме с севера, которая прислала по почте готовый коричневый костюм в тонкую коричневую полоску. Никогда до этого она не носила вещи этого цвета, тем более костюмы; когда она пришла, казалось, ей было неуютно, как будто она скрывала что-то постыдное. Коричневый, какой бывает вакса для обуви, с ненавязчивым отливом, почти сразу испачкался травой, когда мы устроились под буком на пикник.
* * *
Мама приехала забрать меня домой. Взбудоражено и громко разговаривала она с доктором, возмущенно заверяя его, что, конечно же, я никогда не слышала никаких голосов и не видела ничего и что со мной все в порядке. Мама не доверяла доктору; в какой-то мере моя болезнь была некоторым отражением ее самой, чего-то, чего ей стоило стыдиться, что стоило замалчивать и, если потребуется, отрицать. Она негодовала, но согласилась с предложением доктора, что мне не стоит оставаться дома, что мне стоит отправиться на север и пожить какое-то время у сестры, которая выразила готовность «принять» меня.
Я попрощалась с миссис Эверетт и миссис Пиллинг, пекарем, посвиненком, новенькими медсестрами, заполнявшими ведра углем, вычищавшими очаг, старательно выносившими горящие угольки, раздуваемые сквозняком из боковой двери, ответственно отрабатывавшими двенадцатичасовой рабочий день, раскрасневшимися, растрепанными и уставшими, с пятнами сажи на подолах новенькой розовой униформы и красными кругами над задниками форменных туфель. Хотя и они учились отдавать команды, которые нужно было моментально выполнять, и сбивать разбредающееся стадо в аккуратную очередь.
Я прощалась, обещая писать и зная, что после нескольких первых писем сказать будет нечего, кроме провонявших нафталином фраз, при помощи которых люди стараются сохранить воспоминания. «Доктор Хауэлл все еще приходит на Рауты по понедельникам?» «Насколько я понимаю, у Павловой все по-прежнему». «По вторникам все также подают картонные пироги с фаршем?»
Оставался только разговор с главврачом, который никогда раньше со мной не общался, но которого я иногда видела на пятничных обходах, когда он переезжал по узким дорожкам, отгороженным деревьями, от отделения к отделению на своей мощной темно-бордовой машине с увесистым задом, из окна которой смотрел рыжий сеттер по кличке Молли. Доктор Портман был полноватым низкорослым темноволосым англичанином с ухоженными усами и карими глазами, поблескивавшими из-под кустистых бровей. Это был человек решительных манер и жестов, щедрый на симпатию, обладавший чувством возвышенного, что никак не соответствовало его образу переполненного амбициями успешного петуха, вышагивающего в модных полусапожках. Доктора Портмана прозвали Безумным Майором.
Я постучала, вошла в его кабинет и робко встала на красный ковер. На его столе в рамочке красовался девиз на итальянском: «Бесценен уходящий момент».
«Проходите, присаживайтесь», – сказал он любезно.
Я села.
Он наклонился ко мне. «Вас когда-нибудь насиловали?» – спросил он. Я ответила, что нет. Он встал из-за стола, подошел ко мне, пожал руку, пожелал всего хорошего – я могла покинуть больницу.
Выпустили меня на испытательный срок.



