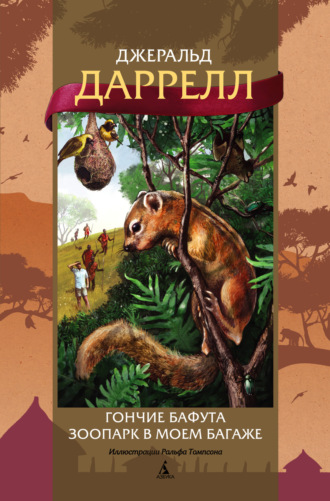
Джеральд Даррелл
Гончие Бафута. Зоопарк в моем багаже
Подходящей для них клетки у меня не нашлось, и сухолистки провели первые несколько дней взаперти у меня в спальне; там они медленно, задумчиво бродили по полу или сидели, погруженные в глубокое раздумье, под кроватью – словом, несказанно развлекали меня своим поведением. Прошло всего несколько часов нашего знакомства, а я уже убедился, что был глубоко несправедлив к своим толстушкам-сожительницам: они оказались вовсе не такими самодовольными и надменными, какими притворялись. На самом деле это робкие и застенчивые создания, они легко смущаются и начисто лишены самоуверенности; я подозреваю, что они даже страдают глубоким, неискоренимым комплексом неполноценности и их невыносимо важный вид – всего лишь попытка скрыть от мира неприглядную истину: они ничуть в себе не уверены. Это я совершенно случайно обнаружил в первый же вечер их пребывания в моей спальне. Я записывал их расцветку, а жабы сидели у моих ног на полу, и вид у них был такой, точно они обдумывали свои биографии для записи в Книгу лордов. Мне надо было осмотреть повнимательней нижнюю половину их тела, поэтому я нагнулся и поднял одну из них двумя пальцами; я обхватил ее за туловище под передними лапками так, что она болталась в воздухе и вид у нее при этом был самый жалкий, – в такой позе просто немыслимо сохранить достоинство. Потрясенная подобным обращением, жаба громко негодующе закричала и лягнула воздух толстыми задними лапками, но где ей было от меня вырваться! И ей пришлось болтаться в воздухе, пока я не закончил осмотра. Но когда я наконец посадил ее на прежнее место рядом с подругой, это была уже совсем другая жаба. В ней не осталось и следа прежнего аристократического высокомерия: на полу сидело сломленное, покорное земноводное. Жаба вся съежилась, большие глаза тревожно моргали, на физиономии ясно выражались печаль и робость. Казалось, она вот-вот заплачет.
Превращение это произошло столь внезапно и бесповоротно, что можно было только изумляться, и, как это ни смешно, я очень огорчился – ведь это я так ее унизил! Чтобы хоть как-то сгладить случившееся, я поднял вторую жабу, дал и ей поболтаться в воздухе – и эта тоже сразу утратила свою самоуверенность: едва я опустил ее на пол, она тоже стала робкой и застенчивой. Так они и сидели, приниженные, несчастные, и выглядели до того забавно, что я бестактно расхохотался. Этого их чувствительные души вынести уже не могли: обе тотчас поспешно двинулись прочь от меня, спрятались под столом и просидели там добрых полчаса. Зато теперь, когда я открыл их тайну, я мог сбивать с них спесь когда угодно: надо было только легонько щелкнуть их пальцем по носу, и они тут же виновато съеживались, точно вот-вот покраснеют от смущения, и глядели на меня умоляющими глазами.
Я построил для моих сухолисток большую удобную клетку, и они прекрасно там устроились; впрочем, заботясь об их здоровье, я разрешал им каждый день выходить на прогулку в сад. Правда, когда животных стало больше, у меня оказалось столько работы, что я уже не мог стоять и ждать, пока мои аристократки – голубая кровь надышатся воздухом; к большому их неудовольствию, прогулки пришлось сократить. Но однажды я случайно нашел для них сторожа, на чье попечение мог спокойно их оставлять, не прерывая работы. Этим сторожем оказалась красная мартышка Балерина.
Балерина была на редкость ручная и очень деликатная обезьяна, и она живо интересовалась всем, что происходило вокруг. Когда я впервые выпустил сухолисток на прогулку поблизости от того места, где была привязана Балерина, обезьяна уставилась на них как завороженная: она встала на задние ноги и всячески выворачивала шею, стараясь не упустить их из виду, пока они важно шествовали по саду. Через десять минут я вернулся в сад поглядеть, как там мои жабы, и обнаружил, что обе они подошли прямо к обезьяне. Балерина сидела между ними на корточках, нежно их гладила и громко что-то бормотала от удивления и удовольствия. У жаб вид был до смешного довольный, они сидели не шевелясь: эти ласки явно доставляли им удовольствие.
После этого я каждый день выпускал жаб возле того места, где была привязана Балерина, и она за ними присматривала, пока они бродили вокруг. Завидев их, обезьяна вскрикивала от восторга, потом нежно их поглаживала до тех пор, пока они не оставались лежать подле нее без движения, как загипнотизированные. Если они отходили чересчур далеко и могли скрыться в густом кустарнике на опушке сада, Балерина ужасно волновалась и звала меня пронзительными криками, стараясь дать мне знать, что ее подопечные убегают и я должен поскорее поймать их и принести обратно к ней. Однажды она позвала меня, когда жабы забрели слишком далеко в поле, но я не услышал, и, когда позднее спустился в сад, обезьяна истерически металась на привязи, натянув веревку до отказа, и отчаянно кричала, а жаб нигде не было видно. Я отвязал обезьяну, и она тотчас повела меня к густым кустам на краю сада; там она очень скоро нашла беглянок и припала к ним с громкими радостными криками.
Балерина ужасно привязалась к этим жабам. Видели бы вы, как нетерпеливо она здоровалась с ними по утрам, как нежно гладила и похлопывала, как волновалась, когда они забредали слишком далеко, – это было поистине трогательное зрелище! Она только никак не могла понять, почему у них нет шерсти, как у обезьяны. Она трогала пальцами их гладкую кожу, пыталась раздвинуть несуществующую шерсть, и на ее черном личике явственно читалась тревога; порой она наклонялась и начинала задумчиво лизать им спину. Впрочем, довольно скоро их безволосые спины перестали ее тревожить, и она обращалась с ними нежно и любовно, как с собственными детенышами. Жабы на свой лад тоже привязались к обезьяне, хоть она порой и унижала их достоинство, а это им бывало не по нраву. Помню, однажды утром я их выкупал, что доставило им немалое удовольствие, а по дороге через сад домой к их мокрым животам прилипли мелкие щепочки и комья земли. Это очень огорчило Балерину, ей хотелось, чтобы ее любимицы были всегда чистенькие и аккуратные. И вот я застал такую картину: обезьяна сидела на солнышке, задние ноги ее, как на подставке, покоились на спине одной жабы, а другая сухолистка болталась в воздухе – обезьяна держала ее на весу в самом неудобном и унизительном положении. Жаба медленно кружилась в воздухе, а обезьяна озабоченно обирала с нее всякий мусор и все время попискивала и повизгивала – что-то объясняла. Покончив с одной жабой, Балерина опустила ее на землю, где та осталась сидеть, притихшая, подавленная, и принялась за другую – подняла ее в воздух и заставила пережить то же унижение. Да, в присутствии Балерины сухолисткам никак не удавалось проявлять свое аристократическое высокомерие.

II
Гончие Бафута
Для ловли различных представителей животного мира Бафута в моем распоряжении имелись четыре охотника, которых прислал мне Фон, а сверх того – свора из шести тощих, нескладных дворняжек; их владельцы уверяли меня, что это лучшие охотничьи собаки во всей Западной Африке. Всю эту разношерстную компанию я прозвал Гончими Бафута. Охотники, конечно, не понимали этого названия, но чрезвычайно им гордились, и однажды я услышал, как один из них в споре с соседом громко и возмущенно заявил: «Ты на меня не кричи, мой друг. Не знаешь, что ли, – я тоже Гончая Бафута!»
Охотились мы так: уходили в какую-нибудь долину подальше или в горы и выбирали место, где трава и кусты погуще. Там мы полумесяцем раскидывали сети, а потом ходили по подлеску с собаками и загоняли в сети все, что попадалось. У каждой собаки на ошейнике висела маленькая деревянная погремушка, и, когда вся свора скрывалась в высокой траве, по громкому бренчанию этих украшений всегда можно было определить, где собаки. Такой способ охоты был очень удобен – я всегда оказывался на месте и мог сразу же заняться пойманными животными: их тотчас увозили в Бафут и без промедления помещали в удобную клетку. Мы перевозили их в мешках с отверстиями для доступа воздуха (отверстия эти были оправлены кольцами из латуни, чтобы их нельзя было разорвать изнутри); мешки для более крупных и свирепых зверей сшиты были из брезента или дерюги, а для мелких и безобидных – из ткани помягче. Очутившись в темном мешке, наши пленники, как правило, переставали отбиваться и лежали смирно до тех пор, пока не попадали в клетку; для животного страшней всего были те минуты, когда его выпутывали из сети, но уже очень скоро мы так набили руку, что проделывали это необыкновенно ловко: минута-другая – и животное уже схвачено, извлечено из сети и упрятано в мешок.
В первый день, когда я выступил в поход с Гончими Бафута, охотники вооружились так, словно мы собрались охотиться на львов. В придачу к обычным ножам они взяли с собой копья и кремневые ружья. Мне вовсе не хотелось по чьей-то оплошности получить в бок заряд ржавых гвоздей и камешков, а потому, несмотря на горестные мольбы охотников, я настоял, чтобы ружья остались дома. Охотники просто в ужас пришли от моего решения.
– Маса, – жалобно возразил один, – если мы встретить опасный добыча, как мы его убивать, если ружье лежать здесь?
– Если мы встретим опасную добычу, мы не станем ее убивать, а поймаем, – решительно объявил я.
– А? Маса будет поймать опасный добыча?
– Именно так, друг мой. А если ты боишься – не ходи с нами, понял?
– Маса, я не боишься, – с негодованием возразил охотник. – Только если мы встретить опасный добыча и он убить маса, тогда Фон много сердиться.
– Умолкни, мой друг, – сказал я и достал свое охотничье ружье. – Я возьму ружье. И тогда, если добыча убьет меня, это уж не ваша забота, ты понял?
– Я понял, сэр.
Утро только занималось, и солнце еще не поднялось над горными цепями, что окружали Бафут. Небо было нежнейшего розового оттенка, и на нем там и сям белели кружевные облачка. Долины и горы все еще обволакивал и скрывал от глаз утренний туман, а высокая золотистая трава вдоль дороги склонялась под тяжестью росы. Охотники гуськом шагали впереди, а собаки то разбегались по кустам, то возвращались, и погремушки их весело побрякивали со всех сторон. Наконец мы свернули с дороги на узкую извилистую тропинку, что вела через холмы. Здесь туман был гуще, но стлался низко, по самой земле. Он совсем закрывал наши ноги, и это было очень странно – будто бредешь по пояс в ровном, чуть зыблющемся пенном озере. Высокая трава, влажная от росы, похрустывала под моими подошвами, а вокруг, где-то в глубине этого молочно-белого озера тумана, поминутно раздавались взрывы хохота – это крохотные лягушки потешались над чем-то, понятным лишь им одним. Вот и солнце встало над дальней кромкой гор, точно огромный замороженный апельсин, с каждой минутой лучи его грели все жарче, туман начал подниматься и легкими спиралями и кольцами заструился ввысь: вскоре уже казалось, будто мы идем сквозь лес призрачных белых деревьев, которые извиваются, гнутся, распадаются и возникают вновь, причудливо меняя форму с легкостью амебы, и все тянутся вверх, точно ввинчиваются в воздух.
Через два часа мы добрались до места, которое охотники выбрали для нашей первой охоты. Эта довольно широкая и глубокая долина лежала между двумя грядами холмов, чуть изгибаясь наподобие лука. Крохотный ручеек проложил себе путь по дну долины, между черными глыбами камней и золотистыми лугами; он сверкал на солнце, словно тончайшая стеклянная паутина. Долина здесь почти сплошь поросла высокой, непролазно-густой травой и мелким кустарником; местами, отбрасывая тень на траву, поднимались кусты повыше и молодые деревца.
Мы спустились в долину и растянули поперек нее ярдов сто сетей. Потом охотники подозвали собак и пошли ко входу в долину, а я остался возле сетей. На полчаса установилась тишина – охотники с собаками медленно двигались к сетям, лишь побрякивали деревянные погремушки на ошейниках собак, да, случалось, пронзительно ругнется, наступив на колючку, какой-нибудь незадачливый охотник. Я уже начинал думать, что ничего мы сегодня не поймаем, как вдруг охотники подняли неистовый крик, а собаки залились яростным лаем. Они были еще довольно далеко от сетей, и я их не видел за небольшой купой деревьев.
– Что там у вас? – завопил я, стараясь перекричать весь этот шум.
– Тут есть добыча, маса, – донесся ответ.
Я терпеливо ждал, и наконец из-за деревьев показался задыхающийся от бега охотник.
– Маса, дай мне вон тот маленький сеть, – сказал он, указывая на мелкие сети, аккуратно сложенные возле мешков.
– А какую добычу вы там нашли? – спросил я.
– Белка, сэр. Он убежал на дерево.
Я взял толстый брезентовый мешок и пошел за ним сквозь кусты к деревьям. Тут столпились охотники, они говорили все разом и отчаянно спорили, как лучше достать зверька, а собаки лаяли и прыгали вокруг небольшого деревца.
– Где ваша добыча? – спросил я.
– Он вон там, маса, наверху.
– Хороший добыча, маса!
– Мы сейчас его поймать, маса!

Я подступил к самому стволу, задрал голову и стал вглядываться в листву: футах в двадцати над нами на ветке сидела большая красивая белка – шерстка полосато-серая, белая полоска на ребрах, а лапки оранжевые. Хвост длинный, но не пушистый, в поперечных полосках, точно светло-серые и черные кольца. Белка сидела на ветке, махала на нас хвостом и довольно сердито кричала: «Чак! чак!» – точно мы ее не испугали, а только разозлили. Мы принялись раскидывать сети вокруг дерева футах в десяти от его ствола, а белка следила за нами злобным взглядом. Потом мы привязали собак, и я велел самому малорослому из охотников вскарабкаться на дерево и согнать белку вниз. Вторая часть операции была предложена самими охотниками; я думал, справиться с белкой на дереве – задача невыполнимая, но охотники уверяли, что, если кто-нибудь залезет на дерево, белка непременно спустится на землю. И они оказались совершенно правы: не успел охотник добраться до верхних ветвей с одной стороны ствола, как белка кинулась вниз по другой его стороне. Просто чудо, как она сообразила броситься к тому единственному месту, где сеть была чуть-чуть порвана, протиснулась в дыру и поскакала прочь по траве, а мы очертя голову бросились в погоню, на бегу все разом выкрикивали друг другу всяческие мудрые советы и распоряжения, и, конечно же, никто не обращал на них никакого внимания. Мы только успели обогнуть группу кустов, как увидели нашу белку – она бежала вверх по стволу другого невысокого деревца.
Мы опять расставили сети, и опять охотник полез на дерево, чтобы согнать белку вниз. Но на этот раз она оказалась еще хитрей: она заметила, что мы караулим дыру в сетях, через которую она улизнула в первый раз, сбежала по стволу на землю, сжалась в комочек и прыгнула. Пролетела по воздуху в полудюйме над сетью и опустилась по ту сторону. Стоявший ближе других охотник сделал отчаянный рывок, но промахнулся, и белка ускакала прочь, без умолку с негодованием твердя свое «чак! чак!». На сей раз она избрала другую тактику: вместо того чтобы взлететь на дерево, юркнула в ямку между корнями.
И опять мы окружили дерево сетями и начали шарить длинными тонкими прутьями в лабиринте корней, среди которых она пряталась. Но из этого тоже ничего не вышло, только «чак! чак!» раздавалось все чаще, и мы скоро отступились. Следующая наша попытка, однако, оказалась более успешной: мы засунули в самое большое отверстие пучок тлеющей травы, удушливый дым распространился по всем извивам и ходам лабиринта, и мы услыхали сердитое чихание и кашель. Под конец белка не выдержала и выскочила из-под корней, прямо головой в сеть. Но и тут она еще не сдалась: пока ее выпутывали из сетей, она укусила меня и двух охотников впридачу, а когда ее засовывали в брезентовый мешок – третьего. Потом я повесил мешок на ветки ближайшего кустика, и все мы уселись покурить – после трудов праведных это было просто необходимо, – а белка глядела на нас сквозь латунные кольца отверстий и злобно кричала, будто бросала нам вызов: «Ну-ка, попробуйте открыть мешок и встретиться со мной лицом к лицу!»
Полосатые земляные белки широко распространены на зеленых равнинах Западной Африки, но я был очень доволен, что поймал хоть одну, – таких у меня еще не бывало. Как ясно из их названия, эти белки живут почти исключительно на земле, и я порядком удивился, что наша пыталась найти убежище на дереве. Позднее я обнаружил, что все белки, которые живут в лугах (большинство их действительно земляные), в минуту опасности кидаются к деревьям и только в самом крайнем случае ищут спасения среди корней или в дуплах гнилых деревьев.
Наконец мы перевязали свои раны, покурили и поздравили друг друга с первой добычей, потом передвинули большую сеть дальше по долине; здесь трава была густая, перепутанная, высотой чуть ли не в шесть футов. Это отличное место для особенной добычи, сказали мне охотники, хотя из вполне понятной осторожности не пожелали уточнить – для какой именно. Мы расставили сети, я устроился в удобном месте где-то посередине, внутри дуги, чтобы сразу же извлечь оттуда то, что попадется, а охотники взяли собак и ушли примерно на четверть мили дальше по долине. Высоким протяжным криком они дали мне знать, что стали пробиваться сквозь густую траву, и тут наступила тишина. Лишь трещали и пощелкивали вокруг бесчисленные цикады и кузнечики, да издали чуть слышались собачьи погремушки. Прошло полчаса – ничего! Со всех сторон меня теснила шелестящая чаща высокой травы, такая густая и дремучая, что в двух шагах уже ничего не разглядеть.
Крохотная прогалинка, где я сидел, пылала зноем, мне ужасно захотелось пить; я огляделся и вдруг вспомнил, что мой заботливый повар сунул в один из мешков термос с чаем, а я совсем было о нем забыл. Я с благодарностью вытащил термос, уселся на корточки на самом краю прогалины среди высокой травы и налил себе чаю в стаканчик от термоса. Я пил, поглядывал по сторонам и вдруг заметил прямо перед собой в сплошной стене травы узкий, темный проход – его явно протоптал в травяном лесу какой-то зверь; я решил, когда покончу с чаепитием, обследовать этот проход.
Не успел я налить себе второй стаканчик, как справа, совсем рядом, раздался отчаянный шум и гам: охотники пронзительными криками подбадривали собак, а собаки заливались неистовым лаем. «Что у них там происходит?» – подумал я, и вдруг в траве послышался шорох; я придвинулся поближе к темному проходу в надежде разглядеть, что там шуршит. Внезапно трава раздвинулась, оттуда выскочило нечто темно-бурое и ринулось прямо на меня. Я нападения никак не ожидал, да еще сидел на корточках и держал в одной руке термос, а в другой стаканчик с горячим чаем. Животное, которое со страху показалось мне вдвое крупней бобра, прыгнуло прямо мне на грудь; от неожиданности я опрокинулся на спину, зверек стоял у меня на животе, а из термоса прямо мне на колени лился обжигающий чай. Оба мы одинаково удивились и, кажется, одинаково завизжали от страха. Руки у меня были заняты, я попытался стиснуть зверька локтями, но он соскочил с меня, точно резиновый мяч, и ускакал в траву. Сеть в одном месте стала подергиваться и трястись, и до меня донесся отчаянный визг, – видно, мой незнакомец угодил прямо в нее. Я закричал охотникам и с трудом пробрался сквозь густую траву туда, где шевелилась сеть.

Зверек основательно в ней запутался и теперь лежал весь скорчившись, вздрагивал и пугливо фыркал; то и дело он безуспешно пытался перекусить петли сети острыми зубами. Теперь я его разглядел как следует. В сеть попалась очень большая тростниковая крыса, животное, известное африканцам под именем траворезки, что очень точно передает его повадки: своими большими, отлично развитыми резцами траворезка проходит по лугам, да и по засеянным полям, как косилка. В длину она два с лишним фута и покрыта грубой коричневой шерстью. Мордочка круглая, как у бобра, маленькие уши плотно прижаты, хвост толстый, безволосый, и большие лапы, тоже безволосые. Она, видно, до полусмерти испугалась меня, и я не стал подходить ближе, пока не подоспели охотники, – боялся, как бы она все-таки не вырвалась из сетей.
Крыса лежала и судорожно вздрагивала, а порой дергалась, пыталась подскочить в воздух и всякий раз при этом отчаянно взвизгивала. Я изрядно встревожился – вдруг у нее сейчас будет разрыв сердца? Только много позднее, когда я поближе познакомился с тростниковыми крысами, я узнал, что такой истерикой они встречают все новое, непривычное – вероятно, в надежде испугать или смутить врага. А на самом деле тростниковая крыса – животное отнюдь не из робких и не замедлит впиться своими огромными резцами вам в руку, если вы позволите себе с ней какую-либо вольность. Я оставался на почтительном расстоянии до тех пор, пока не подошли охотники; тут мы общими усилиями извлекли крысу из сети.
Когда ее вытащили и стали сажать в крепкий мешок, крыса вдруг отчаянно подпрыгнула у меня в руках; я сжал ее покрепче, и, к моему удивлению, у меня в пальцах остался большой клок шерсти. Наконец мы надежно засунули траворезку в мешок, а я сел и принялся рассматривать шерсть, которую невольно сорвал с моей упитанной пленницы. Шерсть оказалась длинной и довольно жесткой, похожей на грубую щетину; корни у нее, видно, очень слабые: чуть потянешь – и лезет клочьями. Заново отрастает она очень нескоро, и, так как лысую тростниковую крысу никак нельзя назвать красавицей, обращаться с ней приходится в высшей степени осторожно.
Поймав тростниковую крысу, мы медленно двинулись дальше по долине, время от времени расставляя сети и обшаривая подозрительные кусты и подлесок. Когда стало ясно, что больше тут нечем поживиться, мы свернули сети и направились к большому холму в полумиле от долины. Холм этот был на редкость правильной формы, и мне на ум тотчас пришел курган, под которым похоронен какой-то исполин, что бродил по этой равнине в давно минувшие времена: на самом верху возвышалась груда каменных глыб, каждая величиной с дом, – казалось, будто здесь воздвигнут памятник. В узких расщелинах и просветах между глыбами росли чахлые деревца, стволы их были изогнуты и скручены всеми ветрами, но на каждом светилась гроздь ярко-золотистых плодов. В высокой траве у подножий деревьев виднелись фиолетовые и желтые орхидеи, а местами эти огромные камни покрывал толстым ковром какой-то густо разросшийся вьюнок, с его стеблей свисали колокольчики цвета слоновой кости. Эти вздыбленные скалы, яркие цветы и причудливо изогнутые деревья являли собой удивительное зрелище на фоне багряно-голубого предвечернего неба.
Мы забрались на холм и уселись на корточках в тени камней среди высокой травы, чтобы перекусить. Кругом, сколько хватал глаз, простирались горные луга, цветы и трава колыхались на ветру, краски их сверкали и переливались, поминутно изменяясь. Гребни холмов из бледно-золотых постепенно становились белыми, а долины были нежного зеленовато-голубого цвета и местами темнели, когда над ними торжественно проплывало кучевое облако и тянуло за собой лиловую тень. Прямо перед нами в небе отчетливо вырисовывалась цепь тонко очерченных гор, их подножие почти скрывала россыпь огромных валунов вперемежку с малорослыми деревьями. Горы плавно круглились, они были на удивление правильной формы. Их покрывала трава самых разнообразных оттенков зеленого, золотого, пурпурного и белого цветов, и казалось – это накатывается огромная океанская волна: она вздымается над тщедушной преградой из камней и кустов и вот-вот через нее перехлестнет. Высоты эти были необыкновенно покойны и тихи, тишину нарушал, кажется, один лишь ветер – он хлопотливо метался во все стороны, заставляя каждую былинку петь свою собственную песню. Ветер расчесывал траву, и она мягко шелестела, он протискивался меж камней, забирался в трещины и расселины гор над нами, и оттуда доносилось чтото вроде жалобного уханья совы и внезапных раскатов хохота, ветер гнул и скручивал упрямые крепкие деревца, они трещали и стонали, а листья трепетали и мурлыкали, как котята. И все же эти невнятные звуки не нарушали, а скорее подчеркивали тишину лугов.
Вдруг тишина раскололась – из-за тесной группы скал донесся ужасающий рев. Я с трудом пробрался туда и увидел: у подножия каменной глыбы сбились в кучу охотники и собаки. Трое охотников о чем-то отчаянно спорили, а четвертый выл и приплясывал от боли; из раны у него на руке хлестала кровь. Взволнованные собаки прыгали вокруг и неистово лаяли.
– Что тут у вас за суматоха? – спросил я.
Все четверо обернулись ко мне и принялись каждый на свой лад рассказывать, в чем дело; они кричали все громче, стараясь перекричать друг друга.
– Зачем вы так кричите? Как же мне вас понять, если вы говорите все сразу, как женщины? – сказал я.
Добившись таким образом тишины, я указал на окровавленного охотника.
– Как ты получил эту рану, друг мой?
– Маса, это меня добыча укусить.
– Добыча? Какая добыча?
– Э, маса, я не знаю. Уж очень она сильно кусать, сэр.
Я осмотрел его руку и убедился, что из ладони словно аккуратно вырезан кусок величиной с шиллинговую монету. Я оказал охотнику простейшую первую помощь и стал расспрашивать, что за животное его укусило.
– Откуда пришла эта добыча?
– Вон из та дырка, сэр, – ответил раненый и указал на глубокую щель у подножия высокой скалы.
– А ты не знаешь, как называется эта добыча?
– Нет, сэр, – огорченно сказал раненый. – Я ее не видеть. Я приходить сюда на этот место и увидеть дырка. Я и подумать: там, в такой дырка, бывать добыча; и сунул рука. Он меня и укусить.
Я обернулся к остальным охотникам.
– Вот! – сказал я. – Этот человек не знает страха. Он не заглянул сначала в нору. Взял да и сунул туда руку, добыча его и укусила.
Охотники захихикали. Я опять повернулся к раненому:
– Стало быть, ты сунул руку в нору, не так ли? Но ведь в таких местах можно наткнуться и на змею, верно? А если тебя укусит змея, что ты будешь делать?
– Я не знаю, маса, – сказал он и ухмыльнулся.
– Друг мой, мне совсем не нужен мертвый охотник, так что ты уж больше не делай таких глупостей, понял?
– Понял, сэр.
– Вот и хорошо. Теперь давай поглядим, что за опасная добыча тебя укусила.
Я достал из мешка факел, согнулся в три погибели и заглянул в нору. В свете факела сначала блеснули глазки, налитые кровью, потом возникла острая, рыжеватая мордочка: зверек злобно, пронзительно взвизгнул и исчез во мраке и глубине норы.
– Ага! – воскликнул один из охотников, услышав визг. – Это буш дог. Очень сильно свирепый добыча.
К сожалению, названием «буш дог» – лесная собака – в этих краях обозначают без разбору самых разных мелких млекопитающих, из них лишь немногие хотя бы отдаленно сродни собакам, и потому разъяснение охотника ничуть меня не просветило – я так и не понял, что это был за зверь. Мы немного посовещались и решили, что есть только один верный способ заставить зверька выйти из норы: надо развести костер у самого входа и нагнать туда дыму, размахивая пучком листьев. Так мы и сделали, но сначала развесили над входом небольшую сеть. Не успел первый клуб дыма заползти в каменную щель, как зверек выскочил оттуда прямо в сеть и с такой силой, что сеть сорвалась со своих креплений и зверек вместе с ней покатился вниз по склону в высокую траву. Собаки с оглушительным лаем кинулись вдогонку, а следом помчались и мы, выкрикивая всяческие угрозы собакам, чтобы они не смели трогать беглеца. Однако очень скоро выяснилось, что зверек отлично мог сам постоять за себя и вовсе не нуждался в нашей помощи.
Он стряхнул с себя сеть, встал на задние лапы, и тут мы разобрали, что перед нами карликовая мангуста, изящный рыжеватый зверек величиной с горностая. Она так и осталась стоять, слегка покачиваясь из стороны в сторону, широко раскрыв рот, и издавала такие громкие, пронзительные крики, каких я в жизни не слыхал от такого маленького зверька. Собаки разом остановились и в оцепенении глядели на мангусту, а та все раскачивалась перед ними и визжала. Один пес, посмелее остальных, осторожно двинулся вперед и хотел обнюхать это странное существо, но мангуста, видно, только того и ждала: она упала плашмя в траву, ползком скользнула вперед, извиваясь, как змея, потом исчезла среди высоких стеблей – и вдруг опять появилась прямо под ногами у всей своры.
Тут она завертелась волчком, оглушая нас неумолчным визгом, и при этом впивалась зубами в каждую ногу или лапу, что попадалась ей на глаза. Собаки всячески пытались увернуться от ее острых зубов, но это было нелегко, ведь в траве мангуста подбиралась к ним незаметно, и собакам оставалось только подпрыгивать высоко в воздух.
И вдруг мужество им изменило, они все разом повернулись и позорно кинулись удирать вверх по холму, а мангуста так и осталась стоять на задних лапах одна на поле брани; она уже слегка задыхалась, но все еще выкрикивала язвительные насмешки вслед удалявшимся хвостам.

Так свора была побеждена, теперь нам предстояло самим постараться взять в плен этого маленького, но свирепого противника. Это удалось много легче, чем я предполагал: я привлек внимание мангусты, замахав у нее перед носом брезентовым мешком, она набросилась на него, как на врага, и принялась с ожесточением его кусать, а тем временем один из охотников подкрался сзади и набросил на нее сеть. Пока мы выпутывали мангусту из сети и водворяли в мешок, она совершенно оглушила нас своими яростными воплями и не переставала визжать весь обратный путь домой; по счастью, толстый брезент хоть немного приглушил этот визг. Мангуста умолкла, только когда, уже в Бафуте, я вытряхнул ее из мешка в большую клетку и бросил туда окровавленную голову цыпленка. Пленница тотчас же с философской рассудительностью принялась за еду и вскоре съела все до крошки. После этого мангуста хранила молчание и, только если на глаза ей попадался кто-либо из нас, бросалась к прутьям клетки и снова начинала отчаянно браниться. Нам это под конец до того надоело, что мне пришлось завесить клетку спереди куском мешковины – пускай посидит так, пока не привыкнет к человеческому обществу. Три дня спустя я услыхал с дороги знакомые крики и задолго до того, как вдали показался охотник, понял, что мне несут еще одну карликовую мангусту. Я очень обрадовался, что это была молодая самка, и посадил ее в ту же клетку, где сидела первая мангуста. И напрасно: они немедленно завизжали в два голоса, стараясь перекричать друг друга, и этот дуэт был примерно столь же приятен и успокоителен, как скрип ножа по тарелке, да еще усиленный в несколько тысяч раз.
Возвратясь в Бафут после моего первого дня охоты с Гончими, я получил послание от Фона: он приглашал меня к себе выпить и рассказать все новости об охоте. Я пообедал, переоделся и зашагал через просторный двор на маленькую виллу Фона. Он восседал на веранде, разглядывая на свет бутылку джина: много ли в ней еще осталось.







