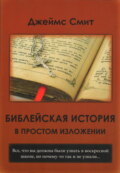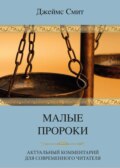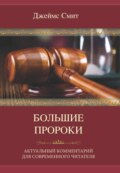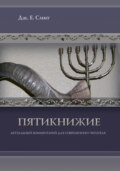Джеймс Е. Смит
Книги мудрости и Псалмы
Глава пятая
Второй цикл речей
Книга Иова 15–21
Пока друзьям так и не удалось заставить Иова признаться в чудовищных грехах, которые могли повлечь за собой такое наказание. Их богословские аргументы, основанные на атрибутах Бога, не произвели на патриарха особого впечатления. Иов с завидным упорством настаивает на своей невиновности. Он обвиняет своих друзей в лицемерии и пристрастности по отношению к Богу (13:4 и дал.). Видя это, они решают, что дополнительные доводы в этом направлении тоже окажутся бесплодными.
Если первый цикл речей был сосредоточен на Боге, то во втором основное внимание уделяется человеку, а в особенности, его испорченности. История и жизненный опыт достаточно много говорят о том, какова участь такого человека в Божьем промысле. Природа самого спора побуждает друзей перейти к более конкретным обвинениям. В то же самое время, Иов всё острее ощущает отчуждение по отношению к своим друзьям. Они относятся к его доводам в свою защиту так, будто он искусно пытается их запутать. Иов, наконец, преодолевает жалость к себе и находит силы ответить на аргументы, выдвинутые тремя его друзьями.
Вторая речь Елифаза
Книг Иова 15:1-35а
Как и до этого, первым берёт слово Елифаз. Он основывает свои рассуждения на последней речи Иова (гл. 12–14), и они задают тон всему второму кругу спора. Елифаз начинает с упрёков в сторону Иова (ст. 2-16), после чего излагает свои соображения о судьбе нечестивых (ст. 17–35).
Обличение Иова
Книга Иова 15:1-16
Обличая Иова, Елифаз обвиняет его то в самодовольном хвастовстве, то в непочтительности.
А. Нападки на позицию Иова (15:2–6)
В первую очередь Елифаз осуждает убеждённость Иова (12:3; 13:2) в том, что его мудрость превосходит мудрость его друзей. «Станет ли мудрый отвечать знанием пустым», лишь зря сотрясая воздух? По-настоящему разумному человеку не стоит «наполнять чрево своё ветром палящим», извергая при этом потоки яростных, но бесплодных слов. Выражение «ветер палящий» на Ближнем востоке относилось к чему-то жестокому в своём безразличии. Истинный мудрец никогда не станет «оправдываться словами бесполезными и речью, не имеющею никакой силы» (15:2–3).
С точки зрения Елифаза, Иов поступил хуже, чем если бы просто говорил громкие слова. Его слова – это слова нечестивца. Своим поведением и ходом мыслей он пытается поколебать саму основу благочестия и «страха» (перед Господом). Тирады Иова не оставляли места спокойным, глубоким и благоговейным размышлениям, которые обычно сопровождали беседу богословов. Таким образом может общаться только тот, в чьём сердце прочно обосновалось зло. Иов «избрал язык лукавых», а его уверения в своей невиновности и жалобы на Божью несправедливость – это просто коварный способ отвлечь их внимание от собственной порочности (15:4–5).
Сама манера речи Иова служит доказательством его вины, и никаких других доказательств не требуется. В своих рассуждениях о порочности Иова, Елифаз попадает в своего рода замкнутый круг. В стихе 5 он заявляет о том, что речь патриарха и его подход к спору порождены его виной, а в стихе 6 утверждает, что вина Иова доказывается его манерой общения. Оба стиха поддерживают точку зрения, изложенную в стихе 4, о том, что Иов пытается разрушить основы веры (15:6).
Б. Обличение притязаний Иова (15:7-11)
Елифаз возвращается к обличению притязаний Иова на обладание превосходящей мудростью. Он допрашивает патриарха, пытаясь выяснить, на каких основаниях Иов сделал такое заключение. Разве Иов был первым человеком, которого создал Бог? Вполне естественно, что такой человек был бы наделён исключительной мудростью, как и другими недосягаемыми качествами. Иов, однако, таким человеком не был. Может быть, Иов – это воплощение премудрости, бывшей прежде сотворения мира? (ср. Прит. 8:22 и дал.). Очевидно, что нет! Участвует ли Иов в обсуждении Божьих планов? Может быть, он член окружающего Бога небесного совета? (Иер. 23:22; Пс. 88:7; Ам. 3:7) Такому человеку без сомнения были бы открыты все Божьи тайны. Разумеется, Иов такого о себе заявить не может (15:7–8).
Здесь Елифаз оставляет свой едкий сарказм. Так на каком же конкретно основании Иов думает, что знает больше своих друзей? Ведь среди них даже есть тот, кто старше отца Иова! Вероятно, Елифаз в такой дипломатичной манере говорит о себе. Иов отвергает слова умудрённого сединой старца, хотя они содержат «утешения Божии», то есть слова утешения от самого Господа. По-видимому, Елифаз имеет ввиду, что в первой речи его вдохновлял сам Бог. О своих предыдущих словах он говорит как о мягких и утешительных. Так как может Иов с таким неуважением относиться к мудрости того, кто гораздо старше его самого? (15:9-11).
В. Обвинение Иова в дерзости (15:12–16)
Далее Елифаз обвиняет Иова в том, что он считает ожесточённым и непочтительным поведением по отношению к Богу. И снова для обоснования своей точки зрения обвинитель обращается к вопросам. Зачем Иов позволил возобладать порывам своего сердца? Под «сердцем» здесь подразумевается возбуждение и сильные эмоции. К чему Иов так гордо смотрит, блистая очами? Как он вообще осмеливается устремлять свой дух (т. е. гнев) на Бога? Как он вообще осмеливается произносить такие речи? Елифаза возмущает не содержание самих слов, а то, с каким чувством они произнесены (15:12–13).
Что такого есть в человеке, что может оправдать такую горячую защиту собственной невиновности? «Что такое человек, чтоб быть ему чистым?» У рождённого от женщины нет праведности. Бог не доверяет даже «своим святым» (т. е. ангелам). Сами небеса недостаточно чисты в Божьих глазах. И, если это так, то насколько же ниже положение человека перед Богом? Человек нечист и порочен, его влечёт ко злу, как жаждущего к воде (15:14–16).
Защита традиционного богословия
Книга Иова 15:17–35
Елифаз прекращает нападать на самого Иова и принимается за принципы, на которые тот ссылается в своих рассуждениях о Боге. Возможно, ободренный беспомощным состоянием Иова, феманитянин начинает говорить надменно.
А. Источник его богословия (15:17–19)
«Я расскажу тебе, что видел». Часть своей первой речи Елифаз тоже строил на откровении (ср. 4:12 и дал.). Не совсем ясно, относится ли используемый здесь глагол «видел» к пророческому видению, или же к простому наблюдению. В любом случае, выдвинутая Елифазом доктрина не отличается новизной. То, что он понял о Боге, полностью согласуется с богословской традицией мудрецов, принятой уже на протяжении многих поколений. И эта традиция никогда не была запятнана чужеродными философскими включениями. Отвергая это учение, Иов пренебрегает особо уважаемыми обычаями своего народа и поддерживает чужие воззрения (15:17–19).
Б. Суть его богословия (15:20–24)
В соответствии с вековой традицией, «нечестивый мучит себя во все дни свои». Число лет «притеснителя» назначается Богом, т. е. в надлежащее время такой человек покинет землю живых. Элифаз полагает, что с Иовом обращаются как с угнетателем, который вселяет страх в сердца других. Однако божественная справедливость заставляет таких угнетателей почувствовать приближение гибели. В конце концов, наступает день, когда процветание обрывается, и человека уничтожает «губитель» (15:20–21).
Нечестивый живёт в ожидании несчастий, которых он не в силах избежать. Он чувствует, как на него опускается меч Божьего воздаяния. Он предвидит время, когда станет голодным бродягой, скитающимся в поисках хлеба. На всех путях его сопровождает тень беды, готовая поглотить его в любой момент. «Нужда и теснота» вселяют в угнетателя страх. Они одолевают его как «царь, приготовившийся к битве», и поэтому неодолимый. Вот такие дурные предзнаменования довлеют над нечестивыми. Елифаз озвучивает то, что, по его мнению, происходит с самыми порочными из них. В то же время он утверждает, что даже нечестивые признают принцип, согласно которому их ждёт катастрофа (15:22–24).
В. Оправдание его богословия (15:25–28)
Почему же такие ужасные кары обрушиваются на угнетателя? Во-первых, потому что «он простирал против Бога руку свою», то есть сопротивлялся Ему. Он проявил высокомерие по отношению к Творцу. Подобно атакующему воину он ринулся на Бога с огромным щитом в руках. Если Иов обвиняет Бога в нападении на него, то Елифаз обвиняет Иова в нападении на Бога. Во-вторых, нечестивый угнетатель будет повержен в наказание за потворство своим желаниям. Лицо и бёдра его обложены жиром, а в Ветхом Завете тучный человек символизирует самолюбивую роскошь и духовную бесчувственность (15:25–27).
В-третьих, он умрёт, потому что «селится в городах разорённых». А разорённые города, как известно, прокляты Богом (ср. Нав. 6:26; 3 Цар. 16:34). Занимать опустошённое Богом означает проявлять крайнюю нечестивость (15:28).
Г. Гибель нечестивца (15:29–35)
Нечестивому не будет позволено сохранить своё богатство. Его посевы никогда не дадут обильного урожая. Он «не уйдёт от тьмы», от страшного бедствия, уготованного подобным людям. Его урожай «иссушит пламя», т. е. засуха. Божье дыхание сметёт как его самого, так и всё, чем он владеет (15:29–30).
Если человек доверяет пустой «суете», то в конечном итоге именно эта пустота его и ждёт. «Не в свой день он скончается», т. е. кончина его будет преждевременной. Его достаток исчезнет подобно тому, как виноградная лоза сбрасывает недозрелую ягоду или маслина стряхивает свой цвет (15:31–33).
Тут Елифаз оставляет образную речь, чтобы простым языком изложить окончательную судьбу безбожного человека: «Так опустеет дом нечестивого». Божье проклятие обратит его в ничто. «Огонь (т. е. суд) пожрёт шатры мздоимства» – жилища, построенные на несправедливости. Нечестивый «зачал зло и родил ложь (’aven)». Основная мысль здесь в том, что страдания и несчастья неизбежно следуют за злом и неправдой.
Второй ответ Иова Елифазу
Книга Иова 16:1–17:16
В первом цикле речей Иов жаловался на враждебность Бога по отношению к нему. Но его обращение к Создателю осталось без ответа. Бог покинул его. Во втором цикле речей новое осознание всей тяжестью обрушивается на разум Иова. Люди отвернулись от него точно так же, как это сделал Бог. Иов буквально жаждет человеческого сочувствия. Тем не менее, он не допускает компромисса со своей убежденностью в том, что он не виновен ни в чём, что могло бы повлечь такое суровое наказание. В своём ответе Елифазу Иов (1) выражает гнев и раздражение по отношению к своим друзьям; (2) описывает всю горечь своей отверженности; (3) просит у Бога оправдания, пусть даже после смерти; и (4) выражает смирение перед лицом смерти.
А. Непрекращающееся разочарование (16:1–5)
Иов начинает ответ Элифазу со слов о своей усталости от однообразных речей троих друзей. Все трое – «жалкие утешители» (букв. проблемные утешители). Их «утешение» основано лишь на ложном допущении, что он повинен в каком-то непризнанном грехе. Предлагаемое ими решение состоит в призыве к покаянию. Подобные слова «утешения» лишь ещё больше запутывают и увеличивают меру его страданий (16:1–2).
Елифаз уподобил его знание ветру (ср. 15:2). И Иов задаёт риторический вопрос: «Будет ли конец ветренным словам?» Патриарх не испугался направленных против него пустых разглагольствований. Но он не может сдержаться и спрашивает, что же побудило друзей продолжать отвечать ему. Почему они не дают спору просто сойти на нет?
Иов уверяет своих друзей, что, если бы он поменялся с ними местами, он мог бы говорить те же самые слова, что и они. Он мог бы «ополчаться» на них словами в такой же формальной и бездушной манере. Он бы тоже мог кивать на них своею головой, удивляясь тому, что такие благочестивые люди переживают такие тяжёлые времена. Но на самом деле, если бы они вдруг поменялись местами, он бы гораздо больше преуспел в утешении, так как в отличие от них, его слова были способны укреплять людей (ср. 4:4). Мысль Иова состоит в том, что, оказавшись на их месте, он не поступил бы со своими друзьями, как они поступили с ним.
Б. Его нынешние страдания (16:6-17)
В этот момент Иов, похоже, ясно осознаёт своё отчуждение как от людей, так и от Бога.
1. Отчуждение от людей (16:7-11). Говорит Иов или сдерживается, его состояние не меняется. Бог возложил на него ещё одно бремя. Термин «ныне» говорит о том, что Иов, наконец, осознал нечто новое. Он обвиняет Бога в том, что Он разрушил всю его семью, по-видимому, имея ввиду и друзей. Враждебность Бога настроила друзей Иова против него. Все, от кого Иов мог бы ожидать поддержки и утешения, стали его врагами. Он чувствует себя совершенно одиноким в этом мире. Иов целиком и полностью во власти Бога, и для окружающих его страдания видятся неопровержимым доказательством его вины. Его собственное тело как будто восстало против него, и теперь в лицо свидетельствует ему о его грехе (16:7–8).
Враждебность Бога к нему Иов изображает как яростного хищника с горящими глазами и острыми зубами. И, поскольку Яхве так жестоко с ним обошёлся, его друзья тоже решили, что могут беспрепятственно набрасываться на него, кусая со всех сторон как стая диких собак. Чувствуя свою безнаказанность, они с руганью бьют его по щекам. Видя его бедственное положение, они сговариваются против него. В этом надломленном состоянии Бог бросает его «в руки нечестивым». Здесь Иов говорит не о своих друзьях, а о толпе, описываемой в главе 30 (16:9-11).
2. Жестокость Бога (16:12–14). Теперь Иов рисует ещё более наглядную картину враждебности Бога. Во-первых, Бог, как непобедимый борец, взял его за шею и избил его. И это случилось тогда, когда Иов чувствовал себя в полной безопасности. При этом он не испытывал никаких дурных предчувствий, как ранее предположил Елифаз (ср. 15:20 и дал.). Во-вторых, Бог поставил его целью для Себя. Стрелы вонзаются в него одна за одной, как будто рассекая его внутренности и проливая на землю желчь. В-третьих, Иов сравнивает себя с крепостью, стены которой проломили вражеские воины.
3. Результат враждебного отношения (16:15–17). Далее Иов описывает результат этого разрушительного нападения на него. Во-первых, он сшил себе вретище в знак скорби, сделав его своим постоянным облачением. Во-вторых, Иов говорит, что он «в прах положил голову» (букв. «рог»), что свидетельствует об унижении, в отличие от «вознесения рога» (1 Цар. 2:1). В-третьих, лицо Иова побагровело от плача, а на веки легла тень смерти1. И всё же Иов не может выявить ни одного проступка в своей жизни, заслуживающего таких страданий. Он не запятнал себя «хищением», а его молитвы, как и вся его духовная жизнь, по-прежнему чисты. Таким образом, Иов отвергает все намёки Елифаза на обратное (ср. 15:4, 34).
В. Его первая просьба к Богу (16:18–17:2)
Мысль о том, что он страдает несправедливо, заставляет Иова здесь, как и в других местах повествования, потерять самообладание. Кажется, что он оставил все надежды на благополучный исход. Теперь он ожидает оправдания лишь в будущей жизни.
Божья разрушительная враждебность, несомненно, приведёт к смерти Иова, хотя он и не совершил ничего, достойного такого воздаяния. Поэтому он призывает землю не покрывать его невинной крови. Пусть его кровь даже после смерти остаётся на поверхности и безустанно взывает к небесам о справедливости (ср. Быт. 4:10). «Кровь» здесь выступает образом жестокой и незаслуженной смерти (16:18).
В этот момент сквозь мрак пробивается свет веры Иова. Он убеждён, что даже сейчас у него есть свидетель и заступник на небесах. В еврейском суде свидетель или заступник давал показания от имени человека, следя, чтобы восторжествовало правосудие. «Свидетель» – это не просто тот, кто знает о невиновности Иова, а тот, кто будет публично свидетельствовать об этом на суде (16:19).
Кто же станет этим свидетелем? Точно не его друзья! Может быть, Иов видит своим свидетелем самого Бога? Не похоже, потому что только что он описывал Бога, как своего врага. Контекст подразумевает, что Иов имеет ввиду кого-то ещё. Он уверен, что на небесах у него есть поручитель, который заступится за него и будет ходатайствовать о нём перед Богом2.
Друзья же Иова, по сути, лишь насмехаются над ним. Глупо было бы ждать от них какого-либо сочувствия. Поэтому «к Богу слезит» око Иова, то есть он в слезах обращается непосредственно к Нему. Он жаждет, чтобы его небесный свидетель умолял Бога от его имени, точно так же, как человек делает это для своего ближнего. Иов так нуждается в заступнике, потому что годы его подходят к концу. Он сойдёт в Шеол и никогда уже не вернётся, чтобы предстать перед судом для самооправдания (16:20–22).
Первое обращение завершается дальнейшим описанием тяжёлого положения Иова. Его дыхание ослабло, дни угасают, а земля готова принять его [букв. «гробы предо мною»]. Друзья же продолжают издеваться, отнимая даже иллюзорные надежды на восстановление. Сквозь пелену слёз он видит лишь насмешки и «споры их» (букв. мятежность). Все эти обвинения явили на свет их бунтарский настрой как по отношению к самому Иову, так и к Богу. Иов с недоверием взирает на их безрассудство.
Г. Его вторая просьба к Богу (17:3–9)
Иов приступает к Богу с новой просьбой. Он просит Бога дать ему обещание, что когда-то в будущем Он признает невиновность Иова. Иными словами, он просит Бога быть не только его судьёй, но и защитником. Необходимость такой просьбы обусловлена тем, что больше нет никого, кто бы мог встать на его защиту. Иов буквально спрашивает: «Иначе кто поручится за меня?» Поручительство было практикой утверждения договора или сделки (17:3).
Довод Иова в том, что если Бог не заступится за него, то никто не заступится. Сердца троих его друзей, как и сердца остальных людей, закрыты от разумения. Они не способны непредвзято судить о деле Иова. Поэтому Бог не даст «восторжествовать им», допустив ожидаемый ими исход. На самом деле, друзья внушают Иову такое отвращение, что он обвиняет их в том, что они восстали против него с целью захвата части его имущества. Такой подлый замысел навлечёт проклятие слепоты на их детей (17:4–5).
И снова Иов начинает мрачное исследование своего состояния. Для людей окрестных племён Иов стал посмешищем. Его страдания и вытекающая из них нечестивость стали для них притчей во языцех. С ним обращаются как с теми, на кого принято в презрении плевать. Взгляд его помутился от горя, а тело стало подобным тени (17:6–7).
Такие страдания, причинённые благочестивому человеку, потрясают праведников. Такое извращение справедливости в управлении миром вызывает нравственное негодование против процветания нечестивых. И всё же Иов уверен, что праведные люди не собьются с правильного пути из-за этических ошибок, которые Бог может допустить в Своем мире. Они всё равно должны жить праведной жизнью. По сути, это должно лишь укреплять их приверженность духовной чистоте. И хотя Иов говорит от имени всех честных людей, он выражает свои собственные намерения. Этот стих – краткий, но яркий проблеск света во мраке нынешнего состояния Иова (17:8–9).
Д. Его покорность смерти (17:10–16)
Иов завершает свой ответ Елифазу, отвергая ложные надежды, которые его друзья на него возлагали. Он призывает их возобновить попытки решить его проблему. Однако, Иов не сомневается, что и новые попытки точно так же окажутся безуспешными. В глазах Иова они будут такими же лишёнными мудрости, как и прежде (17:10).
Друзья надеются на то, что светлый день восстановления воссияет во тьме бедствий Иова (ср. 11:17). Патриарх, однако, остаётся реалистом. С его точки зрения, его дни на земле сочтены, и его жизни со всеми её заветными целями настаёт конец. Ему не будет позволено прожить жизнь достаточно долгую для того, чтобы исполнить все чаяния своего сердца (17:11–12).
Иов ожидает только Шеола, а в Шеоле нет никакого света! Он настолько близок к смерти, что называет «гроб» (т. е. могилу) своим отцом, а червей, готовых пожрать его тело, матерью и сестрой. Он как будто дитя могилы! Если у него и осталась какая-то надежда, она без сомнения сойдёт в Шеол вместе с ним (17:11–16).
Вторая речь Вилдада
Книга Иова 18:1-21
Кое-что из последней речи Иова задело Вилдада Савхеянина. Он возмущён тем, как Иов говорит о его друзьях, и его обижает то, в какой манере и как именно Иов отзывается о Боге. Основная тема этого дискурса – уничтожение нечестивых. Елифаз предположил, что источником наказания грешника в основном выступает его собственная совесть. Вилдад, однако, утверждает, что наказание грешников – это часть установленного миропорядка и нравственного инстинкта человечества.
А. Негодование Вилдада (18:1–4)
Речь Вилдада начинается с того же нетерпеливого удивления («Когда же?»), которое звучало и в предыдущий раз (ср. 8:2). В своих прежних речах Иов «устанавливал ловушки», то есть охотился за словами для своих ложных аргументов. Он полагает, что замечания Иова – это лишь неразумные разговоры. Иов обвинил своих друзей в отсутствии у них разумения (ср. 17:4). Но мудрости недостаёт не у них, а у самого Иова. Если они надеются на какой-то прогресс в обсуждении, то Иову нужно согласиться с некоторыми основополагающими принципами. Отвечая Иову, Вилдад использует местоимение «вы», по-видимому, из-за того, что патриарх отождествляет себя со всеми страдающими праведниками (ср. 17:6 и дал.), которые подвергаются гонениям со стороны нечестивцев (18:1–2).
Вилдад возмущён намёками на то, что он и его друзья – глупые животные. Но, что хуже всего, Иов относится к ним, как к «униженным» (букв. нечистым) животным (ср. 17:4, 9-10). И уж тем более нельзя сравнивать Бога со зверем (ср. 16:9), который рвёт и мечет. Именно Иов – это тот, кто разрывает свою душу на части в своём самодовольном гневе. Ради него земля не опустеет, а скала не сдвинется со своего места. Идея состоит в том, что Бог не станет переворачивать с ног на голову сложные нравственные законы, лежащие в основе вселенной. Бог не станет, утверждает Вилдад, извращать закон, который говорит о нечестивости тех, кто страдает (18:3–4).
Б. Принцип воздаяния (18:5-11)
Остаток своей речи Вилдад посвящает своей основной теме – гибели нечестивых. Как и в первой речи, Вилдад использует красочные образы и пословицы для аргументации своей позиции. Вилдад излагает моральный принцип, согласно которому «свет у беззаконного потухнет». Свет в его шатре померк, в очаге больше нет согревающего огня, а дом навсегда покинут (18:5–6).
Вилдад использует ещё один образ, чтобы выразить ту же мысль. Шаги могущества (т. е. благосостояния) нечестивого сокращаются, и он начинает спотыкаться. И, наконец, «низложит его собственный замысел его», то есть нечестивые пути его в конечном итоге приведут к катастрофе (18:7).
Крах нечестивого неизбежен. Нравственный закон мира таков, что куда бы ни пошёл нечестивый, он всегда попадёт в сеть, силки или петлю. В конце концов он осознает ужас своего положения. «Со всех сторон будут страшить его ужасы». Он будет бросаться туда и сюда, но ужас будет идти за ним по пятам (18:8-11).
В. Конец нечестивого (18:12–21)
Последние дни нечестивца – это то, что дальше описывает Вилдад. Во-первых, силы оставят нечестивого из-за недоедания. Во-вторых, его тело окажется во власти ужасающей болезни, которая метафорически названа здесь «первенцем смерти», то есть самым сильным порождением смерти. Иными словами, эта болезнь смертельна. В-третьих, надежда нечестивого будет изгнана из «шатра» (т. е. жилища) его, что «низведёт его к царю ужасов», т. е. к смерти (18:12–14).
Далее Вилдад говорит об истреблении имени и рода нечестивого человека. Во-первых, он представляет две картины того, что ждёт имущество грешника. Всё, чем он владеет, будет либо отдано в руки других, либо уничтожено дождём серы. Во-вторых, «увянут ветви» грешника, что символизирует прекращение его рода. Семья грешника погибнет вместе с ним. В-третьих, сама память о нечестивом исчезнет с земли (18:15–17).
Вилдад завершает выступление описанием ужаса, который люди будут испытывать по поводу судьбы грешника. Будучи изгнанным из света жизни во тьму смерти, грешник не оставит после себя никакого потомства. И на протяжении многих поколений люди продолжат ужасаться судьбе этого грешника. Вилдад будто подписывает написанную им картину судьбы нечестивого таким словами: «Таковы жилища беззаконного, и таково место того, кто не знает Бога» (18:18–21).