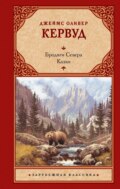Джеймс Оливер Кервуд
Тяжелые годы
– Я понимаю… теперь я вижу, как это было глупо с моей стороны смеяться там, в замке, – сказал Анри Бюлэн. – Но, право, Тонтэр так заразительно хохотал… Мне и в голову не приходило, что мальчик может принять это близко к сердцу.
– Дети во многих отношениях похожи на женщин, – заметила Катерина. – И те и другие глубже переживают обиды, чем это доступно пониманию мужчины:
– Я сейчас же пойду к Джимсу и скажу ему, что очень жалею о случившемся, – сказал ее муж.
– Нет, ты ни в коем случае не должен этого делать, – возразила Катерина;
– Но если я неправильно поступил…
– Ты все же на этот раз ничего не будешь предпринимать, – прервала его жена.
Анри Бюлэн умолк и ждал дальнейших объяснений. Через минуту Катерина продолжала:
– Видишь ли, Анри, я знаю, что Тонтэр на редкость хороший и благородный человек, что он совершенно одинок, что на сердце у него смертельная тоска, хотя он и любит беззаветно Антуанетту. Ни один человек в мире не мог бы любить такую женщину, как его жена, несмотря на все ее великосветские замашки и «голубую» кровь! Тонтэр до ужаса одинок, и я попрошу его почаще приходить к нам и брать Туанетту с собой.
– И ты думаешь, что он примет твое приглашение? – живо спросил Анри.
– Я уверена в этом, – ответила его жена.
Теперь она думала только о Джимсе, а потому была рада, что не сказала мужу того, что было у нее на кончике языка: об открытии, сделанном на мельнице Тонтэра.
– Да, он придет, – повторила она, – и, если я попрошу его, он приведет с собой Туанетту.
Анри радостно рассмеялся.
– Вот уж кого я люблю, так это Тонтэра! – воскликнул он.
– Да, Тонтэр – человек, которого нельзя не любить, – согласилась с ним Катерина.
– Но послушай, Катерина, – сказал Анри, перекидывая тяжелый мешок с одного плеча на другое, – как же насчет Туанетты, если мадам Тонтэр скажет «нет»?
– И все же Тонтэр возьмет ее с собой, – ответила Катерина. – То есть в том случае, разумеется, если я скажу ему, что мне очень хотелось бы этого, – добавила она, лукаво усмехнувшись.
– Ну еще бы! – уверенно воскликнул Анри Бюлэн. – Конечно он возьмет ее с собой, если ты вот так посмотришь на него. Но если он это сделает и мадам Тонтэр будет протестовать, и все же он осмелится это повторить…
– Тогда она, возможно, будет сопровождать его, – сказала Катерина. – Может случиться, что мадам Тонтэр меня еще больше полюбит после этого!
Она умолкла и прикоснулась рукой к рукаву мужа, так как они вышли на открытое пространство, миновав каштановую рощу, и неподалеку от себя увидели Джимса и Потеху, стоявших над убитой птицей.
Горячая волна гордости и радости заполнила сердце Джимса, когда он увидел приближающихся отца и мать. Потеха, точно ощетинившееся сказочное чудовище, радостно помахивала огрызком своего хвоста. Глаза мальчика загорелись огнем, когда он увидел, что мать с глубоким интересом смотрит на его добычу, а отец, сбросив на землю мешок, с нескрываемым изумлением изучает великолепную птицу и стрелу, пронзившую ее насквозь.
Катерина исподтишка наблюдала за мальчиком, между тем как оба дорогих ей существа, побуждаемые охотничьими инстинктами, устремили все свое внимание на убитого индюка. Глаза мадам Бюлэн сияли, и когда Анри, насытившись видом птицы, поднял глаза на жену, он, по-видимому, прочел ее мысли, так как ласково положил руку на плечо Джимса.
«Как похож этот мальчик на свою мать, – невольно подумал он. – Разница лишь в его серых глазах и светлых волосах, которые он не иначе как унаследовал от ее никудышного братца, Эпсибы Адамса, этого вечного бродяги, неукротимого вояки и на редкость славного парня!» Анри Бюлэн был вдвойне счастлив сейчас, видя, с какой гордостью его жена смотрит на их сына. Не будучи в состоянии сдержать восторга, она принялся восхвалять подвиг мальчика.
– Какой меткий выстрел! – воскликнул он, низко наклонясь, чтобы лучше разглядеть и птицу и стрелу. – Прямо насквозь, от крыла до крыла, точно пулей! И до самой бородки вошла в птицу! Вот уж никогда не поверил бы, что у тебя, мальчонок, хватит сил так натянуть тетиву! И ты говоришь, что выпустил стрелу вон оттуда? Право, не верится даже! Такая меткость впору была бы вождю Трубке, Белым Глазам или Большой Кошке, а не такому мальчику.
Так назывались индейцы племени конавага, друзья Бюлэна, обучившие Джимса стрельбе из лука, и не кто иной, как сам вождь Трубка, изготовил для него лук из отборного, прекрасно высушенного ясеня.
Семья Бюлэн снова пустилась в путь, а солнце опускалось все ниже и ниже, и все гуще и длиннее становились тени среди деревьев. Благодаря приближению сумерек и люди и собака подвигались вперед столь бесшумно, что ни один не слышал шагов другого. Это объяснялось инстинктом, приобретенным вследствие долгого пребывания в глуши и безлюдье. Прошло с полчаса, и вдали снова засияло небо, рдевшее на западе, а потом показались луга с разбросанными на них липами, каштанами и орешником. Наконец, достигнув обширного луга, откуда открывался вид на илистый скат, спускавшийся в запретную долину, на которую смотрели Бюлэны, отдыхая на Беличьей скале, путники издали завидели свой дом.
Он был расположен в маленьком углублении, казавшемся миниатюрой большой долины, и представлял собой хижину, сложенную из обтесанных бревен. При этом бревна не были стоймя укреплены в земле (так строились часто дома в те времена, причем такое сооружение предпочтительно возводилось вокруг огромного пня, игравшего, таким образом, роль стола), а были положены друг на дружку. Хижина была низенькая, но производила впечатление веселого домика, с большим количеством окон, чем позволил бы себе прорезать, живя в такой глуши, более осторожный человек. В одном конце домика находился огромный очаг, сложенный из глины и камней. Тут царил уют и комфорт, так как Анри Бюлэн создал самое лучшее, на что только он был способен.
После мужа и сына Катерина ничего так не любила, как свой дом.
Из его окон, абсолютно ничем не защищенных от врагов, открывался великолепный вид на восток и запад, на север и юг. Домик со всех сторон утопал в цветах (за которыми ухаживала сама Катерина), не перестававших цвести вплоть до первых заморозков. Также к самому дому прилегал огород, сад из ягодных кустов и птичники, построенные из каштанового дерева. Случись чужестранцу попасть сюда, он не поверил бы, что этот домик расположен на окраине дикой глуши.
Почти к самому огороду и саду Катерины подходили возделанные Анри Бюлэном поля, в общей сложности десять акров земли. Пахота кончалась у липовой рощи, из которой Анри за предыдущий месяц извлек свой годовой запас сиропа в пятьдесят фунтов и в четыре раза больше липового сахара[2].
Вот эти драгоценные владения, которые Катерина не променяла бы на все богатства мадам Тонтэр, путники завидели, едва они стали спускаться с зеленого ската маленькой возвышенности.
Но вдруг покой, окутавший дом, поля и луга, был нарушен пронзительным криком, от которого кровь застыла в жилах у людей. Казалось, от этого крика замерли все другие звуки в воздухе, испуганно метнулись в сторону, и даже флегматичный бык, остановившийся у хлева, вздрогнул от испуга. Одновременно с криком показалась человеческая фигура, вынырнувшая из зеленеющих ягодных кустов Катерины.
Одним движением плеча Анри сбросил мешок с плеча на землю, между тем как Джимс, находившийся впереди, быстро вскинул длинное ружье, а Потеха застыла точно вкопанная и зловеще зарычала. Таинственная фигура двинулась вверх навстречу путникам, а Джимс посмотрел на кремень своего ружья и стоял, держа палец на курке, готовый спустить его в мгновение ока. Но в это время Катерина, остановившаяся позади мужа и сына, вдруг ахнула от изумления, издала легкий крик и с распростертыми объятиями кинулась навстречу приближавшемуся незнакомцу.
– Это Эпсиба! – услышали Анри и Джимс. – Ведь это Эпсиба!
Едва эти слова вылетели из ее уст, Джимс положил ружье на землю и бросился следом за матерью. Но как ни спешил он, ему все же не удалось обогнать Катерину Бюлэн, которая радостно кинулась в объятия брата. Анри Бюлэн спешил в том же направлении, что и жена, и сын, позабыв от изумления про мешок с мукой и захватив лишь огромного индюка. Когда он приблизился к Эпсибе Адамсу, последний, не выпуская из объятий сестру, успел одной рукой приподнять Джимса до плеча, а потом, улучив минуту, протянул зятю руку, заскорузлую, как старый дуб, защищавший домик от лучей полуденного солнца.
И если когда-либо существовал человек, во всех отношениях напрашивавшийся на сравнение с дубом, то это был именно Эпсиба Адамс, занимавшийся обменом товаров с индейцами. Было в нем что-то такое, что заставляло невольно перевести взгляд на Потеху, – столь много общего было в их сложении. В то же время это было веселое существо, знакомство с которым и друг и враг должны были почитать за честь.
Эпсиба был на целую голову ниже Анри Бюлэна, да и не так худощав. У него были широкие плечи, кряжистое туловище, круглое, как яблоко, лицо, и почти такое же румяное, с многочисленными следами ран, доставшихся в боях. А добродушные глаза блеском своим говорили о том, что превратности судьбы не только не испортили их, но, наоборот, еще придали им больше живости. На нем не было головного убора, и макушка, голая, как яйцо, блестела точно белое блюдце, а по бокам в изобилии росли рыжеватые волосы, завивавшиеся кверху, так что, в общем, при наличии некоторого количества воображения, не трудно было принять этого человека за бритого отшельника, выдержавшего отчаянную схватку с сатаной!
Когда улеглось возбуждение, вызванное появлением дорогого гостя, Катерина отошла на шаг от своего брата-бродяги и любящим взором стала изучать его.
– Эпсиба, я так рада тебя видеть, что прямо задыхаюсь от счастья. Все-таки я должна заметить, что ты не сдержал данного мне обещания и не перестал драться. Одно ухо у тебя точно отжевано, нос съехал чуточку набок, а под глазом у тебя какая-то странная отметина, которой не было два года тому назад.
Обветренное лицо Эпсибы расплылось в широкую улыбку.
– Вот уж не могу сказать того же про твой носик, Катерина, – начал он, – так как он становится красивее с каждым днем. Но случись ему прийти в слишком тесное соприкосновение с огромным кулаком, как это выпало на мою долю во время маленькой стычки с одним голландцем в Олбани, от твоего носа осталось бы лишь одно воспоминание. Так что уж тут говорить о каком-то пустяковом изгибе! Что же касается моего уха, то чего еще можно ждать от француза (за исключением, конечно, твоего добронравного муженька!), когда ему представляется случай пустить в дело зубы, вместо того чтобы пользоваться руками, которыми природа наградила его! Что до отметины под глазом, то ее оставил нож индейца, который сам себя ввел в заблуждение, решив, будто я его надул, чему, разумеется, не следует верить. Неужели, неужели это все? Ты так плохо помнишь «инвентарь» моей внешности?
– Я бы сказала еще, что плешь стала чуть больше, Эпсиба. И, кроме того, она такая ровная и круглая, что остается только удивляться!
– А это сделал по моей просьбе индеец племени сенеков, за что я дал ему топорик. Надоела мне моя плешь, которая была до того неровная, точно на голове у меня растопили свечку! А теперь она круглая, и мне так больше нравится.
– Я заметила также, что у тебя одного зуба не стало, когда ты вот сейчас смеялся.
– А это вторая порция, доставшаяся мне все в том же Олбани! Боже ты мой, надо бы тебе видеть, какие они драчуны, эти голландцы!
– Что же касается твоей одежды, – сказала Катерина, доходя, наконец, до самого главного пункта, занимавшего ее, – то у тебя такой вид, точно медведь поиграл с тобой.
Скажи мне правду, Эпсиба: что-нибудь случилось с тобой… здесь поблизости?
– Сущие пустяки, сестричка, право. В нескольких милях отсюда я наткнулся на кучку французиков, заявивших, что тут-то, мол, не Новая Англия, и возымевших желание заставить меня повернуть. Но это, повторяю, пустяки, сущий вздор. Ей-ей, мне немного стыдно становится за тебя, Катерина. Ты совершенно упустила из виду самое важное.
– Что же именно?
– Мой живот! – ответил Эпсиба, положив обе руки на свое весьма внушительное брюшко. – Мой живот совершенно сморщился, как ты и сама можешь видеть. Мой желудок до того ввалился, что стал давить на позвоночник! Он ссохся и сократился до размеров женского желудка! Он стал меньше, тоньше, уже, слабее от недостатка пищи. И если мне не дадут покушать в самом непродолжительном времени…
Он не успел закончить, так как Катерина снова обвила его шею руками и прижала его голову к своей груди.
– Славный старый Эп! – воскликнула она. – Голодный! Вечно голодный и таким останется до гробовой доски. Мы скоро сядем ужинать, – как только мне удастся развести огонь в очаге. О, как я счастлива, что ты вернулся!
– И я тоже, – сказал Анри Бюлэн, которому удалось, наконец, вставить слово.
Джимс, не произнеся ни звука, тянул за руку своего бродягу дядюшку, казавшегося ему величайшим героем в мире, и, в конце концов, он увлек его с собой, чтобы вместе с ним идти назад за ружьем.
Когда они удалились, тень тревоги мелькнула на сиявшем до того лице Катерины.
– Ты бы хорошенько присматривал за Джимсом до поры до времени, Анри, – сказала она. – Ты ведь знаешь, Эпсиба исключительно неблагоразумный и беспечный человек. Он весь полон глупых проделок, которые по душе мальчикам и которых я боюсь из-за Джимса.
Но Анри Бюлэн только ухмыльнулся в ответ на слова жены, так как, по его мнению, надо считать себя счастливым, имея возможность кой-чему научиться от Эпсибы Адамса.
Внезапно Катерина заметила, что из огромной трубы, сложенной из камней, вьется к небу струйка дыма.
– Не иначе как Эпсиба уже развел огонь в очаге, – сказала она.
И когда Бюлэны вошли через двухстворчатую дверь кухни, они, к великому удовольствию своему, увидели, что в очаге пылают две большие колоды, а под ними багрово рдеет груда липовых угольев. Анри потратил целый месяц на постройку очага, лучше которого не найти было ни в одной сеньории вдоль реки Ришелье.
Эпсиба не только успел развести огонь. С огромного крюка, вделанного в толстую дубовую перекладину футах в семи над огнем, свисал огромный олений окорок, с которого, шипя, стекал жир. Стоило лишь чуть дернуть крепкий пеньковый канат, чтобы жаркое само начало поворачиваться в течение минуты-двух, благодаря чему оно ровно подрумянивалось со всех сторон.
Руководимая чувством хозяйки, Катерина не преминула слегка дернуть канат, прежде чем сняла с себя накидку и капор и наспех поправила волосы перед зеркалом, висевшим на стене. А потом она посмотрела на стол, накрытый руками Эпсибы, и слезы затуманили ей глаза. Анри прекрасно знал, как учащенно бьется ее сердце, когда он взял обе ее руки в свои. Два года прошло с тех пор, как она в последний раз видела брата, единственного близкого ей по крови человека на всем белом свете. Каждый раз, когда Эпсиба являлся в дом сестры, он давал торжественное обещание, клялся, что теперь-то он навсегда останется с ними.
Но в один прекрасный день или в темную ночь он исчезал со всеми своими пожитками, и никто больше не видел его и не слышал о нем в течение продолжительного времени. Проходило месяцев шесть, год, а то и больше, как в данном случае, например, раньше, чем он снова появлялся… и снова давал клятву остаться навсегда. Через несколько дней он исчезал, как и раньше.
Каждый раз, однако, он приносил на своих плечах огромный тюк, точно искупительную жертву; дележка содержимого этого тюка была для Джимса одним из величайших событий в его жизни, а отчасти также и для Катерины. Но сейчас, когда Джимс шагал рядом со своим героем, ему даже не приходила в голову мысль об этом тюке. Он был счастлив одним сознанием, что этот человек находится возле него, и, взяв с него клятву, свято хранить секрет, он, не медля ни минуты, рассказал ему про ненавистного соперника.
Эпсиба Адамс обратил внимание на то, как судорожно сжимали пальцы Джимса его руку во время этого повествования, от него не укрылась дрожь в голосе мальчика. Усевшись на мешок с мукой, все еще остававшийся на земле, он путем осторожных расспросов выведал у племянника все то, что тот хотел, было скрыть от него. Когда вторично прозвучал рог Анри Бюлэна, призывавший всех к трапезе, оба поднялись на ноги. Эпсиба взвалил на плечи мешок, и его круглое румяное лицо походило на ласково ухмыляющуюся, полную обещаний луну.
– Дело не в росте, когда речь идет о честном бое, Джимс, – сказал он таким тоном, точно передавал секрет. – Если не считать этого голландца из Олбани, никогда еще не случалось, чтобы я получил трепку от противника. Как ты и сам видишь, я не очень большого роста, но всегда отдавал предпочтение стычкам с крупными противниками, так как они более медлительны, больнее шлепаются и в большинстве случаев на них много сала. Этот самый Поль Таш, про которого ты рассказываешь, твоей подметки не стоит, я убежден в этом. Тебе никакого труда не стоило бы разделать его под орех, а когда он запросил бы пардону, дать ему пару тумаков напоследок, чтобы подольше не забывал урока! Вот и все, о чем тебе следует помнить, и больше ничего. Раз навсегда прими решение расплатиться с ним за обиду и берись за дело, как только представится случай.
Катерина вышла из хижины навстречу заговорщикам, и умница Эпсиба ограничился лишь тем, что лукаво подмигнул мальчику.
Появление Эпсибы было великим событием, и Катерина зажгла все светильники, какие только у нее были, да еще дюжину свечей вдобавок, так что с наступлением темной, беззвездной ночи домик на краю неизведанной долины превратился в очаг яркого света и уюта. Ни сильные порывы ветра, от которых дрожали окна, ни оглушительные раскаты грома, ни бешеный ливень, внезапно низвергнувшийся с небес и барабанивший теперь по крыше, крытой корой каштановых деревьев, – ничто не могло нарушить радостного настроения, царившего в маленькой хижине.
Жаркое было разрезано, к нему прибавились всевозможные овощи, а к концу был подан наскоро изготовленный искусными руками Катерины пудинг с подливкой из липового сиропа. Таким образом, прошел целый час, пока Эпсиба Адамс встал, наконец, со скамьи и достал свой тюк из-под лестницы, которая вела на чердак, служивший ночлегом Джимсу.
И Джимс прекрасно знал, что это является сигналом к тому, чтобы стол был очищен от посуды и крошек. Пока его отец закуривал свою длинную голландскую трубку, Эпсиба Адамс с деланной неловкостью уже возился с тесемками, стягивающими концы его тюка.
Когда же, благодаря Катерине и Джимсу, стол оказывался убранным, Эпсиба в таких случаях запускал руку в бездонную ширь тюка и начинал словами, которые он употреблял из года в год:
– Всего лишь несколько безделушек для мальчика, кой-какие тряпки Катерине и сущий пустяк для тебя, Анри. Все это за гроши приобретено в городе Олбани у одного голландца, обладающего двумя величайшими кулаками, какие мне приходилось когда-либо видеть. Вот тут немного кружев, случайно купленных по пяти шиллингов за ярд, и кому бы еще они могли понадобиться…
И с этими словами он подвинул пакет Катерине, издавшей радостный возглас изумления. Но не успела она еще хорошенько ознакомиться с содержимым пакета, как Эпсиба уже вытащил откуда-то юбку из красного шелка, при виде которой Катерина вскочила на ноги и вся застыла от восхищения. Она еще не пришла в себя, как за первыми вещами последовали белый капор, черный капор, три нижних юбки всяких цветов и из различных материалов, кружевные сорочки, два корсета, несколько платков, шалей и так далее. Катерина даже глаза закрыла, точно боясь, что все это лишь галлюцинация.
– Боже мой! – сказала она. – Неужели это все для меня?
– Разумеется, нет! – сухо ответил Эпсиба. – Один из корсетов для Джимса, а вот эта нижняя юбка для Анри, чтобы у него было чем пощеголять в воскресенье в церкви!
Джимс стоял тем временем и, не сводя глаз с дяди, ждал и ждал, чувствуя, что сердце больно сжимается от напряженного ожидания. Но уже таков был заведенный порядок у Эпсибы Адамса. Сперва Катерина, потом Джимс и, наконец, Анри Бюлэн. Однако на этот раз порядок оказался несколько видоизмененным, так как Эпсиба достал из недр своей сокровищницы довольно увесистый пакет и протянул его зятю.
– Три лучшие в мире трубки! – заявил он. – Лучших я в жизни не видывал. Одна голландская, другая английская, третья изготовлена в Америке. А к трубкам пять фунтов лучшего виргинского табаку. Потом тут же пара башмаков, шляпа и кафтан, в котором ты можешь щеголять на любом балу! Ну, что вы скажете на это?
Он сделал шаг в сторону, точно в тюке уже ничего больше не оставалось, и Джимсу казалось, что целая вечность прошла до того момента, пока дядя Эпсиба не вернулся к своему стулу с нарочитой медлительностью.
Никому из присутствующих в эту ночь в домике не могло, конечно, прийти в голову, что мысль, совершенно неожиданно задуманная Эпсибой, должна была сыграть огромную роль в жизни мальчика. Ловким движением руки Эпсиба Адамс вытащил из опустевшего мешка небольшой пакетик, предназначавшийся первоначально для Катерины, и принялся развязывать его, держа следующую речь:
– Джимс, если память мне не изменят, то ты родился в один из самых холодных дней, в январе месяце, и, следовательно, тебе исполнилось сегодня вечером ровно двенадцать лет и четыре месяца. Иными словами, если правильны мои расчеты, ты через три года и восемь месяцев уже будешь считаться взрослым человеком.
Закончив это вступление, Эпсиба последним движением руки развернул пакет, и Катерина увидела кусок красного бархата, подобного которому не приходилось ей встречать за всю свою жизнь.
Очевидно, еще один подарок для матери, – подумал Джимс.
Но, к его великому изумлению и к не меньшему удивлению Катерины, Эпсиба протянул бархат Джимсу:
– Мадемуазель Марии-Антуанетте Тонтэр от преданного ей Даниеля Джеймса Бюлэна, – торжественно произнес он. – Нечего краснеть, Джимс. Десять и двенадцать не так уж далеко от четырнадцати и шестнадцати. А если суждено когда-либо баронской дочери узнать счастье, так она выйдет замуж за одного из отпрысков фамилии Адамс! А, кроме того, у меня еще есть для тебя материя на несколько пар штанов, четыре рубахи, шляпа треуголка с черной лентой, полдюжины платков, складной нож, две пары башмаков, и вот это…
Из совершенно, казалось, опорожненного мешка он достал прекрасный длинный пистолет. Глаза его загорелись, когда, лаская оружие, точно близкого друга, он принялся описывать племяннику его великие, достоинства.
– Смотри, Джимс, никогда не расставайся с этим пистолетом, до последнего часа твоей жизни. Пистолет не новый, но жизнь он прошел славную, – когда-нибудь я тебе расскажу о ней. Это верный друг, мой милый мальчик, и к тому же друг смертоносный. Он бьет в цель на добрую сотню шагов, – закончил он, протягивая племяннику пистолет.
Лицо Катерины говорило о явном неодобрении.
– Это очень мило с твоей стороны принести подарок Марии-Антуанетте, – сказала она, – но что касается пистолета, то я не могу сказать, что мне это по душе. Пистолет наводит меня на грустные размышления о кровопролитии. А мы здесь живем в полном мире, и ружья и лука Джимса вполне достаточно, чтобы всегда быть обеспеченными дичью.
В то время как эта женщина заговорила так уверенно в «полном мире», лицо Эпсибы затуманилось на одно мгновение. Но он постарался отогнать зловещие думы, и, расхохотавшись, заметил, что через неделю она сама будет так же гордиться меткостью сына, как сейчас боится дурного влияния на него.
А когда Джимс час спустя забрался к себе на чердак и лег в постель, он думал не о чудном пистолете и не о меткости, а о том куске красного бархата, который он запрятал под подушку, перед тем как задул свечу. Если сейчас его сердце уже не билось так учащенно, как раньше, когда он сидел в кругу родных, то его душу охватывал поминутно радостный трепет, едва он вспоминал о своем сокровище. Гром перестал рокотать, молния уже не прорезала больше ночную мглу, а теплый осенний дождь беспрерывно барабанил по крыше, всего лишь в нескольких футах над головой мальчика, заглушая своим музыкальным ритмом голоса, доносившиеся снизу. Мальчик слышал, как стекала дождевая вода с крыши тысячами миниатюрных ручейков, он даже уловил мелодичное журчанье беспрерывной струи, стекавшей по трубе из коры в подставленную деревянную бочку.
И так велики были в эту ночь его переживания, что он лежал в темной комнате, широко раскрыв глаза, и сон бежал от него.
Завтра состоится аукцион на ферме Люссана. Этот богатый фермер жил у границы соседней сеньории, милях в десяти от Тонтэра. Он решил вернуться на свое строе место, близ острова Орлеана, где ему было больше по душе, чем в долине реки Ришелье, и потому распродавал большую часть своего добра. Среди прочих предметов, предназначенных для продажи, там был плуг с железным лемехом, котел для варки мыла галлонов на сорок и прядильный станок, – на эти вещи метил Анри Бюлэн, решивший, поэтому выехать ранним утром. Джимс слыхал, между прочим, что Тонтэр собирался приобрести рабов Люссана – семью, состоявшую из отца, матери и дочери, причем последняя предназначалась для Туанетты. Можно было предполагать поэтому, что Туанетта будет сопровождать отца. А в таком случае надо захватить с собой драгоценный пакет и, улучив удобный момент, передать его Туанетте.
Снова послышались раскаты грома где-то в отдалении, а вместе с тем ветер яростно стал рвать и метать, а дождь полил как из ведра. Опять молния пронизала мрак, осветив маленькое окошечко чердака, а крыша, казалось, стонет и гнется под напором небесной бомбардировки.