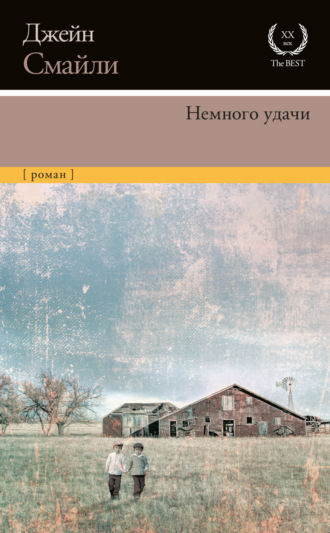
Джейн Смайли
Немного удачи
Розанна считала, что Уолтер вечно паникует заранее, но с такими низкими ценами было о чем волноваться. Как ни крути, но сейчас счета оплачивали свиньи и цыплята, яйца и сливки. Один парень в Эймсе разводил тяжеловозов и отправлял их на корабле в Европу, поскольку на войне погибло так много лошадей, что там некого было разводить, но что заставляло Уолтера нервничать (может, в силу его собственного военного опыта), так это длина цепочки поставок. Скажем, каждые сто миль кто-нибудь получает право урвать кусок пирога. Допустим. Значит, если отправлять кукурузу, овес, свиней или говядину в Су-Сити, ну, это двести миль, а Канзас-Сити – все двести пятьдесят. До Чикаго около трехсот двадцати пяти миль, а дальше Уолтеру даже и думать не хотелось. Можно сказать, чем дальше, тем куски становятся тоньше или доллары бледнее, – вот как Уолтер об этом думал. Так что отправлять тяжеловозов во Францию или Германию? Странное это дело. Как пшеницу в Австралию. Уолтер относился к этому с недоверием. Все его богатство здесь, вокруг этого стола: куры в курятнике, кукуруза в поле, коровы в хлеву, свиньи в свинарнике, Розанна на кухне с Джо и Фрэнком, притаившаяся в комнате задумчивая Элоиза. Уолтер осмотрелся. Рабочие уже освежились и травили анекдоты. Слышали про фермера, который выиграл в лотерею? Как будто лотереи еще проводились. Когда его спросили, что он собирается делать с миллионом долларов, доложил Тео Уайтхед, тот ответил: «Наверное, буду работать на ферме, пока все не потрачу».
Слишком много овса. Слишком много овса. С чего бы Уолтеру беспокоиться о таком изобилии…
1923
Розанне нравилось ездить в коляске. В морозный денек в конце зимы, когда над заледеневшими полями нависало тусклое, суровое небо, а вдалеке ярко светило солнце, хорошо было заняться делами в городе, пока лошадей не забирали сеять и пахать. Нужно было сделать кое-какие дела, кое-кого проведать. Джейк резво бежал вперед, должно быть, радуясь легкости коляски, – совсем не то что тащить ее на поле по рыхлой земле, и Розанна едва прикасалась к поводьям. В городе, после того как она отвезет корзину яиц и масла в магазин Дэна Креста, она отведет Джейка в конюшню, при которой есть лавка с кормами, и он вдоволь наестся овса. Это была приятная прогулка, и Розанна собиралась вернуться на ферму к двум часам. Конечно, в будни дел было мало: Льюисы вывешивали сушиться белье, Эдгар Френч выгонял овец на выпас у дороги, – все люди чем-то занимались, и возникало ощущение, что жизнь не стоит на месте.
Но в субботу весь город бурлил. В Денби было три церкви: Сент-Олбанс (которую посещала семья Розанны), Первая методистская (которую посещала семья Уолтера) и лютеранская на Норт-стрит. Все дамы из каждой церкви были заняты то одним, то другим: либо убирали в церкви, либо собирались в кружки по рукоделию, либо совершали покупки, а некоторые вместе обедали. Если Розанна ездила в город в субботу (а учитывая, что Элоиза ходила в школу, у нее не было особенного выбора), ей приходилось надевать хорошую одежду – что-нибудь модное и хорошего качества. Ее все прекрасно знали, и никто не принял бы ее за городскую леди, но это не значило, что она может выглядеть так, будто притащилась с фермы. Поравнявшись с первыми домами (дом Линчей на северной стороне Вест-Мэйн и дом Бертов на южной стороне), она дважды щелкнула языком и тряхнула хлыстом, подгоняя Джейка. Лучше ехать побыстрее. Суббота отличалась от воскресенья, когда они ходили в церковь (хотя методистам не обязательно было приходить каждую неделю, особенно если ты с фермы). По воскресеньям они доставали лучшую воскресную одежду – строгую и унылую. По воскресеньям она надевала шляпку и стягивала волосы в тугой пучок. По субботам Розанна выглядела на свои двадцать три года; по воскресеньям – напоминала собственную мать.
Конечно, погода в городе стояла такая же, но казалось, будто было теплее. Светило солнце. Розанна опустила верх коляски и помахала рукой прохожим на тротуаре (миссис Лоуренс, ее старой учительнице; отцу Бергеру, который не утратил дружелюбия несмотря на то, что она перестала ходить в Сент-Олбанс; Милдред Клэр, которая знала ее мать всю жизнь). Помахав отцу Бергеру, она вспомнила о своем наивном беспокойстве по поводу крещения Фрэнка и Джо. С Джо она совсем с ума сходила, но потом это прошло. Она выглянула из-за откинутого верха коляски и снова посмотрела на отца Бергера. Совсем старик стал. Ее мать и другие дамы из алтарного общества бесконечно на него жаловались.
Потом ее остановила эта девица, Мэгги Берч, лучшая подруга Элоизы, и подбежала к коляске. Розанна мило улыбнулась ей, хотя считала девушку несколько легкомысленной или, может даже, «пронырливой». Но Мэгги тоже широко улыбалась.
– Доброе утро, миссис Лэнгдон. Я как раз надеялась вас встретить.
– Здравствуй, Мэгги. Как у тебя дела?
– Хорошо, спасибо, миссис Лэнгдон… – Она замялась.
– Элоиза говорила, ты собираешься учиться на секретаря, Мэгги, – сказала Розанна.
– Да, мама разрешила. Я могу поехать на курсы в Ашертон и пожить у тети Маргарет и ее мужа, доктора Лискомба. Вы с ними знакомы?
– К сожалению, нет.
– У них такой большой дом. Уверена, я заблужусь во всех этих комнатах. Но… я хотела спросить у вас…
– Что? – спросила Розанна.
– Ну… вы знаете театр «Стрэнд»?
– Конечно, – ответила Розанна.
Джейк фыркнул и тряхнул ушами – надо же, муха в это время года!
– Я бы очень хотела пойти туда и посмотреть кино, а у моего кузена Джорджа теперь есть автомобиль, и он обещал свозить меня, но я бы хотела взять с собой Элоизу.
– Это десять миль, – сказала Розанна. – А от нашего дома – все тринадцать.
– Джорджи хорошо водит машину, – заверила ее Мэгги.
Глядя на Мэгги, Розанна раздумывала, стоит ли задавать вертевшийся у нее на кончике языка вопрос: обсуждали ли они это с Элоизой? Девичья часть Розанны была уверена, что обсуждали, а материнская полагала, что лучше не знать. Так что Розанна дала ответ, который давали все матери с начала времен:
– Посмотрим.
Девушка помрачнела, и Розанна догадалась, что миссис Берч поставила ей условие: Мэгги поедет, только если с ней будет Элоиза или кто-нибудь еще. Розанна тряхнула поводьями, на этом закончив разговор. Если она встретит в городе мать Мэгги – что вполне вероятно, – она с ней это обсудит.
Этель Коркоран. Мартин Фиск. Герт Ханке. Лен Харт. Старая, молодой, старый, старый. Каждому из них Розанна махала хлыстом, улыбалась, с каждым здоровалась. Напротив лавки Креста она сказала Джейку «Стой!», хотя тот и так уже остановился у коновязи, где мальчишки метали пенни о стену магазина, прыгали и кричали. Розанна вышла и привязала Джейка к столбу между «Фордом» и новеньким «Шевроле купе».
– «Купе»! – пробормотала Розанна, доставая горшок с маслом.
Дэн Крест открыл перед ней дверь лавки и забрал у нее горшок.
– Как жаль, что вас не было в прошлую субботу, миссис Лэнгдон, – сказал он. – Приходили четверо – только вдумайтесь, четверо – ваших лучших клиентов, хотели вашего масла. Знаете миссис Карлайл? Она не может без него испечь основу для пирога.
– Сама я использую лярд[14], – сказала Розанна.
– Ну, она француженка по материнской линии, – заметил Дэн Крест. Поставив горшок на прилавок, он спросил: – Надеюсь, вы и яйца принесли?
– Всего три дюжины, – сказала Розанна. – Сама проверила их на свежесть. И они крупные. Сегодня утром снова их помыла.
Когда она вышла на улицу, чтобы взять ящик, один из мальчишек, которые метали пенни, гладил Джейка по носу. Розанна сказала:
– Родни Карсон, если приглядишь за Джейком, я дам тебе никель[15].
Никель равнялся цене одного яйца, если она соглашалась на обмен. Если же она просила денег, то получала четыре цента. Но она выручала пять долларов за масло и в придачу товаров на сумму шесть долларов.
– О’кей, миссис Лэнгдон, – ответил Родни Карсон. – Джейк – хорошая лошадка.
– Верно, – согласилась Розанна.
Удивительно, как даже от такого простого разговора у нее посветлело на душе. В это время года, когда все то таяло, то замерзало и было покрыто слякотью, на ферме было особенно грязно. Как же приятно просто надеть чистое платье, чистые туфли, красивые перчатки и лучшую шляпку и выехать в коляске на дорогу!
– Я скоро вернусь, Родни.
Когда она поставила ящик на прилавок, Дэн как раз аккуратно достал брикет масла из горшка и взвесил его. Десять фунтов.
– Что ж, другим дамам я даю всего сорок центов за фунт, миссис Лэнгдон, но вам предложу пятьдесят, раз уж на ваше масло такой спрос. Хотя, конечно, в это время года вкус у него не очень яркий…
– Полагаю, вы заметите, что у моего вкус есть, – сказала Розанна, едва заметно тряхнув головой. – Наши коровы едят очень хорошее сено, особенно в этом году.
Потом она прибавила:
– Вы не возражаете? – и отошла от прилавка в глубь магазина, как будто что-то ее там заинтересовало. Но там ничего не было. Она знала, что ей нужно. Некоторое время она притворялась, что всего лишь обдумывает его предложение, ей доставляло удовольствие с невозмутимым видом просто разглядывать товары у всех на виду. Это самое главное. По крайней мере, за пределами фермы она не собиралась постоянно волноваться, как Уолтер. Она намеревалась вести себя так, как делали это городские женщины, глядя на других с достоинством, хотя бы потому, что она тщательно проверяла все свои яйца на свежесть, чтобы среди них не попалось порченых, и масло у нее было жирное и вкусное, и они с Джейком так красиво смотрелись, когда ехали по дороге.
За прилавком Дэн Крест обслуживал женщину постарше, которую Розанна никогда раньше не видела, возможно, хозяйку «купе». Розанна замерла, прислушиваясь, так, чтобы даже платье не шуршало.
– Да, мэм, – говорил Дэн. – Превосходное свежее масло, только сегодня утром доставили с фермы. Лучшее в округе. – Она не слышала, что ответила женщина, а потом Дэн сказал: – Семьдесят пять центов за фунт, не побоюсь заметить.
– Боже мой! – сказала женщина.
– Французская семья в городе покупает только это.
– Неужели, – заметила женщина. Дэн только теперь покосился на Розанну. – Ну, я…
Но ему удалось продать масло – два фунта, – а еще посетительница купила сосисок. Когда Розанна вернулась к прилавку, он сказал:
– Шестьдесят два цента и ни пенни больше.
Розанна ответила лишь:
– Гляжу, у вас яблоки остались.
– А, – сказал Дэн, – это красновато-коричневые с востока. Знаете Шмидтов там?
Розанна покачала головой.
– Он хранит их в крытой яме, выкопанной недалеко от реки. Казалось бы, из-за сырости они должны там гнить, но нет, крепкие, хрустящие.
И вот начался торг. Розанна подумала, что могла бы быть кем угодно, если бы не была женой фермера. Но она не жалела об этом – она этим гордилась.
У Фрэнка в доме было любимое место, о котором никто не знал. Когда папа находился на улице, Джоуи спал, а мама была на кухне, Фрэнк взбирался по лестнице в комнату родителей, приподнимал краешек сине-зеленого стеганого покрывала, ложился на спину и заползал под кровать. Он скользил по гладкому полу в дальний угол у самой стены, клал руки за голову и смотрел на каркас маминой и папиной кровати. Снизу кровать интересовала его гораздо больше, чем сверху. У него как будто бы был собственный домик, темный и полный теней, и он мог рассматривать вещи, которые его увлекали. Например, ножки кровати напоминали перевернутые кексы со спиралями наверху: задние ножки извивались в одну сторону, а передние – в другую, совсем как на перилах лестницы, когда поднимаешься по ней – то туда, то сюда. Каркас кровати был сделан из гладкого красноватого дерева, которое Фрэнку тоже нравилось, и с обеих сторон торчали колышки. Лучше всего было то, что по низу кровати квадратиками шли веревки. Фрэнку нравилось проводить по ним пальцами, обводя по краю, но он никогда не просовывал палец между веревкой и тяжелым матрасом, потому что однажды он попытался и у него застрял палец, а вытаскивать было больно.
Под кроватью не было игрушек – но это не имело значения. Ему нравилось под кроватью, потому что там не было ничего: ни кур, ни Джоуи, ни Элоизы, ни овец, ни слова «нет». Он мог просто лежать здесь, и никто ему ничего не говорил. Под кроватью было так тихо, что иногда он засыпал. Мама не возражала против того, чтобы он там прятался. Она не раз говорила: «Что ж, по крайней мере, там тебе ничего не угрожает». Элоиза иногда подходила к кровати, отбрасывала покрывало и кричала: «Бу! Я тебя вижу!» – и они оба смеялись, особенно потому, что он заранее знал о ее приближении, ведь он видел ее ноги из-за края покрывала.
Но папе не нравилось, что он забирается под кровать, поэтому папа запретил ему там прятаться и всегда очень злился, если находил Фрэнка под кроватью. А сегодня воскресенье, и они едут на коляске к бабушке на ужин, и на Фрэнке хорошая одежда – чистые штанишки и рубашка. Ему велели сидеть внизу и не забираться под кровать, но, оставшись один, он сделал именно то, что ему запретили делать.
Фрэнк и сам не понимал, почему иногда делал именно то, что ему запрещали. Казалось, стоит кому-нибудь что-то ему запретить, как это оседало у него в голове, – и что еще оставалось делать? Это как пинать Джоуи. «Не бей своего брата. Никогда не бей своего брата, понимаешь? Если увижу, как ты бьешь брата, то выпорю тебя, понял?»
Но что значит бить? Иногда, когда Джоуи шел рядом, достаточно было просто дотронуться до него, и он тут же падал и начинал реветь. А бывало, врежешь ему как следует – и ничего. Больше всего Фрэнку нравилось пробовать что-то новое. Интереснее всего было испытывать что-то новое на Джоуи, тем более что кот всегда убегал, даже когда мама не выгоняла его из дома из-за грязи. Фрэнку было предельно ясно: если ты что-то держишь в руке, неважно, что именно, просто необходимо это как-то использовать. Если это камень – нужно поскрести им о землю или о стену. Если вилка – надо ткнуть ею в яйцо, или стол, или Джоуи. Если палка – нужно ею что-нибудь ударить. Если отвертка – нужно закрутить винт, папа показал ему, как это сделать. На Рождество мама подарила ему коробку с восемью карандашами (синий, зеленый, челный, количневый, филетовый, оланжевый, класный и жеееееелтый) и книжку-раскраску, но он обязан был испытать их на столе и на коврике, на полу и на стене, и даже на собственной коже. Только стена по-настоящему рассердила родителей – его за это выпороли, – но над пятнами оланжевого у него на ногах они смеялись.
Раздался крик:
– Фрэнки? Фрэнки, я тебя не вижу! Где ты?
Он молчал. Потом появились мамины туфли, взлетело одеяло, и она вытащила его за руку из-под кровати, поставила на ноги и похлопала по спине со словами:
– Я только что погладила эту рубашку, но посмотри на нее – вся в пыли! Не знаю, что мне с тобой делать, Фрэнки!
Она снова похлопала по нему и, схватив его за руку, отвела вниз. Возле лестницы стоял папа и смотрел на них.
– Где он был? – спросил он.
– Ох, у нас в комнате.
– Где?
– Господи, Уолтер, он просто…
– Под кроватью?
– Ну…
– Нечего защищать его, Розанна. Он знает, что под кровать нельзя, а ты ему десять минут назад сказала…
– Я просто надену свитер поверх…
– Фрэнк, сынок, иди сюда, – велел папа. – Встань вот сюда.
Папа указал на пол у самых своих ног. Мама слегка подтолкнула его, и Фрэнк подошел и встал, где надо.
– Ты был под кроватью?
Фрэнк покачал головой.
– Спрашиваю еще раз. Ты был под кроватью?
– Нет, – сказал Фрэнк, потому что больше сказать было нечего.
– Фрэнк, ты не послушался меня, а сейчас еще и врешь. Что мне теперь делать?
Фрэнк молча уставился на него.
– Ну же, скажи, что мне теперь делать.
Фрэнк опять покачал головой. Папа сказал:
– Придется тебя выпороть.
– Нам пора, – вмешалась мама. – Может, после…
– Ждать нельзя. Если наказать лошадь или собаку через пять минут после проделки, они не поймут, за что их наказывают. С мальчиком то же самое.
Розанна сделала шаг назад.
Уолтер снял ремень. Иногда он использовал ложку или щетку, потому что, как правило, был одет в рабочий комбинезон, но сейчас они собрались в гости, и у него был ремень. Он ухватил ремень за пряжку, и Фрэнку пришлось стоять лицом к окну, пока папа приспускал ему штаны и расстегивал его нательный комбинезон. Наконец папа стиснул плечо Фрэнка и начал хлестать его по попе. Фрэнк умел считать: он досчитал до шести, но боль затуманила его разум, и дальше он считать не смог. Но он не упал. Отчасти потому, что папа не позволил бы ему упасть, но еще потому, что Фрэнк не хотел падать. Каждый раз, как он заваливался вперед, папа удерживал его и наносил очередной удар. По щекам Фрэнка катились слезы, но он не стал вытирать их рукой или рукавом. Ему пришлось их слизывать, потому что они падали ему на губы. Потом все кончилось, и боль, и удары. Они с папой стояли молча, и папа застегнул ему нательный комбинезон и подтянул штаны. Затем он развернул его, и Фрэнк оказался лицом к папиным коленям. Уолтер наклонился вперед. Глаза у него горели.
– Фрэнки, – сказал он, – почему я тебя выпорол?
– Я забрался под кровать.
– А еще почему?
– За вранье.
– Скажи: «Я соврал».
После недолгого колебания Фрэнк повторил:
– Я соврал, – хотя ему казалось, что ложь у него вырвалась помимо воли.
– Ничего не бывает просто так, Фрэнки, – сказал Уолтер. – Тебя наказывают за непослушание и обман. Ты умный мальчик, смелый мальчик, и мы с твоей мамой очень тебя любим, но я никогда не видел никого более упрямого.
Папа встал, просунул ремень обратно в петли и застегнул пряжку. Вышла мама с заспанным Джоуи на руках.
Фрэнку казалось, что кожа у него под штанами горит огнем, но он держался прямо, пока слезы на щеках высыхали, а потом мама взяла его за руку и отвела на кухню. Усадив Джоуи на высокий стульчик, она окунула тряпку в ведро с водой и вытерла Фрэнку лицо.
– Не понимаю я тебя, Фрэнки, – сказала она. – Просто не понимаю. С виду настоящий ангелочек, но иногда в тебя будто дьявол вселяется!
Фрэнк промолчал. Несколько минут спустя они сели в коляску. Мама несла пирог и буханку хлеба.
– Ну, к ужину мы в любом случае поспеем, – сказала она.
Папа тряхнул поводьями и ответил:
– Да, должны.
– Но нас спросят, почему мы опоздали.
Папа пожал плечами. Фрэнк откинулся на подушку.
1924
Следующий ребенок оказался девочкой, и с ней не было никаких хлопот. Бабушки никак не могли согласиться, в кого она пошла такая смирная: мать Уолтера, Элизабет, утверждала, что это, должно быть, наследственность со стороны Розанны, а мать Розанны, Мэри, не желая выглядеть менее любезной, клялась, что это наследственность со стороны Уолтера. Девочку назвали Мэри Элизабет в честь обеих бабушек. У нее были темные волосы, но голубые глаза.
– У моей бабки были голубые глаза, – сказала мать Уолтера. – В нашей семье они то появляются, то исчезают.
Но смотреть в глаза как Аугсбергерам, так и Фогелям было все равно что глядеть на небо в солнечный день.
После рождения Мэри Элизабет Розанна не вставала с постели две недели, но не потому, что чувствовала себя ужасно, как после Джоуи, а потому, что стояла зима, на улице было холодно, все замерзло, и ей, в общем-то, делать было нечего. Мать провела с Розанной неделю, потом на неделю ее сменила мать Уолтера, и Розанне оставалось только дремать, кормить младенца и пробовать все, что предлагали бабушки: разумеется, овес во всех видах, вкусный и успокаивающий, а еще блинчики и сушеные яблоки, сваренные в яблочном сидре с корицей и сахаром, или вафли (Элизабет привезла из дома вафельницу). Счастливее всего Розанна чувствовала себя, когда сидела на краешке кровати, кормила младенца и наблюдала в окно за Фрэнком, который, закутавшись так, что виднелись только глаза, играл в снежной крепости, которую мать Розанны помогла ему построить в боковом дворе. В этом году снег был отличным – глубоким, не слишком мерзлым и не слишком рассыпчатым. Как приятно было смотреть на Мэри Элизабет и видеть в ней просто ребенка, а не список того, что Розанна должна сделать, как было с Фрэнки и Джоуи. Уолтер тоже радовался тому, что в этот раз родилась девочка. («Может, с этой мы хоть немного передохнем», – сказал он.) А потом мать Уолтера открыла дверь и спросила:
– Розанна, я приготовила немного куриного бульона. Он так хорошо согревает. Хочешь тарелочку?
Фрэнки и Джоуи крепко спали – последний даже слегка похрапывал, чего, по мнению Элоизы, двухлетний ребенок не должен был делать, – но Элоиза бодрствовала, слушая, как в соседней комнате Розанна и Уолтер обсуждают подержанный «Форд» модели «Т». Розанна хотела, чтобы Уолтер купил его, но тот был против. Они спорили уже целую неделю. Уолтер утверждал, что слишком потратился на семена. Как бы дешево продавец их ни отдавал, все равно получилось слишком дорого. Розанна настаивала, что у нее есть двадцать долларов и она знает, что у Уолтера есть тридцать, а машине уже пять лет.
– Я выращиваю топливо для лошадей. Как я могу вырастить топливо для машины? Если соберешься в город, то сначала придется поехать в тот же город за бензином.
Элоиза, которой нравилось ездить в кино в Ашертон с Мэгги и Джорджем (они уже несколько раз ездили), не понимала, зачем Розанне машина. Если верить Джорджу, «Фордом» почти невозможно научиться управлять, если тебе больше двадцати, но Розанна была убеждена, что научится, и притом быстро.
– Будь у меня деньги, я бы скорее потратил их на трактор. Он бы мне больше пригодился, – сказал Уолтер.
Элоиза полностью была с ним согласна. Ферма располагалась в трех милях от города – в хорошую погоду туда и обратно можно и пешком дойти. Но она не могла не восхищаться Розанной: та никогда не кричала, не злилась, даже не ныла. Она просто без конца упоминала об этом, а если Уолтер терял терпение, опускала глаза и замолкала. Но потом, разумеется, начинала все сначала. «Даже не пытайся в чем-либо отказывать Розанне, – всегда говорила их мать, – этим ничего не добьешься». Особенно в полночь, подумала Элоиза, в середине посевного сезона. Она повернулась набок и сунула голову под подушку.
Теперь, когда Фрэнку почти исполнилось пять, у него появились определенные обязанности. Каждый вечер, перед тем как лечь спать, он должен был раскладывать на полу одежду на следующий день – она выглядела так, как будто там лежал человек (он сам), но этот человек улетел (или лег спать). Утром он должен был одеться, прежде чем спуститься вниз и пойти кормить кур и лошадей (свиней и овец папа кормил сам). Возле двери висело его пальто, и его он тоже надевал сам, вместе с шапкой и варежками. Сапоги стояли на крыльце. Фрэнк с папой надевали сапоги одновременно. Иногда он надевал их не на ту ногу, но даже так ему все равно приходилось в них выходить: на то, чтобы переодеться, времени не было, потому что животные хотели есть.
Сначала они несли овес и сено лошадям: Фрэнк высыпал овес из ведра в кормушку, а папа вилами накладывал им сено. Затем, взяв еще одно ведро овса, Фрэнк обходил двор и бросал зерно курам, а папа тем временем проверял, есть ли у кур яйца. Иногда, если яиц было много, Фрэнк тоже относил несколько штук в дом, но делать это надо было осторожно, чтобы они не разбились. Яйца – это и еда, и деньги, и Фрэнк прекрасно понимал, что это значит.
Когда они возвращались в кухню, Джоуи сидел на высоком стульчике и ел приготовленный мамой завтрак, а Мэри Элизабет сидела в корзинке на столе и смотрела на потолок. Фрэнк любил подойти к ней и начать подпрыгивать. Иногда она начинала плакать, но он делал это не для того, чтобы заставить ее разреветься. Он просто хотел, чтобы она повернула голову, или подняла руки, или начала сучить ножками. Мама всегда говорила:
– Будь добр к сестричке, Фрэнки.
– Я добр, – отвечал Фрэнки.
– Хмм, – изрекал папа.
Джоуи просто смотрел на них, поворачивая голову то к Фрэнку, то к маме, то к папе, то назад к Фрэнку. Джоуи никогда не кормил лошадей или кур. Это была работа Фрэнка.
А еще Фрэнку доверяли отводить лошадей на пастбище. Начинали с Джейка. Папа надевал на голову Джейка нечто под названием недоуздок[16] и вкладывал веревку в руку Фрэнка, а тот шагал вперед по прямой, не оглядываясь. Когда они добирались до уже открытых папой ворот на пастбище, Фрэнк заводил Джейка внутрь и разворачивал его. Они стояли смирно, пока папа снимал недоуздок, а потом Фрэнк с папой делали шаг назад и папа закрывал ворота. Та же процедура повторялась с Эльзой. В хорошую погоду папа разрешал Фрэнку кататься на Джейке, но на Эльзе – никогда. По словам папы, Эльза была немного «склочной» и не вполне надежной. Днем Фрэнк отводил лошадей домой. Этой работой он особенно гордился.
А вот сидеть в «Форде», положив обе руки на руль и делая вид, что поворачиваешь его вправо и влево, было весело и совсем не похоже на работу. Если бы он куда-нибудь ехал, ему пришлось бы встать на сиденье, но ему этого не разрешали. Просто сидеть и издавать всякие звуки было куда веселее. Смешнее всего было издавать такой звук, как будто автомобиль подскакивает на ухабе, и потом подпрыгивать на сиденье.
Мама тоже давала ему поручения. Он поправлял на их с Джоуи кровати оранжевое покрывало, которое сшила для них бабушка Элизабет, и убирал под него подушки, подбирал их с Джоуи грязную одежду и складывал ее в корзину. У Джоуи одежда всегда была грязнее, чем у Фрэнка. Трудно было не признать, что Джоуи его ужасно разочаровал. Как говорил папа, Джоуи – ужасный нытик, и ему все время надо говорить, чтобы он перестал. Фрэнк прекрасно знал, что уж он-то никогда не ноет. А еще Джоуи снились кошмары, и он кричал по ночам, так что Фрэнк взял на себя обязанность (на этот счет мама ничего ему не говорила) будить Джоуи, если тому снился страшный сон. Иногда он довольно сильно тряс брата, но не сильнее, чем это делал папа.
Помимо всего прочего, Фрэнк учился читать. Он еще не дорос до школы, но мама взяла у учителя букварь, и он уже почти все прочел. Это было легко. И каждый раз, как он читал очередную страницу, мама обнимала его и восклицала:
– О, милый Фрэнки, ты ведь станешь президентом, правда?
Иногда Джо хотелось тишины и покоя. Вот как сейчас, например, когда он сидел на нижней ступеньке крыльца, все было почти идеально. Его мучитель, Фрэнки, куда-то запропастился – кто знает куда, да и кому какое дело? – а мама меняла подгузник Мэри Элизабет в доме. Она знала, что Джо никуда не уйдет, раз ему было велено оставаться на месте – он оставался. Она дала ему коробку домино, его любимую, и он раскладывал костяшки друг за другом на второй ступеньке так, чтобы уголки соприкасались. Мама пересчитала для него точки и показала, что на некоторых костяшках точек больше, а на других меньше, но Джо не было дела до точек, разве что ему нравилось, как они выглядят на фоне черных прямоугольников. Больше всего ему нравилось смотреть на целый ряд, а еще лучше поле костяшек домино, плоское, прямое и чтобы не было ничего лишнего. Его очень огорчало, если случалось выложить целое поле так, как надо, а в коробке при этом еще оставалось домино, но еще хуже, когда костяшки заканчивались, а в поле оставался пробел. Он подозревал, что можно было определить заранее, что получится, но не знал, как это сделать. Он также знал, что время от времени приходил Фрэнки и вынимал костяшки из коробки, из ряда, из поля и держал при себе или бросал куда-нибудь, так что Джо приходилось их искать, или даже засовывал в рот и высовывал, как язык, если Джо просил их вернуть. Мама очень редко заставала Фрэнки за этим занятием. Каждый раз, как Джо пытался сообщить что-то важное насчет Фрэнки, ему велели прекращать ныть. Несмотря на то что Фрэнки и все его проделки очень донимали Джо, он понятия не имел, что с этим делать.
Он встал и посмотрел на собранный ряд домино. Довольно длинный. Джо улыбнулся.
Фрэнк глубоко вжался в диван, надеясь спрятаться от мамы, чтобы, когда она спустится вниз, уложив Джо спать, она его не заметила и не стала загонять в постель. Он чувствовал себя так, будто внутри у него бушует сильный ветер, и, попробуй она уложить его спать, ветер сдует его прямо с кровати и понесет обратно вниз. Он попытался как можно лучше спрятаться и напрягся изо всех сил – так его будет сложнее поднять, а ему будет легче возражать.
Вот она идет.
Мама все-таки заметила его, но, закусив губу, прошла в столовую. Расслабившись, Фрэнк снова сел и принялся разглядывать все лица. Да, бабушка Мэри. Да, Элоиза. Да, дядя Рольф. Да, дед Отто. Да, Ома и Опа. С этими и с некоторыми другими он был хорошо знаком. Но тут были еще Том (ему семь лет), Генриетта (шесть) и Мартин (девять) – его дальние родственники, которые, как говорила Розанна, жили далеко-далеко, в городе, где нет коров, свиней, кур и даже лошадей, одни только высокие дома, твердые дороги и много-много автомобилей. Троюродные братья и сестра приехали на День благодарения и жили у бабушки Мэри.
– Ох, – вздохнул Опа, – опять я объелся. И как такое произошло, я вас спрашиваю?
– Опа, – сказала бабушка, – можно вдоволь наесться гуся или пирога, но не того и другого сразу.
– Ja, ja, ja, – отвечал Опа. – И все же я застрял на стуле и больше никогда не смогу двигаться.
Вернувшись в комнату, мама поцеловала Фрэнка в темя, где у него не было волос.
– Если будем так сидеть и ничего не делать, то заснем, – сказал папа. – Давайте сыграем во что-нибудь.
– Что-нибудь веселое для детей, Уолтер, – предложила бабушка.
Папа посмотрел на Фрэнка, потом на маму, а та сказала:
– Ничего, ляжет попозже.
Но Фрэнк сидел тихо, зная, что мама может в любой момент передумать.
Потом он перебрался за стол, где сидели все остальные. Он стоял на коленях на стуле между Мартином и Генриеттой. Он наклонился вперед, уперевшись в край стола. В руке он держал веревку, к которой была привязана пробка. Фрэнк знал о пробках все, потому что они с Джо играли с пробками в ванной. Если погрузить пробку под воду, она всплывет, а иногда и вовсе выскочит из воды. Пробки – это весело. Все девять пробок лежали по кругу посередине стола, и к каждой пробке была привязана веревка. Помимо детей, играли еще бабушка Мэри, Опа и папа. Папа положил на стол зеленые кости. Иногда Фрэнк играл и с костями, считая точки и складывая два числа. Папа считал, что это для него хорошая практика. Джо даже точки считать не умел. Прямо перед Фрэнком высилась небольшая горстка бобов – всего десять. Когда папа выложил их перед ним, он попросил его пересчитать их. В этом не было ничего трудного, но все лица озарились улыбками. Фрэнк отлично понимал, что бобы – это его деньги, и он хотел получить еще.
Папа показал ему, что надо делать. Он бросил кости раз, два, три раза, и на третий раз вышло число семь, и Фрэнк должен был потянуть за веревку так, чтобы его пробка не попала под крышку от горшка, которую папа опустил на стол. Крышка опустилась очень быстро и с резким грохотом, а когда папа поднял ее, под ней обнаружилась пробка Фрэнка, поэтому ему пришлось отдать папе один боб. Пробка Мартина успела улизнуть, так что папа дал Мартину один боб. Генриетта и Опа отдали папе по бобу и так далее. Теперь у Фрэнка осталось девять бобов.



