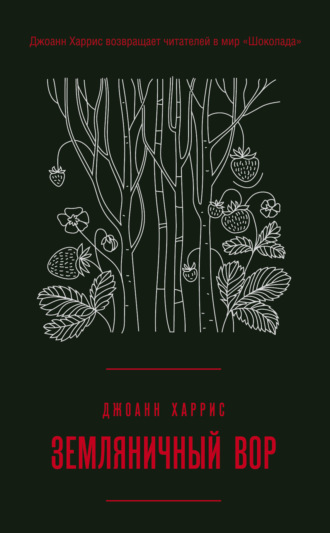
Джоанн Харрис
Земляничный вор
Глава четвертая
Пятница, 17 марта
Душа у отца была нежная, а тетушки Анны он боялся не меньше, чем я. Молчаливый – и от природы, и по собственному выбору, – он совсем недолго учился в школе и успел получить лишь зачатки знаний, читать да писать научился, а потом его из школы забрали: нужно было помогать на ферме. Тетушка Анна сохранила все его школьные аттестаты – по одному за каждую четверть, – написанные старомодным красивым почерком.
«Нарсис – спокойный, воспитанный мальчик, однако особых способностей не проявил».
«Нарсис – мальчик спокойный, на уроках внимателен, но часто делает ошибки, путая буквы алфавита. Прилежные занятия чтением и дополнительная практика в письме могли бы существенно исправить имеющиеся у него недостатки».
«Нарсис – ученик внимательный, однако страдает заиканием, что мешает ему принимать участие в школьных спектаклях и выступать с чтением стихов. К тому же он по-прежнему часто путает буквы алфавита, а потому снова оказался в числе отстающих».
Впрочем, я долгое время понятия не имел ни об отцовской дислексии (это слово я впервые услышал лишь через несколько десятилетий после его смерти), ни о его заикании. Мне и в голову не приходило, что отец предпочитает помалкивать не потому, что сам так захотел, а потому, что просто боится говорить.
За столом он никогда не произносил ни слова, разве что благодарил тетушку Анну за обед или завтрак, что делал с таким смирением, какое обычно приберегают исключительно для Бога. Большую часть времени он проводил в саду или на ферме, а тетушка Анна вела дом, готовила еду и воспитывала детей – наилучшим, по ее представлениям, образом, хотя этот метод воспитания был, пожалуй, несколько более жестким, чем предпочел бы наш отец. Но ферма принадлежала тетушке Анне, так что важно было только ее мнение. И, согласно этому мнению, дети должны были хорошо себя вести, быть послушными, непременно посещать церковь и молиться, а также с должным почтением относиться к старшим.
Тетушка Анна замечала все: капельку засохшей грязи на школьном комбинезоне, отсутствующую пуговицу на рубашке. Исполненная сознания долга, она, увы, была начисто лишена душевного тепла: о нас она заботилась исключительно ради спасения наших душ, а не ради того, чтобы поселить в наших детских сердцах добро. Особое беспокойство доставляла ей моя сестренка Мими. Девочка так и осталась какой-то слишком маленькой и с рождения была подвержена припадкам и судорогам; все считали, что такой младенец долго не проживет. Однако Мими выжила, и тетушка Анна восприняла это скорее как проклятие, чем как милость.
В семье это был еще один лишний рот, а еды хватало далеко не всегда. Да и вообще девчонка была совершенно бесполезной – в те времена домашний скот ценился куда выше. И в довершение всего рождение Мими послужило причиной смерти нашей матери – в общем, все это вместе никак не давало оснований радоваться тому, что девочка выжила. Мало того, Мими не просто выжила, хотя тетушка Анна была с самого начала уверена, что девочка приговорена, но и продолжала жить – несмотря на смехотворный рост и вес, несмотря на отказ брать грудь, несмотря на постоянные судорожные припадки и необъяснимые приступы смеха. Маленькая Мими цеплялась за жизнь и росла, как упрямый одуванчик, который ухитряется пустить корни и расцвести даже в самом негостеприимном месте. Мими, эта упрямая крошка, жила и росла, стараясь во что бы то ни стало дотянуться до света.
Можно, наверное, подумать, что уход за такой беспомощной младшей сестренкой должен был стать для меня невыносимым бременем? Ведь мне, в конце концов, было всего четыре года, когда Мими, точно нежеланный подарок, «свалилась» на нашу семью, заняв место моей матери. За одно это мне, наверное, следовало бы возненавидеть это жалкое существо. Однако ненависти во мне почему-то не возникло, а вот любви и внимания мне отчаянно не хватало. И я научился любить свою сестренку. Сначала это была любовь-сострадание, которую может испытывать ребенок, скажем, к сломанной игрушке или бродячей собаке, а потом это переросло в яростное стремление ото всех ее защищать. И дело было вовсе не в том, что отец к нам особой любви не испытывал, как раз наоборот, он очень нас любил, однако показывать нам свою любовь так и не научился. Ну, а тетушке Анне, по-моему, вообще подобные чувства не были свойственны; она терпеть не могла хоть в чем-то проявлять слабость. Отца моего она поднимала одна – к этому времени она уже успела похоронить обоих мужей, – и если когда-то она и была способна проявить хоть какую-то мягкость характера, то теперь характер ее уже полностью обызвестковался, и она стала похожа на тот крест, который постоянно носила: твердая, с острыми краями и абсолютно безжалостная. Нет, в глубине души она, пожалуй, не была ни особенно злой, ни особенно жестокой, но доброты в ней все же не было ни капли; в ней жило лишь чувство долга, которое она ошибочно принимала за преданность Богу, однако оно, это чувство, было, по-моему, вызвано скорее ее потребностью гордиться собой, а также опасениями на тот счет, что о ней могут сказать соседи.
Она воспитывала меня, не испытывая ко мне ни капли нежности, но с твердым намерением сделать из меня когда-нибудь настоящего мужчину и достойного гражданина. А у Мими даже и подобного потенциала не оказалось. Ведь она была девочкой, а значит, бесполезным бременем для семьи. Такую, как Мими, никто и никогда даже замуж не взял бы и при наличии достойного приданого. Тетушка была уверена, что Мими никогда не научится ни говорить, ни понимать самые простые указания и вечно будет страдать загадочными судорожными припадками. И хотя Мими была, казалось, вполне довольна своей судьбой – а иногда выглядела даже совершенно счастливой, – тетушка Анна продолжала воспринимать ее как наказание Божие за некий неизвестный грех, и сердце ее все больше ожесточалось.
Я все это рассказываю, чтобы вы, Рейно, поняли: в моей неприязни к церкви нет ничего личного. Это всего лишь воздействие тетушки Анны, ВЕРА которой была холодна, как камень, и суха, как пыль; а Бог так ни разу и не ответил ни на одну из тех бесчисленных молитв, которые я ему возносил.
Какая чушь! Неужели он и впрямь думал, что Бог реально отвечает на чьи-то там молитвы? Да у Него попросту нет времени, чтобы выслушивать всякие мелкие жалобы. Неужели Нарсису казалось, что Бог все бросит и заинтересуется его жалкой, крошечной судьбой? Неужели он действительно надеялся на божественное вмешательство, когда в их странной семье творилась обыкновенная бытовая жестокость? Видимо, отец мой, проблема именно в этом. Люди вообще склонны все воспринимать буквально. Им кажется, что мир начнет вертеться в другую сторону из-за их личных маленьких проблем и забот. Они совершенно не имеют представления ни о глобальности некоторых явлений, ни о собственной незначительности. Господь не внял вашим мольбам? Не думайте, что вы один такой. Бога не заботит ни ваше одиночество, ни ваши страдания. Если Бог создает звезды, то с какой стати Ему беспокоиться о том, соблюдаете ли вы хотя бы Великий пост, злоупотребляете ли вином, умерли вы или еще живы…
Да простит меня Господь, но я никогда не умел проявлять должное терпение по отношению к своей пастве. Мои подопечные, похоже, считают, что Бог просто обязан уделять им внимание. А если Он им внимания не уделяет, то это должен делать я. О, мои агнцы – животные весьма ограниченные! Вечно блеют на разные голоса, разбредаются кто куда, а потому деятельность моя далека от пасторальной; мне приходится строго следить за моим стадом и по возможности контролировать его действия. Не то чтобы я мог представить себя на каком-то ином поприще, однако на этой стезе мне, безусловно, пришлось пойти на определенные жертвы. Так что Нарсис не единственный из взывавших к Богу, но ответа от Него так и не получивших.
Поскольку иной отдушины у меня не было, средоточием моей любви стала Мими. Эта странная малышка, так и не научившаяся произносить толком и десяти слов, зато отлично умевшая в любой момент улыбнуться или засмеяться, стала мне ближе всех на свете. Потому-то, наверное, и Розетт Роше теперь так много для меня значит. Она чем-то очень похожа на Мими – во всяком случае, такой Мими могла бы стать, если бы ее в семь лет не настигла смерть, жестокая и бессмысленная, а внимание Бога в этот миг не было бы обращено на что-то другое…
Вот оно, отец мой! Ну и хватит на сегодня. Каждое слово – словно атака на меня, на церковь, на Бога; больше, пожалуй, мне, священнику, не вынести. Исповедь Нарсиса – если это действительно исповедь – требует времени, и он прекрасно знал, что я, каковы бы ни были мои недостатки, буду стоек и непременно дочитаю все до конца. Но пока с меня довольно. Я, пожалуй, прогуляюсь сейчас до фермы и побеседую с Мишель Монтур. Может, и этого неуловимого Янника там застану. В любом случае хоть немного отвлекусь.
Так убеждал я себя, направляясь к ферме. Но голос Нарсиса продолжал звучать у меня в ушах; этот голос преследовал меня все время, пока я шел по улице Маро, потом через поля и вдоль опушки леса, и звучал он на редкость настойчиво, хотя этому человеку при жизни и сказать-то мне было практически нечего. Но я, отец мой, всегда слышал голоса мертвых лучше, чем голоса живых, – возможно, из-за того, что я священник, а может, из-за того, что я тогда совершил. Голоса мертвых всегда звучат очень громко, они шумно требуют общения.
Никогда не считал себя добрым. Возможно, я был добродетельным, но не добрым. Теперь я это понимаю; но, конечно, слишком поздно уже пытаться исправить кое-какие свои деяния. Так что мне остается только продолжать жить и стараться быть лучше, чем был когда-то. Мой отец, этот убийца. С какой легкостью Нарсис это пишет. Кого же все-таки его отец убил? Хотя я совсем не уверен, что так уж хочу это знать. Разве его покойный отец не заслуживает покоя? Что хорошего будет, если снова вытащить на яркий свет все прошлые грехи? Может, прошлое лучше оставить в темноте?
Признался ли он в совершенном преступлении, отец мой? Получил ли отпущение грехов, как когда-то давно я получил его от тебя? Ведь тот мой грех был, по сути дела, мальчишеской выходкой, несчастным случаем; и потом, ты же сам называл речных крыс паразитами, отбросами общества, сорняками в саду Господнем. Ты убедил меня, что в совершенном деянии участвовали лишь мои руки. И этими руками осуществлялась воля Господа.
Лишь много лет спустя до меня дошло: никакого отношения к случившемуся Бог не имел. И ты не имел никакого права прощать мне мою вину, а потому я порой все еще чувствую ее неизбывную тяжесть. Именно порой. Потому что, честно говоря, бывают такие дни, когда я почти совсем не вспоминаю об этом, а если и вспоминаю, то случившееся кажется мне чем-то невероятно далеким, совершенным не мной, а совсем другим человеком, которым когда-то был я. Говорят, человеческое тело обновляется каждые семь лет. И все клетки в нем – клетки крови, кожи, костного мозга, костей – становятся другими. Значит, я успел много раз полностью сменить обличье с тех пор, как на Танн сгорел тот плавучий дом. И должен был бы теперь стать совершенно новым человеком. Но в такие дни, как этот, когда поля высвечены утренним солнцем, но воздух все еще по-весеннему прохладен, а из-под зеленой изгороди выглядывают первоцветы, тот мальчик, каким я был когда-то, кажется мне настолько близким, что я почти могу до него дотронуться…
Я был настолько погружен во все эти мысли, отец мой, что чуть не вскрикнул, когда внезапно увидел перед собой того самого мальчика. У меня, правда, все же вырвался некий сдавленный возглас, и мальчик испуганно ойкнул, а из кустов тут же вынырнула Розетт, которая, видимо, чуть-чуть от него отстала. Она издала один из своих птичьих кличей, и я удивленно воскликнул:
– Розетт!
Мальчик осторожно на меня глянул. Нет, он был абсолютно не похож на меня тогдашнего – темноволосый, круглолицый и, пожалуй, излишне полный, – но выражение лица у него было знакомое: чрезвычайно виноватое. Только тут я заметил у него в руках двухлитровую банку с чем-то очень похожим на земляничное варенье. Банка была открыта явно недавно, однако в ней осталась едва ли половина прежнего содержимого, а все стенки с внешней стороны были покрыты липкими отпечатками пальцев, перепачканных вареньем.
– Это с фермы Нарсиса? – спросил я. Никаких других ферм поблизости не было.
Мальчик кивнул; вид у него был по-прежнему виноватый.
– В таком случае ты, должно быть, Янник Монтур?
Мальчик снова кивнул. Он был не очень-то похож на своих родителей – они оба отличались довольно хрупким сложением, – а тонкая верхняя губа и узкие глазки придавали его лицу какое-то раздраженно-обидчивое выражение. Я улыбнулся, протянул ему руку и сказал:
– Я – Франсис Рейно, священник из Ланскне. Я о тебе много слышал.
Мальчик удивленно посмотрел на меня:
– Правда?
– Ну, если честно, не совсем. – И я снова улыбнулся. – Вообще-то ты человек весьма таинственный. Но, насколько я понимаю, вы теперь собираетесь здесь остаться и как раз переезжаете?
Он только кивнул и промолчал.
– Что ж, добро пожаловать в Ланскне-су-Танн. – Я пожал ему руку, которая оказалась ужасно липкой, и Розетт опять издала ликующий птичий клич. А я вдруг подумал, что если б я слопал сразу литр с лишним земляничного варенья – даже и с помощью кого-то из приятелей, – у меня бы точно возникли серьезные проблемы. Впрочем, в пятнадцать лет позволительно столь многое из того, что в пятьдесят пять становится совершенно недопустимым. Например, поедание варенья прямо из банки и в неимоверных количествах.
– Я вижу, с Розетт ты уже знаком, – сказал я. – Кстати, ее мать – хозяйка шоколадной лавки.
На лице у Янника отразились явные сомнения.
– Мне не разрешают есть шоколад, – сказал он, и я тут же вспомнил еще одного мальчика, которому тоже не разрешали есть шоколад. Теперь Люк Клермон вырос и стал красивым молодым человеком, а от заикания, так мучившего его в детстве, не осталось и следа; мать он навещает раз в год, а сам живет с молодой женой в Париже. Если бы Каро тогда разрешала сыну есть шоколад, все в их жизни, возможно, сложилось бы иначе. Кто знает? Порой подобные вещи имеют для мальчиков немалое значение.
– Иногда, – сказал я, – если нам говорят, чтобы мы чего-то не делали, это лишь заставляет нас еще больше желать запретного. А потому порой лучше получить немножко того, чего тебе так хочется, чем стараться соблюдать полное воздержание.
Мои слова Янника явно удивили – как удивили бы и меня тогдашнего.
– Да, наверное, вы правы, – сказал он. – А что такое воздержание?
– Нечто такое, о чем священники, боюсь, упоминают даже слишком часто, – ответил я. – Особенно во время Великого поста.
Он с подозрением на меня глянул и, поняв, что я над ним не подшучиваю, улыбнулся. Когда он улыбается, все его лицо словно вспыхивает, и в нем сразу появляется что-то от Нарсиса – не то чтобы старый Нарсис когда-либо так уж мне улыбался, но сходство все же было явным. Странное такое сходство, должно быть, фамильное.
Мой отец, этот убийца. Почему эти слова не выходят у меня из головы? Может, это связано с Янником, который кажется мне несколько странным, пожалуй, даже заторможенным? Неужели родители из-за этого держат его дома? Если это действительно так, может, даже хорошо, что он подружился с Розетт? Хотя Розетт уж точно заторможенной не назовешь. Впрочем, она, безусловно, не такая, как все; особенный ребенок, как любит говорить Каро Клермон. Возможно, если у нее появится дружок-ровесник, это поможет ей нормально развиваться. Я уже собрался спросить у Розетт, как она относится к появлению у нее земельной собственности, но тут на дальнем конце дороги показалась Мишель Монтур. Увидев нас, она крикнула громко и раздраженно:
– Янник! Чем ты там занимаешься?
Мальчик резко повернулся и, сунув мне в руки банку с вареньем, прошептал:
– Пожалуйста! Только маме ничего не говорите! Пожалуйста! – И с этими словами он нырнул в те же кусты, из которых только что появился; Розетт мгновенно последовала за ним, и вскоре оттуда вновь послышался знакомый галочий клич – дети явно удалялись в глубь леса.
А через минуту меня настигла Мишель Монтур. Туфли на высоком каблуке, брючки, явно сшитые на заказ, безупречно чистая белая шелковая блузка – по-моему, не слишком подходящий для переезда наряд. Она не смогла скрыть гримасу раздражения, увидев у меня в руках банку с вареньем.
– Это мой сын стащил? – спросила она напрямик.
Ах, отец мой, в стратегическом плане маленькая ложь, по-моему, предпочтительней необходимости подставить чью-то душу под удар греховного гнева. И потом, Янник смотрел на меня с таким отчаянием…
– Ах, это? – Я слегка приподнял банку. – Нет-нет, это… э-э-э… один из прихожан мне в подарок принес.
– В подарок? – с изумлением переспросила Мишель Монтур.
– Ну, с его стороны это, честно говоря, была скорее жертва. Видите ли, во время Великого поста некоторые с трудом способны противостоять соблазнам. Вот он, мой прихожанин, и решил, что лучше ему совсем… э-э-э… избавиться от…
Мишель Монтур насмешливо фыркнула. Потом довольно резко заметила:
– Мой сын страдает чрезмерным аппетитом и склонен к перееданию. Это медицинский диагноз, между прочим. За этим приходится строго следить. А если не следить, то Янник так и будет непрерывно есть, что очень вредно, ибо наносит ущерб не только внешнему виду, но и здоровью. Тут непременно нужна строгость.
– Ясно. Вам, должно быть, непросто это дается.
– Ах, отец мой, вы просто не можете себе представить!
– Так вы поэтому его из школы забрали?
Она поджала губы и сухо ответила:
– У сына есть и другие… проблемы. Поведенческого и социального характера. Мы с мужем решили, что лучше перевести его на домашнее обучение.
– Ясно, – кивнул я.
Да, мне все было ясно. Мишель Монтур невероятно тщеславна. То, что у нее такой «неудовлетворительный» сын, должно быть, сильно ее раздражает. Именно поэтому она и не рассказывает о нем своим друзьям; поэтому и я лишь сегодня впервые за два года его увидел. Чувствовалось, что Мишель ужасно хочется хвастаться достижениями сына, его успехами в учебе и спорте, его должным вниманием к матери. А вместо этого она вынуждена постоянно жертвовать собой во имя материнства – учить сына дома, бороться с его болезненными склонностями, терпеть и страдать. Это ее озлобило, однако мне она рассказывала об этом с привычным видом кроткой жертвенности. Мне эта маска хорошо знакома, я не раз видел ее, например, на лице Каролины Клермон, в голосе которой звучали те же нотки: Отец мой, я стараюсь не жаловаться. Материнство – мой крест, мне его и нести; но никто не знает, отец мой, – только не подумайте, что я жалуюсь, – как я страдала все эти годы, сколько я вынесла! Никто, кроме вас. Просто не знаю, что бы я делала без вашей помощи и поддержки, отец мой. На самом деле никакой особой помощи и поддержки я ей не оказывал, но приходилось прикусить язык и слушать. Для Каролины Клермон исповедь – это скорее способ выставить напоказ свои горести и переживания, а не получить отпущение грехов. У Мишель Монтур примерно тот же пассивно-агрессивный стиль поведения, только у Каро Клермон это проявляется в тусклом, постепенно слабеющем голосе, что практически полностью истощает запас моего терпения, тогда как у мадам Монтур голос звучит громко, и в нем явственно слышны воинственные нотки.
Метнув крайне неодобрительный взгляд на полупустую банку с вареньем, она заявила:
– Некоторые легковерные люди, отец мой, просто не желают верить, что мой сын Янник страдает врожденным недугом. И позволяют ему клянчить у них еду. А некоторые даже сладостями угощают. И становятся соучастниками тех преступлений, которые он совершает против себя самого. Надеюсь, отец мой, если вы станете свидетелем чего-либо подобного, то сумеете это пресечь?
– Ну, разумеется! – Я чувствовал, как пылают мои щеки. – Я, безусловно, сразу это пресеку, мадам Монтур! – И я, высоко подняв голову и по-прежнему держа в руках дурацкую банку, поспешил покинуть поле боя, сопровождаемый насмешливым стрекотанием сороки. Эти птичьи кличи преследовали меня все время, пока я шел вдоль зеленой изгороди из боярышника; а еще я постоянно слышал чьи-то шаги – одни совсем легкие, а вторые очень тяжелые, – но делал вид, что ничего не слышу. Банку с вареньем я оставил на стене в начале улицы Вольных Горожан и даже оборачиваться не стал, чтобы посмотреть, кто это там шуршал за зеленой изгородью. Я обернулся, лишь подойдя к своему дому, но двухлитровая банка с вареньем уже исчезла.







