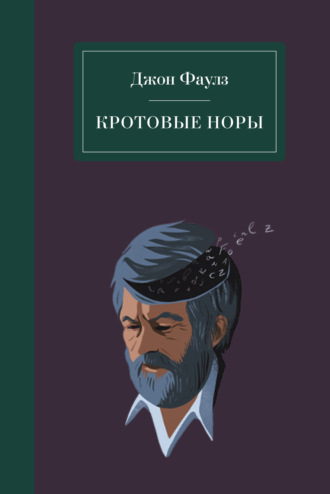
Джон Фаулз
Кротовые норы
II. Культура и общество
Быть англичанином, а не британцем (1964)
Посмотри, как образна, как богата воображением английская поэзия. Но кто когда-либо слышал из уст англичанина: «Как богаты воображением англичане!»
Майкл Маклайаммойр[202]
Вот уже лет десять меня преследует мысль, как же трудно определить самую суть того, кто я есть, хотя не по собственному выбору: я – англичанин. Сразу же следует сказать, что «быть англичанином» – довольно нечеткий образ бытия. Немногие из нас могут похвастаться чисто английскими предками, и тем не менее «английскость» – это нечто большее, чем результат жизни, прожитой главным образом в Англии. По собственному разумению я бы определил это так: чтобы быть англичанином, нужно, чтобы по меньшей мере двое из четырех твоих дедов и бабок были англичанами, чтобы хоть половину жизни ты прожил в Англии, чтобы образование ты получил в Англии и – разумеется – чтобы твоим родным языком был английский. Но более всего, как я полагаю, это означает признание и приятие тобой, на любом социальном уровне, недостатков и достоинств специфических форм английскости, о которых пойдет речь в этих заметках.
Все чаще и чаще я воспринимаю свое «британство» как поверхностное преобразование моей фундаментальной английскости, новый фасад, неуклюже приляпанный к гораздо более старому зданию. «Британия» – паспортное слово, удобное организационно и целесообразное политически. Во всех ситуациях личного порядка, важных мне самому, я – англичанин, а не британец; и «Британия» представляется мне теперь, когда я ретроспективно вглядываюсь в нее, словом-лозунгом, оказавшимся наиболее полезным нам, когда наш исторический долг требовал, чтобы мы стали мощной военной державой, и патриотизм был для этой цели весьма существенной эмоциональной силой. Британец периода расцвета империи всей душой верил, что Британия есть и должна быть сильнее любой другой страны мира, однако истинный англичанин никогда от души в это не верил. Его губительным идеалом всегда был и остается идеал полуплатонический: жить в самой справедливой стране в мире. Не в самой сильной.
Этот губительный идеал кроется также – по вполне очевидным историческим причинам – и в самой сердцевине существования Америки. Война 1775–1781 годов[203] шла между английским стремлением к справедливости и британским требованием беспрекословного подчинения; и действительно, величайшим в наше время выражением этого английского стремления к справедливости стала Декларация независимости. Однако озабоченность георгианской, а затем и викторианской Британии (а ныне и Америки XX века) созданием военной, империалистической – или криптоимпериалистической – мощи может быть хотя бы отчасти оправдана тем фактом, что англосаксы, как известно, традиционно практичны и прагматичны: мы всегда полагаем, что потенциально самая справедливая страна в мире, изобилующем потенциально несправедливыми странами, способна выжить только тогда, когда она достаточно сильна, чтобы сдерживать дракона. Недаром ведь наш святой покровитель и заступник – святой Георгий.
Шовинизм, природная агрессивность, способность наслаждаться запугиванием других, несомненно, играют некоторую роль в нашем восхищении силой и властью. Но лучшие представители английской и американской политической мысли всегда признавали, что это стремление к силе и власти по сути своей есть стремление к единственному – в нашем-то несовершенном мире – средству достижения справедливой цели; в их наилучшем выражении и сама идея, и историческая реальность Британии оказались проявлением этого стремления.
Неспособность признать этот последний мотив – один из величайших недостатков марксизма. Если бы мы верили только в силу и власть – силу и власть как самоцель, – тогда англосаксонский капитализм и в самом деле нес бы в себе семена своей собственной гибели. Но поскольку в действительности то, к чему мы стремимся, чего пытаемся достичь посредством силы и власти, – это справедливость, наш капитализм излечим, он может быть преобразован. Он обладает собственной самокорригирующей диалектикой, в нем есть весьма внушительные противоположности самому себе, такие, например, как свобода слова и все существующие гарантии защиты личности, характерные для нашего права, и доказательство его способности транспонироваться в лучшую тональность ясно видится в таких недавних достижениях, как государство всеобщего благосостояния[204] и «Новый курс»[205]. Короче говоря, грязные английские средства всегда в конце концов получают отличную возможность очиститься изнутри благодаря добродетельности английских целей.
Вот это очищение и прямо-таки пуританская увлеченность идеей справедливости и есть для меня квинтэссенция английскости. Это объясняет, почему большинство других народов так любит нас всех в целом и так не любит каждого по отдельности. Мы, хочешь не хочешь, стоим за что-то хорошее, но, подобно всем тем, кто твердо стоит за что-то хорошее, мы не так уж приятны в общении с остальным человечеством. Более того, несколько перехлестывая с «правилами честной игры», мы позволили остальному миру отыгрываться на нас за то, что мы так ужасающе, так фригидно справедливы, подобны Минерве[206].
Другие народы тратят уйму времени, идентифицируя себя и друг друга. Однако все соглашаются с тем, что англичанам нужна не столько идентификация, сколько реконструкция. Один из самых первых иностранных джентльменов, составлявших о нас отчет, заметил с ухмылкой, что мы суть «non Angli, sed angeli»[207] – то есть, иными словами, ханжи все до единого и очень мало подходим для приличной неанглийской компании. Однако я думаю, что главное наше преступление в глазах иностранцев то, что мы как раса не просто высокомерно справедливы, но к тому же по сути своей неидентифицируемы – менее всех других европейцев поддаемся определению, хоть и не являемся самыми вероломными из них.
Эта неопределяемость – или противоречивость – отчасти вызвана Великой Английской Дилеммой, а отчасти самой основой механизма английской ментальности.
Великая Английская Дилемма – это расщепленность английской мысли между Зеленой Англией и Красно-бело-синей Британией. Я собираюсь использовать оставшееся пространство этих заметок для того, чтобы попытаться дать определение этим двум полюсам.
Веками англичанам приходилось мириться с агрессивным национализмом трех остальных четвертей, составляющих вместе с ними Соединенное Королевство. Эти три страны так никогда и не простили Англию за то, что она когда-то их «завоевала»; не простили по той, разумеется, причине, что в тот самый миг, как они это сделают, им придется отказаться от отмщения. Они чувствуют себя счастливее всего, когда работают кулаками, а англичане, как хорошо известно любому исследователю феномена самобичевания, в свою очередь чувствуют себя счастливее всего, когда их молотят кулаками. Британия внутри себя существует за счет некоего симбиоза нелюбви и готовности быть нелюбимой.
Как ни оправданна может быть нелюбовь кельтов к нам, нелюбовь эта всегда оказывается им так или иначе выгодна. Всякий шотландец, желающий править, всякий ирландец, желающий сатирически высмеять, всякий уэльсец, желающий петь, – короче говоря, всякий охотник до денег и славы – обрушивается на Лондон, и, если хоть самую малость знает свое дело, щедро вознаграждается. Вдобавок он может столь же щедро вкусить от английских идеалов и ими заразиться, но создается впечатление, что на такой риск каждый идет весьма охотно. Эта многовековая узурпация неангличанами функций правления, критики и развлечения Англии есть результат еще одной типично английской черты – любви к третейскому судейству, то есть стремления утвердить некие принципы, а затем наблюдать, как другие им следуют. Британию можно было бы (в порядке рабочей гипотезы) определить так: кельтский гений и любовь к действию, явленные на поле высочайших английских принципов.
Я ни в коем случае не сторонник Малой Англии. Совершенно очевидно, что человек есть существо федеративное, а права государств в процессе эволюции становятся делом все более безнадежным. Породнение отдельных стран, слияние их в блоки зашло уже довольно далеко, а в Соединенном Королевстве только горстка лунатиков в кельтской ночи по-прежнему задает кошачьи концерты, требуя самоуправления. Пришло время, когда стало административной и политической необходимостью говорить о том, быть ли нам британцами, и мучительная переоценка статуса мировой державы, которую нам – англичанам-британцам – пришлось пережить после 1945 года, фактически позволяет нам теперь снова стать в гораздо большей степени англичанами. Другие три страны всегда брыкались, не желая применять к себе понятие «британец», и, поскольку это мы несем ответственность за возникновение самой идеи, мы вот уже много лет всерьез относимся к ответственности за ее дальнейшую судьбу. Мы всегда чувствовали, что обязаны показать другим, как быть британцами, и это обострило нашу, теперь уже утратившую злободневность, шизофрению.
Шотландцы, уэльсцы и ирландцы не более (но и не менее) англичане, чем австралийцы или американцы. В Соединенном Королевстве просто имеются дополнительные факторы географической близости и совместных институтов, только и всего.
Нам приходится быть британцами, а мы хотим быть англичанами. Мы так эмоционально воспринимаем, например, распад империи или нашу помолвку с Европой, и все это идет настолько вразрез с нашими партийными и классовыми устремлениями именно потому, что наша английскость все еще борется с нашей британскостью. Та же амбивалентность уже давно проявляется и в нашей литературе.
Что же такое – Красно-бело-синяя Британия? Это Британия Ганноверской династии и викторианского и эдвардианского веков, Британия империи, Деревянных стен и Тонкой Красной линии, гимна «Правь, Британия» и воинственных маршей Элгара[208], Британия Джона Буля, Пуны[209] и Соммы[210], старой системы закрытых школ с розгами и мучительством младшеклассников старшими, Британия Ньюболта[211], Киплинга и Руперта Брука, клубов, кодексов чести и конформизма, неизменяемого status quo, островного шовинизма внутри страны и высокомерия за ее пределами, Британия paterfamilias[212], каст, лицемерных речей и ханжества. Ни в одной из крупных политических партий умеренное большинство уже не поддерживает концепцию имперской Британии, Британии-где-никогда-не-заходит-солнце – концепции, которая по меньшей мере лет двадцать как застряла где-то в прошлом. Но она создает некое «послесвечение», часто пронизывающее наши настроения, вызывая ностальгию; она препятствует настоящему и, что хуже всего, все еще затмевает Зеленую Англию.
Мне думается, у Зеленой Англии есть две главные составляющие, и обе они объясняют наше маниакальное стремление к справедливости. Одна из них в равной степени относится и к другим членам Соединенного Королевства: это тот факт, что Англия по существу своему – остров. Мы всегда были народом, который глядит на все с другого, северного берега, занимает позицию позади крикетных ворот. Как со времен Монтескье отмечали многие писатели, место нашей стоянки на земном шаре позволяет нам быть наблюдателями, даже порой – довольно часто – заставляет нас становиться наблюдателями в большей степени, чем участниками происходящего. Кроме того, это в основном позволило нам стать пионерами права и демократии и объясняет по меньшей мере один элемент нашего знаменитого – печально знаменитого – ханжества. Мы нисколько не святее других, просто географически счастливее.
Эта счастливая географическая случайность в единении с манией справедливости может служить еще и объяснением нашей потребности эмигрировать, нашей любви к эмиграции в любых возможных формах: в качестве пионеров, колонистов, мореходов, проконсулов, освободителей (отвергнувших роль пассивного наблюдателя); людей, влюбленных в юг, – как Норман Дуглас[213] и Роберт Грейвс[214]; беглецов от двойных стандартов родной земли, как Байрон, Д. Г. Лоуренс и Даррелл. Причина эмиграции часто могла быть националистической (британской) или индивидуалистической (эгоистичной), но характер эмиграции гораздо больше зависел – и до сих пор зависит – от ее английскости (то есть распространения и поддержания нашей концепции справедливости), чем от ее британскости (то есть стремления распространить и поддерживать имперские идеалы, идеал господства одной расы над другими) или даже от ее индивидуалистичности (то есть просто желания жить за границей).
Другая и гораздо более специфическая составляющая Зеленой Англии – это пережиток в английском мышлении примитивной, но могущественной архетипической концепции Справедливого Разбойника. Справедливый Разбойник – предок Доброго Третейского Судьи. Это человек слишком эмпирический, слишком независимый и слишком способный объективно сравнивать, чтобы жить с несправедливостью и ее сносить. Робин Гуд для Зеленой Англии то же, что Джон Буль для Красно-бело-синей Британии.
Весьма симптоматично для той мертвой хватки, в которой Британия зажала воображение англичан, что Робин Гуд сегодня сведен на уровень сюжета для комиксов и детских телевизионных сериалов, вместо того чтобы стать первейшей вдохновляющей идеей для истинно английского гения уровня Бриттена, Осборна[215] или Нолана[216]. Но эта неспособность разглядеть, чем должна была бы стать для нас легенда о Робин Гуде, возникла далеко не сегодня. В руках Ритсона[217] и Перси[218] в весьма интенсивно британском XVIII веке Робин Гуд стал фигурой из выспренних баллад, кастрированным ближайшим родственником сегодняшней картонной вырезалки с коробки овсянки для завтрака. И все же эта легенда – единственная национальная легенда, которую знали каждый англичанин и каждая англичанка, начиная по меньшей мере с 1400 года. Существует лишь одна столь же повсеместно известная история: история Христа, – и я полагаю, что робингудизм есть практическое пресуществление назареянского христианства, вера в то, что жизнь слишком коротка, чтобы в одиночку нести ту самую, уставшую от ударов, другую щеку.
Кем был Робин Гуд, что он в действительности делал в густом и темном подлеске истории, не столь важно. Важно то, кем его сделала народная история. Он человек, который, встав перед выбором – смириться с несправедливостью или уйти в леса, – всегда ищет убежища среди деревьев.
Робингудизм по сути своей есть критическая оппозиция, не удовлетворяющаяся бездействием.
Робин Гуд перестает быть Робином Гудом, как только выходит из-под деревьев примирителем или победителем (подобно Фиделю Кастро). Сущность Гуда в том, что он бунтует, а не властвует. Он есть противодействие, а не пассивное утверждение чего бы то ни было.
С 1600 года деревья и леса в Англии безостановочно исчезают. Все, что у нас осталось, это там и сям уцелевшие призраки былой реальности – заросшей лесами страны, где белка могла промчаться от Северна до Уоша[219], ни разу не коснувшись земли. А что же сделали мы? Мы перенесли Англию лесов в наши мысли. Наша каждодневная рутина, наши лица, социальные установления и условности – почти все это внешнее в нас, ставшее пленником нашего извечного врага – ноттингемского шерифа (власти то бишь); но мысли наши по-прежнему обращены к лесу и помогают нам – каждому по-своему – оставаться в самой английской нашей сути Справедливыми Разбойниками.
Процесс этот может вызвать – и вызывает – нарекания. Испытывающие к нам давнюю неприязнь чужестранцы, такие как французы и шотландцы, конечно, разглядят еще один источник нашего ханжества в привычном нам исчезновении, уходе в метафорические зеленые леса, в способности укрыться за маской, симулирующей согласие, когда мы не согласны, улыбаться, когда мы испытываем ненависть, говорить нечто абсолютно противоположное тому, что мы на самом деле имеем в виду.
Однако тот же самый отроду укоренившийся обычай уходить, отходить в сторону – основной механизм нашей ментальности – позволяет нам быть самыми самокритичными людьми в мире, самыми сознательными и чуть ли не самыми терпимыми. В какой-то степени то, от чего мы отстраняемся, есть всегда тот аспект нашей сути, та компрометирующая нас публичная репутация, что мы – отчасти из-за личной лености, отчасти в силу исторических и социальных обстоятельств – сдались на милость ноттингемского шерифа. Мы – англичане – суть прежде всего Справедливые (или по справедливости оправданные) Разбойники, противостоящие определенной части самих себя и только потом уже – всем другим.
Характерным примером здесь может служить гиперангличанин Макс Биэрбом[220], неустанный разоблачитель и ниспровергатель авторитетов, таких как королевская семья, Киплинг, Шоу, Уэллс; критик всех и всяческих – с точки зрения истинного приверженца Зеленой Англии – форм британской вульгарности. Но, прожив долгие годы в Рапалло, Макс не утратил горячей любви к Англии и не перестал быть англичанином: к примеру, он никогда карикатурно не изобразил ни одного итальянца. Макс, конечно, был денди с присущими денди недостатками, однако он принадлежал к той линии, что тянется через Роулендсона[221] и Гиллрея к Свифту (самому английскому ирландцу из всех когда-либо живших на свете) и которая сегодня с наибольшей очевидностью продолжается в Кингсли Эмисе. Главное – сохранить Англию и английскую справедливость суждений в чистоте, то есть независимыми, непретенциозными, непредубежденными, неимперскими – одним словом, небританскими. У Макса и Кингсли Эмиса (как и у бесчисленных других крупных и некрупных английских художников и писателей) мы видим все ту же озабоченность, которая и способствует, и мешает их творчеству, ведя порой к триумфам, а порой к провалам: как быть строго критичным, не впадая в претенциозность. Иными словами, как судить, не вызывая ответного осуждения. Разумеется, это проблема из разряда неразрешимых; но столь свойственная ей неразрешимость, возможно, и создает то напряжение, что кроется в самом сердце нашего искусства, в лучших его образцах.
Разумеется, уход в сторону – тоже движение, но вовсе не обязательно проявление высокой морали; очень многие из наших наименее привлекательных черт и порождаются той легкостью, с которой нам удается роль Чеширского кота – тысячеликого Счастливчика Джима. В идеальном виде робингудовский «уход в леса» предпринимается для того, чтобы собрать силы и восстановить справедливость – pour mieux sauter[222]. А на деле это может быть просто для того, чтобы наблюдать несправедливость из безопасного укрытия – из-под деревьев. Так мы каждый год слышим о преступлениях, которые могли бы предотвратить прохожие или те, кто случайно видел происходящее. Десять человек видят, как кто-то тонет, – ни один не примется действовать. И вовсе не из трусости: из-за того, что они – англичане.
Совесть англичанина слишком часто удовлетворяется актом внутреннего неодобрения: наше национальное заблуждение заключается в том, что такой акт что-то действительно значит. Мы страдаем чем-то вроде вялости этики, некоего морального запора. Огромное значение придается нашей любви к традициям, нашей нелюбви к новациям, но значительная доля нашего отношения к событиям, которые впрямую нас не затрагивают, на самом деле есть самое обыкновенное равнодушие, убежденность в том, что раз мы – молча – уже вынесли о них свое суждение, мало что можно сказать в пользу произнесения этого суждения вслух, в пользу реального действия. Наша столь блистательно высмеиваемая любовь к беседам о погоде с малознакомыми людьми – это просто нелюбовь к беседам с малознакомыми людьми о чем-либо более серьезном, по большей части из-за того, что такая беседа может открыть чужаку наше тайное убежище в лесу. Невозможно проникнуть в штаб-квартиру Робин Гуда, не предъявив надежных верительных грамот – убедительных доказательств дружбы или, на худой конец, вражды.
Характерный пример такой решимости уходить в сторону можно видеть в уикемистском взгляде на жизнь – «умение вести себя делает человека человеком». «Уикемист»[223] (а такие найдутся в любой социальной группе) выказывает весьма типичное и несколько глуповатое раздражение, если его вынуждают достаточно эмоционально выразить собственное мнение, что казалось бы совершенно нормальным у представителя любой другой расы; он не просто почитает, он создает себе кумира из здравого смысла и невмешательства, он всегда сумеет увидеть хорошую сторону в плохом («Если человек хочет принимать наркотики, что в этом такого?»), а любое эмоциональное выражение мнения с чьей-либо стороны немедленно вызовет у него сильнейшее подозрение, а то и враждебность.
Большинство англичан (опять-таки на всех социальных уровнях, хотя средний и высший подвиды более всего в этом повинны) получают острейшее удовольствие от того, что они – англичане, то есть эксперты в деле ухода в сторону. Ничто не может быть нам приятнее, чем не сказать того, что мы на самом деле думаем. Есть несколько способов играть в нашу излюбленную игру «вождение чужаков за нос». Мы высказываем мнения, в которые сами не верим. Мы отрекаемся от тех, кого на самом деле поддерживаем. Мы молчим в ответ на просьбы высказать свое мнение. Мы уклончивы, когда нас побуждают к чему-то. Мы сознательно высказываемся туманными намеками и невразумительными обиняками (таков наш «дар» компромисса). И все это время мы не перестаем наблюдать, как наши собеседники теряются, безнадежно заблудившись среди деревьев, как они, спотыкаясь, бросаются вслед за эхом то в одну сторону, то в другую или принимаются стрелять по теням, и в конце концов в девяти случаях из десяти дело кончается новым острым приступом англофобии. (В десятом случае они получают документы о натурализации и становятся еще более искусными в этой игре, чем мы сами, – что со всей очевидностью доказывают Конрад, Генри Джеймс и T. С. Элиот.) Время от времени кто-нибудь из них натыкается на нас настоящих, и наша злобная ненависть к королевской власти, или к рабочему классу, или к охоте на лис, или к противникам охоты на лис, или к чему бы то ни было вообще, наши страстность и энтузиазм в пристрастиях и антипатиях глубоко их потрясают и обычно вызывают чувство обиды. Это потому, что скрытый смысл нашей изворотливости, как и той, другой, скрытой нашей жизни, не так уж трудно обнаружить. Мы играем в эти игры с чужаками потому, что не испытываем доверия ни к обычной обстановке социального общения, такой как обед или вечеринка с коктейлями, – как месту для серьезного разговора, ни (хуже того) к способности других людей обсуждать что-либо всерьез.
Наш протестантизм, наш нонконформизм есть, разумеется, производная от нашей концепции Справедливого Разбойника, до той степени, что социализм становится результатом инакомыслия, выражаясь в реформах, чартизме, брэдлоизме[224], тред-юнионизме и проч., и проч., так что вполне очевидно, что движение вигов-лейбористов-демократов более близко и характерно (или было более характерным) для Зеленой Англии, чем движение тори-консерваторов-республиканцев, для которого характерна (или была характерна) враждебность к переменам в status quo. (Мы вполне очевидно достигли такой исторической точки, когда становится трудно определить, не слишком ли быстро идет наше развитие в некоторых областях; короче говоря, прогресс не обязательно может быть прогрессом.) Но, как только инакомыслие любого толка приходит к власти, оно превращается в Робин Гуда, вышедшего из-под деревьев, и где-то вновь новые Робин Гуды, которых создает новая власть, будут уходить в леса.
Ничто из сказанного мною до сих пор не может характеризовать англичан (если не считать случайных примеров справедливости, которой они порой добиваются) иначе как старых, резонерствующих и лживых людей, то есть именно таких, какими и хотят видеть всю нашу расу некоторые иностранцы. Все это вовсе не объясняет наших достижений в искусстве, особенно в поэзии; не объясняет и многих черт, которые проявляются истинными англичанами наедине с самими собой – среди дерев, – тех черт, которых не может игнорировать ни один серьезный наблюдатель, в отличие от наблюдателей поверхностных, совершающих эту ошибку. Я имею в виду такие хорошие и плохие вещи, как богатство нашего воображения, чувство юмора, меланхоличность, холерический темперамент, чувство горечи, сентиментальность, собственнический инстинкт, нашу искренность, чрезмерную и осложненную сексуальность, способность глубоко погружаться в личные переживания – все характерные черты, как можно заметить, нашедшие свое выражение в одном из самых откровенно английских документов – в сонетах Шекспира.
Истина, конечно, заключается в том, что Зеленая Англия – концепция гораздо более эмоциональная, чем интеллектуальная. Глубоко-глубоко в лесах наших душ все еще живут тайны, и люди в зеленом пляшут, охотятся и бегут. А с точки зрения современной психологии приверженность к Зеленой Англии сказывается в нашей склонности к уединению, в переживании своих эмоций, стремлений, желаний, своих излишеств и экстазов вдали от всех, в четырех стенах, за семью замками, в укрытии сегодняшнего кодекса кодексов – «корректного» поведения в обществе. Во всех происходящих у нас громких судебных делах и скандалах нас более всего возмущают не факты, относящиеся к делу, но сам факт существования такого дела. То, что очередной Пальмерстон[225] совершает скрытно, хотя это всем известно, ровно ничего не значит, но то, в чем публично изобличают Профьюмо[226], значит очень много, практически все. На свету, на поляне, в нелесу мы становимся конформистами, чопорными и холодными, говорим штампами, во тьме и уединении мы эксцентричны, романтичны и творим новые слова.
Несмотря на то что свидетельства существования этого другого мира видны повсюду в нашем искусстве и в наших зрелищах, мало кто из иностранцев когда-либо смог по-настоящему понять, что мы, в большей степени, чем многие другие расы на земле, проживаем две разные эмоциональные жизни одновременно: одна проходит на глазах у ноттингемского шерифа, другая – с Робином, под древом зеленого леса. Никакая другая раса не может (или, по всей вероятности, не хочет) осознать, какое наслаждение доставляет дополнительность этих двух способов существования, эта наша наркотическая потребность в таком напряжении, в сохранении в неприкосновенности двух таких противостоящих друг другу миров – серого и зеленого.
В искусстве художников Зеленая Англия по-разному присутствует в творениях Хогарта и великих карикатуристов, у Блейка, Констебля, Бьюика, Палмера, Тернера, Сазерленда, у Нэшей и Бэкона; она звучит в народной музыке, в музыке Элгара (разрывающегося между «Британией» и «Англией») и очень чисто – у Бриттена[227], ярко и буквально выражена в «Геликоне Англии»[228], у Клэра, Джеффериса, Гарди, Хадсона, метафорически – у Филдинга, Смоллета, Джейн Остин, у сестер Бронте, Лоуренса, Форстера[229], блестяще и глубоко в странном творении Поляка[230] «Сердце тьмы» – более английском, чем удалось бы просто англичанину.
В философии это у нас выражается в эмпиризме, в нетерпимости к метафизике, в том, что мы предпочитаем логический позитивизм воздушным замкам. В праве – в нашей сложной системе гарантий защиты личности от несправедливости государства.
Многое в Новой Англии унаследовано от Англии Зеленой: это видно у Торо и Готорна[231], у Эмили Дикинсон[232], в «Билли Бадде[233]». Марк Твен тоже был наделен весьма характерной ненавистью к претенциозности, высокомерию, зазнайству, излишествам всякого рода. Даже герой Дикого Запада – человек, в один прекрасный день вынужденный взять закон в собственные руки, есть прямой потомок Робин Гуда.
Зеленая Англия – буквально зеленая в наших ландшафтах. В настоящий момент эта ее зеленость не очень-то в моде: нас гораздо больше влекут обжигающие скалы юга и еще более – обжигающий, черный, цинический опыт континентальной Европы. Но выбора у нас нет. Англия – это зелень, вода, плодородие, неопытность, это в большей степени весна, чем лето. Ни исторически, ни психологически мы не можем быть циниками, шпенглерианцами, квиетистами или мучениками; ни одна раса, сумевшая превратить мейозис[234] в столь высокое искусство, не может искренне верить в то, что этот мир – самый худший из всех возможных миров. Разумеется, он вовсе не абсолютно самый лучший, но и так сойдет. А наше дело – справедливо его реформировать или хотя бы добиться, чтобы справедливые реформы были возможны в будущем.
Англичанина из Зеленой Англии, таким образом, отличает прежде всего эмоциональная наивность и моральная восприимчивость. Из-за этого любой англичанин, путешествующий за границей, должен порой чувствовать себя словно подросток среди взрослых. Хорошо нам подсмеиваться над политической коррупцией, тоталитаризмом, неуплатой налогов, демагогией и прочими грехами, переходящими у иностранцев из поколения в поколение; но ведь за этой усмешечкой, за маской видавшего виды скептика – Робин Гуд, скрывающийся в нас, вечно стремится в леса. Мы презираем чувство тошноты, которое вызывают в нас деяния римлян в Риме, мы ненавидим этот наш слабый желудок, эту слабую голову, что не выносит высот несправедливости и беззакония. Но от этого никуда не денешься – в этом наше главное достоинство и наша уязвимость.
Мы – природные распространители справедливости; для ноттингемских шерифов мы являемся чем-то вроде расползающейся сухой гнили в здоровом и крепком доме укоренившейся несправедливости. Мы способны вызывать такое же раздражение у чужаков, какое, должно быть, вызывал у афинян Сократ с его своеобразным юмором, острым чутьем на лицемерие, с его постоянными каламбурами и отказом говорить так, как положено говорить герру доктору философии, а ведь они – афиняне – просто хотели и дальше жить той жизнью, к которой привыкли, такой, какой она была всегда. И только в одном мы можем считать себя совсем взрослыми (в моральном суждении), но именно этого миру от нас и не нужно, хотя мы должны постоянно требовать этого от мира. Да, мы – резонеры, но мир закрытых и закрывающихся обществ отчаянно нуждается в своих резонерах.
Мы глядим дальше закона, глубже права. Мы знаем, что справедливость всегда больше права и глубже права: глубже в определениях, глубже в применении на практике и глубже в нашей истории. Такова зеленая суть нашего развития. Мы обречены оставаться зелеными – во всех смыслах этого слова.







