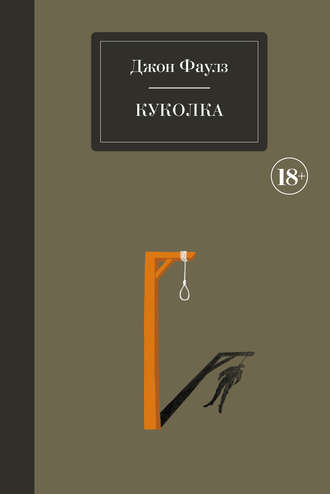
Джон Фаулз
Куколка
Не скрывая сардонической усмешки, мистер Бартоломью откинулся в кресле:
– А ну как я из числа северных мятежников, да? Этакий Болингброк. Вон и бумаги исполнены тайнописью либо все по-французски да по-испански. Поди, я в заговоре с лазутчиком Якова Стюарта.
На миг актер смешался, словно его тайные мысли были угаданы.
– Аж кровь стынет, сэр.
– Взгляни, тут и впрямь какая-то шифра.
Актер взял листок, но тотчас поднял взгляд:
– Ничего не разберешь.
– Не колдовская ль тут магия? Что, если я забрался в трущобу, дабы свидеться с выкормышем Аэндорской волшебницы? Видно, хочу обменять свою бессмертную душу на тайны загробного мира. Так сгодится?
Лейси вернул бумагу:
– Вам бы все шутки шутить, да только сейчас не время.
– Так перестанем молоть вздор. Я не причиню зла ни королю, ни державе, ни единому ее подданному. Ни тело, ни душа мои не пострадают. Разве что рассудок, но тут уж каждый сам волен. Возможно, я гонюсь за глупой несбыточной мечтой. Тот, с кем я ищу встречи… – Мистер Бартоломью осекся и бросил бумаги на столик. – Не важно.
– Сей человек в бегах?
– Больше ни слова, прошу тебя.
– И все ж, зачем понадобилось меня обманывать, сэр?
– Странно сие слышать из твоих уст, мой друг. Разве не ты посвятил свою жизнь обману?
От подобного выпада актер слегка опешил. Молодой джентльмен шагнул к огню и продолжил, не глядя на Лейси:
– Но я отвечу. Жизнь моя предопределена с самого рожденья. Все, что я сказал об своем мнимом отце, справедливо для моего истинного папаши. Больше того, он старый дурак, породивший моего старшего брата. Как и тебе, мне предложена роль в пьесе, но отказаться от нее нельзя. Отметь разницу между нами. Коль откажешься играть, ты теряешь лишь деньги. Я ж теряю… неизмеримо больше. – Мистер Бартоломью повернулся к актеру. – У меня нет иного выбора, кроме как действовать украдкой. Вот и теперь я должен таиться от тех, кто заставляет меня плясать под свою дудку. Довольно. Больше ничего не скажу.
Лейси пожал плечами и кивнул, будто смиряясь с неведением.
– Завтра выедем вместе, но вскоре расстанемся. – Голос молодого джентльмена был ровен, взгляд прям. – Вы с напарником отправитесь по дороге, что ведет в Кредитон и Эксетер. Скачите во весь дух. Из Эксетера вернетесь в Лондон когда и как вам угодно. От вас требуется одно: сохранить в тайне все, что касается меня и нашего путешествия. Как условились.
– Разве девица не с нами?
– Нет.
– Я должен вам кое-что сказать. – Лейси помялся. – Джонс, то есть Фартинг, уверяет, что прежде ее встречал.
Мистер Бартоломью отвернулся к огню. Повисло молчание.
– Где?
– На входе в бордель, сэр. – Актер сверлил взглядом спину собеседника. – Мол, ему сказали, там она служит.
– Что ты ответил?
– Дескать, не верю.
– Молодец. Он ошибается.
– Однако, по вашему признанью, она и не горничная. Полагаю, вы знаете, что слуга ваш совсем ошалел. Фартинг же об том и поведал. Парня не отшили. – Актер запнулся. – По ночам он к ней шастает.
Мистер Бартоломью одарил его долгим взглядом, будто услышал дерзость.
– Разве мужу зазорно спать с женой? – саркастически усмехнулся он.
И вновь вопрос застал актера врасплох. Он потупился:
– Как угодно. Мое дело уведомить.
– Не сомневаюсь в твоих благих намереньях. Завтра мы все уладим и распрощаемся, но сейчас позволь поблагодарить тебя за содействие и терпенье. Я редко сталкивался с вашим братом. Ежели все актеры подобны тебе, я много потерял. Хоть я не заслужил твоего доверья, в сем прошу мне верить. Как жаль, что мы не встретились в более удачных обстоятельствах.
Актер ответил грустной ухмылкой:
– Надеюсь, еще встретимся, сэр. Помимо страхов вы разожгли во мне дьявольское любопытство.
– Первое отринь, второе угомони. По правде, все это лишь выдумка, сродни твоим пьескам. Но ведь и ты, при всей охоте знать, что будет дальше, не станешь представлять последний акт прежде первого. Так оставь и мне мои загадки.
– В моих пьесах финал известен, сэр. Его не утаишь.
– Я не могу огласить свой, ибо он еще не написан. Вот и вся разница. – Мистер Бартоломью улыбнулся. – Покойной ночи, Лейси.
Актер потоптался, будто хотел еще что-то сказать, но затем отвесил поклон и шагнул к выходу. Открыв дверь, он удивленно замер.
– Здесь ваш слуга.
– Пусть войдет.
Помешкав, Лейси бросил взгляд на безмолвного человека и, коротко махнув рукой, скрылся в темноте коридора.
Войдя в комнату, глухонемой закрывает дверь. Он пристально смотрит на хозяина, который отвечает ему таким же взглядом. Подобный перегляд выглядел бы странно, длись он секунду-другую, ибо слуга не выказывает ни малейшего почтения. Но взгляды скрестились надолго, словно эти двое безмолвно беседуют. Так смотрят друг на друга муж с женой или брат с сестрой, в людной комнате не могущие выразить свои истинные чувства; однако в глазах господина и слуги нет желания чем-то скрытно поделиться или на что-то намекнуть. Они смотрят так, будто перевернули книжную страницу и вместо ожидаемого диалога персонажей или, на худой конец, описания их действий увидали черный лист, а то и печатный брак – отсутствие страниц вообще. Оба молча смотрят друг на друга, точно в зеркало.
Наконец они оживают, как после стоп-кадра. Опустившись в кресло, мистер Бартоломью наблюдает за слугой, который подтаскивает к камину сундучок и, не глядя на хозяина, начинает скармливать красным угольям пачки рукописей, словно это всего лишь старые газеты. Бумага мгновенно занимается, а Дик, присев на корточки, тем же манером избавляется от книг в кожаных переплетах. Одну за другой он достает фолио, кварто и меньшие книжицы, на многих из которых оттиснут золоченый герб, и, раскрыв их, бросает в разгоревшееся пламя. Без видимых усилий две-три книги он рвет пополам, но в основном просто швыряет их в огонь, а затем грубой кочергой подгребает в кучу пухлые тома, что отвалились на сторону и плохо разгораются.
Мистер Бартоломью бросает в камин кипу бумаг со стола и, постояв за спиной сгорбленного слуги, который поверх горящей бумажной груды укладывает пять-шесть поленьев, вновь занимает свой наблюдательный пост. Оба разглядывают небольшое пожарище столь же пристально, как перед тем смотрели друг на друга. По комнате мечутся плотные тени огненных языков, что несравнимо ярче пламени свечей. Мистер Бартоломью заглядывает в сундучок, удостоверяясь, что тот пуст. Похоже, так оно и есть, ибо молодой джентльмен закрывает крышку и опять усаживается в кресло, ожидая финала сего непостижимого жертвоприношения, когда каждая страница и каждый бумажный клочок превратятся в пепел.
Немного погодя, когда сожжение почти завершено, Дик взглядывает на хозяина, и на лице его мелькает тень радостной улыбки того, кто понимает, зачем это сделано. Так улыбается не слуга, а скорее старинный друг или даже подельник в преступлении. Дескать, ну вот, разве не лучше, когда дело спроворено? Ответом ему столь же загадочная улыбка, после которой на мгновенье вновь возникает упорный перегляд. Однако на сей раз мистер Бартоломью его прерывает: из большого и указательного пальцев левой руки он складывает кольцо, которое резко протыкает другим указательным пальцем.
От изножья кровати Дик забирает длинную скамеечку и устанавливает ее в футах десяти перед камином, где еще теплится огонь. Потом раздергивает занавеси балдахина и, не взглянув на хозяина, уходит прочь.
В глубокой задумчивости мистер Бартоломью смотрит на огонь. Он недвижим до тех пор, когда дверь вновь не открывается. На пороге размалеванная девица из мансарды. Она приседает в книксене и неулыбчиво проходит в комнату. Следом возникает Дик; он затворяет дверь и остается возле косяка. Мистер Бартоломью снова отворачивается к огню, будто недовольный тем, что его обеспокоили, затем холодно смотрит на девушку. Он разглядывает ее, точно животное, изучая дымчато-розовый парчовый роб и в тон ему нижнюю юбку, кружевные манжеты рукавов в три четверти, перевернутый конус затянутого в корсет торса, вишнево-кремовый корсаж, веселенький белый чепчик с лентами, обрамляющими весьма неестественного оттенка лицо, и небольшое ожерелье из сердолика цвета запекшейся крови. Возможно, все это мило, однако выглядит жалким и неуместным, словно всю простоту и обаяние подменили искусственностью и претензией. Новое облачение не улучшает, но губит наружность девицы.
– А что, Фанни, не отослать ли тебя обратно к Клейборн? Дабы она высекла тебя за угрюмость твою.
Девушка замерла и молчит, не выказывая удивления, что ее называют иным именем.
– Не для ублаженья ли прихотей моих я нанял тебя?
– Да, сэр.
– Чтоб ты представила похабные шалости, французские, итальянские и прочие.
Девица молчит.
– Стыдливость гожа тебе, как шелка навозу. Сколько мужчин проткнули тебя за последние полгода?
– Не помню, сэр.
– Способы тож запамятовала? Прежде чем мы сладились, Клейборн все об тебе поведала. Французская хворь и та чурается твоей изъязвленной плоти. – Мистер Бартоломью разглядывает девушку. – Пред всяким лондонским соромником ты изображала мальчика. И облачалась в мужское платье, дабы потрафить его похоти. – Взгляд джентльмена неотступен. – Отвечай же: да иль нет?
– Я надевала мужской наряд, сэр.
– За что гореть тебе в геенне огненной.
– Не мне одной, сэр.
– Дважды будешь поджарена, ибо искус – в тебе. Неужто думаешь, что в гневе своем Господь не различит падших и совратителей? Не отделит слабость Адама от злоухищренья Евы?
– Не ведаю, сэр.
– Так знай же. А еще знай, что сполна окупишь потраченные мною деньги, угодно тебе иль нет. Видано ль, чтоб наемная кляча управляла наездником?
– Я исполняла вашу волю, сэр.
– Будто бы. Дерзость твоя неприкрыта, как груди твои. Ужель я настолько слеп, что не замечу тот взгляд твой у брода?
– Так то всего лишь взгляд, сэр.
– А цветочный пучок под носом твоим – всего лишь фиалки?
– Да, сэр.
– Лживая тварь.
– Нет, сэр.
– А я говорю – да. Я прочел твой взгляд и знаю, для чего понадобились зловонные цветки.
– Просто так, сэр. Я ничего не замышляла.
– Клянешься?
– Да, сэр.
– Тогда на колени. Вот здесь. – Мистер Бартоломью показывает на пол перед собой; помешкав, девушка встает на колени, голова ее опущена. – Смотреть на меня.
Взгляд серых глаз впивается в карие глаза на запрокинутом лице.
– Теперь повторяй: я срамная девка…
– Я срамная девка…
– Нанятая вами…
– Нанятая вами…
– Дабы всячески вас ублажать.
– Дабы всячески вас ублажать.
– Я Евино отродье, наследница ее грехов.
– Я Евино отродье…
– Наследница ее грехов.
– Наследница ее грехов.
– Повинна в дерзости…
– Повинна в дерзости…
– От коей впредь отрекаюсь.
– От коей впредь отрекаюсь.
– Клянусь.
– Клянусь.
– Иль гореть мне в аду.
– Гореть в аду.
Мистер Бартоломью долго не отводит взгляд. В его бритоголовой фигуре проступает нечто демоническое – не злость или какое иное чувство, но дьявольски холодное безразличие к женщине, стоящей перед ним на коленях. В нем угадывается доселе скрытая черта его натуры, противоестественная, как напитавший комнату запах горелой бумаги и кожи: садизм (хотя де Саду до своего рождения еще четыре года блуждать по темным лабиринтам времени). Если б кому понадобилось представить пугающий образ бесчеловечности, сейчас он был налицо.
– Отпускаю твой грех. Теперь обнажи мерзкую плоть свою.
Потупившись, девушка встает и начинает распускать шнуровку. Мистер Бартоломью сурово наблюдает из кресла. Девушка чуть отворачивается; затем присаживается на дальний край скамейки, куда сложила одежду, и, сняв подвязки, скатывает чулки. Голая, в одном лишь чепчике и сердоликовом ожерелье, она понуро складывает руки на коленях. В ней нет тогдашней модной мясистости: тело стройно, грудь маленькая, на очень белой коже никаких язв, что давеча поминались.
– Желаешь, чтоб он обслужил тебя?
Девушка молчит.
– Отвечай!
– Томлюсь по вашей милости. Но вам я не угодна.
– Да нет, томишься по его елде.
– То была ваша воля, сэр.
– Чтоб поглядеть, как ты резвишься в блуде, а не воркуешь голубицей. Познав прекрасное, не стыдно ль пасть столь низко?
Молчание.
– Говори!
Набычившись, девушка затравленно молчит. Мистер Бартоломью переводит взгляд на Дика; в глазах того и другого вновь мелькает загадочное выражение, словно они смотрят на пустую страницу. Хозяин не подал никакого знака, но Дик резко выходит из комнаты. Девушка удивленно взглядывает на дверь, однако ни о чем не спрашивает.
Мистер Бартоломью подходит к камину и, сгорбившись, кочергой аккуратно подгребает в огонь уцелевшие бумажные клочки. Затем выпрямляется и смотрит на тлеющие поленья. Медленно подняв голову, девушка разглядывает его спину. Какая-то мысль затуманивает ее карие глаза. Беззвучно ступая босыми ногами, она приближается к бесстрастной фигуре и что-то ей шепчет. О предложении ее догадаться нетрудно, ибо руки ее опасливо, но умело обхватывают талию молодого джентльмена, а обнаженная грудь легонько прижимается к его обтянутой парчовым сюртуком спине, будто на парной верховой прогулке.
Мистер Бартоломью тотчас перехватывает ее руки, не давая им сцепиться.
– Ты глупая лгунья, Фанни. – Голос его вдруг утратил злобную желчность. – Я слышал твои стоны, когда давеча он тебя охаживал.
– То лишь притворство, сэр.
– Однако ж сладкое.
– Нет, сэр. Для вас хочу усладой быть.
Мистер Бартоломью молчит, и девушка вновь пытается его обнять, но теперь он отбрасывает ее руки.
– Оденься. И я скажу, как усладить меня.
– Я всей душою, сэр, – не отстает Фанни. – Так разъярю, что он восстанет, точно жезл, и уж на славу меня отдерете.
– У тебя нет души. Прикрой срам. Прочь!
Девушка одевается; мистер Бартоломью, отвернувшись, в глубокой задумчивости стоит у камина. Одевшись, девушка присаживается на скамейку и ждет; потом нарушает затянувшееся молчание:
– Я оделась, сэр.
Будто очнувшись, молодой джентльмен косится на нее, а затем вновь устремляет взгляд на огонь.
– Когда впервые ты согрешила?
Девушка не видит его лица, но, расслышав в голосе неожиданную нотку любопытства, медлит с ответом.
– В шестнадцать, сэр.
– В борделе?
– О нет. С хозяйским сыном, где была в служанках.
– В Лондоне?
– В Бристоле. Оттуда я родом.
– Он тебя обрюхатил?
– Нет, сэр. Его мамаша нас застукала.
– И дала расчет?
– Шваброй.
– Как оказалась в Лондоне?
– Голод пригнал.
– Ты сирота?
– К родителям дороги не было. Они Друзья.
– Что за друзья?
– Так прозывают квакеров, сэр. Хозяева были той же веры.
Мистер Бартоломью расставляет ноги и закладывает руки за спину.
– Что дале?
– Еще до того, как нас накрыли, дружок мой подарил мне перстенек, который спер из мамашиной шкатулки. Я знала: покража откроется и во всем обвинят меня, ибо сынка никто не очернит. Кое-как сбыла перстенек, приехала в Лондон, нашла место. Думала, свезло. Ан нет – хозяин стал меня домогаться. Пришлось уступить, чтоб не лишиться места. Но жена его обо всем вызнала, и я опять оказалась на улице, где стала б нищенкой, потому как честной работы найти не могла. Чем-то не нравилась я хозяйкам, а нанимают-то они. – Помолчав, Фанни добавила: – Нужда заставила, сэр. Как многих из нас.
– Не всех нужда превращает в шлюху.
– Оно так, сэр.
– Стало быть, ты растленна и похотлива по своей природе?
– Наверное, сэр.
– Значит, родичи были вправе тебя отвергнуть, хоть ученье их ложно?
– По делам моим, сэр. Вышла я кругом виноватая. Хозяйка вопила, что я околдовала ее сынка. Неправда! Он вырвал у меня поцелуй, он украл перстенек, хоть я не просила, он же понудил и к остальному. Отец с матерью слышать ничего не желали – мол, я отринула духовный светоч, я им не дочь, а сатанинское отродье, не дай бог испакощу сестер.
– Что за духовный светоч?
– Христовый свет. Так они веруют, сэр.
– А ты с тех пор не веришь?
– Нет, сэр.
– Не веришь в Христа?
– Не верю, что встречу Его на этом свете, сэр. Да и на том тоже.
– Ты веруешь в тот свет?
– Верую, сэр.
– Который для подобных тебе наверняка будет адом?
– Надеюсь, нет, сэр.
– Сие несомненно, как то, что эти дрова станут золой.
Понурившись, Фанни молчит, и мистер Бартоломью бесстрастно продолжает:
– Как несомненен земной ад, что уготован заветревшейся публичной девке. Ты кончишь сводней иль каргой в богадельне. Ежели прежде дурная хворь не заявит на тебя права. Иль хочешь на склоне лет стать еще одной Клейборн, приумножив свои грехи? Так не спасешься. – Он ждет ответа, но девушка молчит. – Что онемела?
– Я переменюсь, сэр. И уж точно не стану миссис Клейборн.
– Ну да, ты будешь добродетельной женой, и верещащий выводок детишек уцепится за твою юбку.
– Неродиха я, сэр.
– Так ты и впрямь лакомый кусок, Фанни.
Девушка медленно поднимает голову и смотрит в глаза собеседнику; похоже, она больше озадачена, нежели возмущена, его глумлением и пытается прочесть в его лице то, чего не поняла в речах. Однако происходит нечто непостижимое – холодное лицо мистера Бартоломью вдруг озаряется простой человеческой улыбкой, в которой нет ни цинизма, ни издевки. Дальше еще чуднее – он подходит к Фанни и, склонившись, подносит ее руку к губам. После поцелуя он оставляет ее в своих ладонях и, чуть улыбаясь, вглядывается в девичье лицо. Сейчас, вопреки антуражу, бритоголовый мистер Бартоломью и размалеванная Фанни напоминают персонажей «галантного празднества» Ватто. Затем молодой джентльмен выпускает ее руку и возвращается в свое кресло, оставив девушку в полном недоумении.
– Зачем сие, сэр?
– Ужель вам не ведомо, зачем мужчина целует женскую руку?
Смена обращения окончательно сбивает Фанни с толку. Понурившись, она качает головой.
– Ради того, что вскоре вы отдадите, ангел мой.
Фанни вскидывает растерянный взгляд:
– Что ж вам угодно?
– Мы приблизились к водам, что исцелят меня. Помните, я говорил об них? Завтра мы встретим тех, кто охраняет сии воды, в чьей власти осуществить мои заветные мечты. В знак уваженья я поднесу им дар. К деньгам и драгоценностям они равнодушны. Даром станете вы, Фанни. – Мистер Бартоломью разглядывает девушку. – Что скажете?
– Только одно, сэр: я связана с миссис Клейборн и поклялась вернуться.
– Узы с дьяволом не в счет.
– Может, оно и так, сэр. Но только с теми, кто ее бросает, она хуже дьявола. Иначе нельзя, а то все разбегутся.
– Не вы ль минуту назад сказали, что желаете перемениться?
– Не в худшую сторону, – чуть слышно отвечает Фанни.
– Вас известили, что вы должны всячески ублажать меня?
– Да, сэр. Но не других.
– Я купил вас на три недели, верно?
– Да, сэр.
– Стало быть, я могу вами пользоваться еще две недели. Так вот, я повелеваю своей недешевой покупке: завтра вы постараетесь ублажить тех, на встречу с кем мы лелеем надежду.
В неохотной покорности девушка склоняет голову.
– Попомните каждое мое слово, Фанни, – продолжает мистер Бартоломью. – Пусть их манеры и наружность вас не обманут. Хранители вод не знают нашего языка, они лишь недавно прибыли из дальних краев.
– Я маленько говорю по-французски, знаю пару-тройку голландских слов.
– Сие без надобности. С ними следует изъясняться как с Диком. – Мистер Бартоломью умолкает, разглядывая склоненную девичью голову. – Вы хорошо себя проявили, Фанни. Мое неудовольствие было нарочным, я испытывал вас для своей подлинной затеи. Слушайте же. На родине хранителей нет женщин, подобных вам. Вы талантливы в изображенье стыдливой девственности. Такой вы должны предстать завтра. Никакого грима и убранства, никаких столичных замашек, блудливых взглядов и прочих примет вашего истинного ремесла. Вы – застенчивая провинциалка, воспитанная в скромности и не познавшая мужчин. Излучаете благонравие, а не похоть и опытность, кои полчаса назад вы продемонстрировали мне, а ранее – тысяче других мужчин. Вам понятно?
– Как быть, ежели меня потянут в койку?
– Исполнять любое их желанье.
– Охота мне иль нет?
– Повторяю: их воля – моя воля. Что, у Клейборн вы тоже привередничали, словно высокородная леди?
Повисает тишина. Мистер Бартоломью разглядывает понурившуюся девушку. Сейчас в лице его нет циничного сарказма и былой жестокости, оно светится удивительным покоем и терпением. Молодой джентльмен выглядит уже не предтечей скинхедов, но буддийским монахом, невероятно уравновешенным и сдержанным, глубоко погруженным в себя и свои деяния. Лишь во взгляде его мелькает непредсказуемый огонек полнейшего довольства, сродни тому, что на миг возник в глазах Дика, запалившего бумаги. Проходит не менее минуты, прежде чем мистер Бартоломью нарушает молчание:
– Подойдите к окну, Фанни.
Девушка поднимает голову – теперь ясно, отчего молчала она. Глаза ее вновь мокры от слез, тихих слез женщины, понимающей, что у нее нет выбора. В те времена человека редко воспринимали иначе как по наружности, да и сам он видел себя лишь тем, кем его сделали обстоятельства и рок. Тот мир, в котором людские судьбы были намертво зафиксированы, нам показался бы отвратительно незыблемым и тоталитарным по сути, тогда как нашу жизнь его затурканные обитатели сочли бы невероятно изменчивой, подвижной, по-мидасовски богатой свободной волей (хотя нашей нехватке абсолютов и социальной стабильности лучше не завидовать, а сочувствовать), где всем анархично, если не безумно, движут себялюбие и личный интерес. В слезах Фанни нет бессильного гнева, как решило бы современное самосознание, но есть тупая животная тоска, ибо жизнь обязывает сносить унижение, неотъемлемое от нее, как грязь от зимних дорог или младенческая смертность от деторождения (в тот вполне обычный месяц в Англии было зарегистрировано две тысячи семьсот десять смертей, около половины которых пришлось на детей моложе пяти лет). Нам даже не вообразить ту строго регламентированную жизнь, в которой не стоило ждать сострадания, свидетельством чему было бесстрастное лицо мистера Бартоломью.
– Делайте что сказано, – тихо повторяет он.
Поерзав, Фанни вскакивает и подходит к окну.
– Откройте ставень и выгляньте наружу. – Сидя в кресле спиной к окну, мистер Бартоломью лишь прислушивается к скрипу рамы. – Видите ли вы Спасителя на небесном троне подле Отца Его?
– Известно, нет, сэр, – оглядывается Фанни.
– А что там?
– Ничего. Тьма.
– Что во тьме?
Фанни бросает взгляд за окно.
– Только звезды. Небо чистое.
– Самые яркие мерцают?
Девушка снова выглядывает.
– Да, сэр.
– Отчего?
– Не знаю, сэр.
– Так я вам скажу. Они дрожат от смеха, ибо потешаются над вами от вашего рожденья и до самой кончины. Для них вы и весь ваш мир всего лишь цветная тень. Им все равно, верите вы в Христа иль нет. Грешница вы иль святая, потаскуха иль герцогиня. Им все едино, мужчина вы иль женщина, молоды иль стары. Им нет дела, что вам уготовано: рай иль ад, добро иль зло, муки иль блаженство. Вы рождены им на потеху, для коей куплены и мною. Под их светом вы всего лишь тварь, глухонемая, как Дик, и слепая, как сама Судьба. Они в грош не ставят вашу будущность, а ваше нынешнее прозябанье воспринимают как забавное зрелище, каким с высокого холма выглядит кровавая битва. Для них вы ничто, Фанни… Сказать, почему они тебя презирают?
Девушка молчит.
– Потому что не видят ответного презренья.
Фанни вглядывается в силуэт у камина.
– Как можно презирать звезды, сэр?
– А как ты выказываешь презренье человеку?
Девушка медлит с ответом.
– Отворачиваюсь, смеюсь над его желаньем.
– А ежели, скажем, сей человек – судья, кто несправедливо приговорил тебя к плетям и заточил в колодки?
– Стану доказывать свою невиновность.
– Но коль он не слышит?
Девушка молчит.
– Тогда придется тебе сидеть в колодках.
– Да, сэр.
– Разве сие правосудье?
– Нет.
– А теперь вообрази, что осудил тебя не судья, но ты сама и колодки твои не из дерева и железа, а из слепоты и глупости твоей. Что тогда?
– Невдомек мне, сэр, чего вам надобно.
Мистер Бартоломью подходит к камину.
– Гораздо большего, чем ты, Фанни.
– Чего?
– Довольно. Ступай к себе и спи, пока не разбудят.
Помешкав, девушка идет к двери, но возле скамейки задерживается, искоса глядя на молодого джентльмена:
– Скажите же, что вам угодно, милорд?
Ответом ей лишь взмах руки, указующей на дверь. Мистер Бартоломью поворачивается спиной, извещая о безоговорочном окончании аудиенции. Напоследок Фанни бросает еще один взгляд и, сделав никем не замеченный книксен, выходит из комнаты.
В тишине молодой джентльмен смотрит на умирающий огонь. Наконец переводит взгляд на скамейку, а затем отходит к окну и выглядывает наружу, будто сам хочет убедиться, что там одни лишь сияющие в небе звезды. Лицо его непроницаемо, но через миг с ним происходит еще одна парадоксальная метаморфоза: мужественные черты его размягчает та же кротость, что за все время одностороннего разговора читалась в лице девушки. Далее мистер Бартоломью тихо затворяет ставень и, расстегивая длинный жилет, шагает к кровати, где падает на колени и утыкается головой в ее край, словно человек, молящий о незаслуженном прощении, или малыш, ищущий спасения в маминой юбке.







