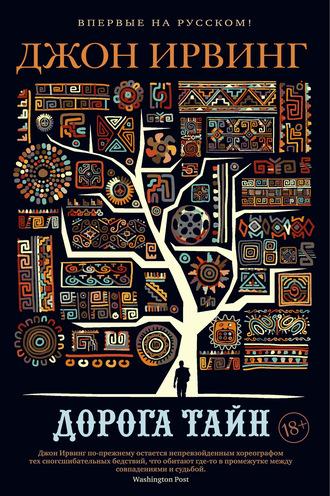
Джон Ирвинг
Дорога тайн
– А что было бы хорошо, если у меня сердечный приступ? – спросил ее Хуан Диего. (Дети свалки настойчивы – они из разряда упрямых.)
– Чтобы сердце билось медленно, тихо и расслабленно, а не колотилось как сумасшедшее, – сказала доктор Штайн. – У человека на бета-адреноблокаторах медленный пульс; такой пульс, что бы ни случилось, не может увеличиться.
Снижение кровяного давления имеет свои последствия; человек на бета-блокаторах должен быть осторожен, не пить слишком много алкоголя, который повышает кровяное давление, но Хуан Диего и в самом деле не пил. (Ну, о’кей, он пил пиво, но только пиво – и не слишком много, подумал он.) И бета-блокаторы снижают циркуляцию крови в конечностях; руки и ноги холодеют. Тем не менее Хуан Диего не жаловался на этот побочный эффект своему другу Розмари – он даже как бы невсерьез отметил, что ощущение холода было роскошью для мальчика из Оахаки.
Некоторые пациенты на бета-адреноблокаторах жалуются на сопутствующую сонливость, усталость и непереносимость физических нагрузок, но в его возрасте – Хуану Диего было теперь пятьдесят четыре – какое это имело значение? Он был калекой с четырнадцати лет; его нагрузкой была хромота. За сорок лет он натерпелся хромоты. Хуан Диего больше не хотел никаких нагрузок!
Ему хотелось чувствовать себя более живым, а не таким «заторможенным» – слово, которое он использовал, чтобы описать действие на него бета-блокаторов, когда говорил Розмари об отсутствии у него сексуальных потребностей (в беседе с доктором Хуан Диего не использовал слово «импотент» – он ограничивался словом «заторможенный»).
– Я не знала, что у вас были сексуальные отношения, – сказала ему доктор Штайн; на самом деле она прекрасно знала, что у него не было таковых.
– Моя дорогая доктор Розмари, – сказал Хуан Диего. – Если бы у меня были сексуальные отношения, то, полагаю, я оказался бы заторможенным.
Она выписала ему рецепт на виагру – шесть таблеток в месяц, сто миллиграмм – и сказала, чтобы он экспериментировал.
– Не ждите встречи с кем-нибудь, – сказала Розмари.
Он и не ждал; он никого и не встретил, но он проверял себя.
Доктор Штайн ежемесячно возобновляла свой рецепт.
– Может, половины таблетки достаточно, – сказал ей Хуан Диего после своих проверок.
У него рос запас таблеток. Он не жаловался ни на какие побочные эффекты от виагры. Она вызывала у него эрекцию, он мог испытывать оргазм. Стоило ли отмечать, что при этом у него закладывало нос?
Еще одним побочным эффектом бета-блокаторов является бессонница, но Хуан Диего не находил в этом ничего нового или слишком удручающего; лежать и бодрствовать в темноте со своими демонами было для него чуть ли не утешительно. Многие из демонов Хуана Диего были знакомы ему с детства – он знал их так хорошо, как если бы они были его друзьями.
Передозировка бета-блокаторами может вызвать головокружение, даже обморок, но Хуана Диего не волновали ни головокружение, ни обморок.
– Калеки знают, как падать, падение для нас дело привычное, – говорил он доктору Штайн.
Однако даже больше, чем эректильная дисфункция, его беспокоила разрозненность его снов; Хуан Диего говорил, что его воспоминаниям и снам не хватает хронологической последовательности. Он ненавидел бета-блокаторы, поскольку, разрушая его сны, они отсекали его от детства, а детство имело для него большее значение, чем для других взрослых – для большинства других взрослых, как считал Хуан Диего. Его детство и люди, с которыми он встретился в ту пору, – те, кто изменил его жизнь или кто был свидетелем случившегося с ним в тот решающий момент, – заменяли Хуану Диего религию.
Доктор Розмари Штайн, хотя и была его близким другом, знала далеко не все о Хуане Диего – и очень мало о его детстве. Скорее всего, доктору Штайн была совершенно непонятна в общем нехарактерная для Хуана Диего резкость, с которой он говорил о бета-блокаторах.
– Поверьте мне, Розмари, если бы бета-блокаторы не отняли у меня мою религию, я бы не жаловался вам на них! Наоборот, я бы попросил вас всем назначать бета-блокаторы!
По мнению доктора Штайн, это лишь множило число преувеличений истерического свойства ее вспыльчивого друга. В конце концов, он обжигал руки, спасая книги от огня – даже книги по истории католичества. Однако Розмари Штайн были известны лишь отдельные куски и отрывки из жизни Хуана Диего – ребенка свалки; она знала гораздо больше о своем друге в его зрелые годы. Она и в самом деле не знала мальчика из Герреро.
2
Мария-монстр
Наутро после Рождества 2010 года по Нью-Йорку прокатилась метель. На следующий день неубранные от снега улицы Манхэттена были забиты брошенными автомашинами и такси. На Мэдисон-авеню, неподалеку от Восточной 62-й улицы, сгорел автобус; вращаясь в снегу, его задние шины воспламенились и подожгли это транспортное средство. Снег вокруг почерневшего корпуса был усеян пеплом.
Для гостей отелей, расположенных вдоль южной стороны Центрального парка, его нетронутая белизна, где несколько храбрых родителей с маленькими детьми играли на свежевыпавшем снегу, странно контрастировала с отсутствием какого-либо автомобильного движения на широких авеню и небольших улочках. В это ярко выбеленное утро даже на Коламбус-Серкл было пугающе тихо и пусто; ни одного проезжающего такси на обычно оживленном перекрестке, таком как угол Западной 59-й улицы и Седьмой авеню, – одни лишь застрявшие машины, наполовину погребенные в снегу.
Виртуальный лунный пейзаж Манхэттена утром того понедельника побудил администратора отеля, где остановился Хуан Диего, оказать специальную помощь инвалиду. Такой день был не для калеки, чтобы тот самолично останавливал такси и с риском для жизни куда-то ехал. Администратор предпочел компанию лимузинов – пусть и не из лучших, – чтобы отвезти Хуана Диего в Куинс, хотя поступали противоречивые сообщения относительно того, открыт Международный аэропорт Джона Ф. Кеннеди или нет. По телевизору говорили, что аэропорт закрыт, но, по неофициальной информации, борт «Катай-Пасифик» вылетал в Гонконг по расписанию. Сколько бы администратор ни сомневался в этом – он был уверен, что рейс задержат, если не отменят, – тем не менее он поддержал обеспокоенного гостя-калеку. Хуан Диего был озабочен тем, чтобы вовремя добраться до аэропорта, хотя после метели никаких вылетов еще не было и не намечалось.
Хуан Диего отправлялся вовсе не в Гонконг – там была лишь вынужденная пересадка, но несколько его коллег убедили его, что по пути на Филиппины ему стоит остановиться, чтобы увидеть Гонконг. Что там можно было увидеть? – спрашивал себя Хуан Диего. Хотя Хуан Диего не понимал, что на самом деле означают «аэромили» (или как их подсчитывать), он понимал, что рейс «Катай-Пасифик» для него бесплатный; его друзья также убедили его, что ему стоит проверить удобство мест в первом классе на рейсах «Катай-Пасифик» – явно в дополнение к тому, что он должен был увидеть.
Хуан Диего полагал, что все это внимание со стороны его друзей было вызвано его уходом из преподавателей. Чем еще можно объяснить то, что его коллеги настаивали на своей помощи в организации этой поездки? Но были и другие причины. Хотя он был молод для пенсионера, он был действительно «инвалидом» – и его близкие друзья и коллеги знали, что он принимает лекарства для сердца.
– Я не собираюсь бросать писать! – заверил он их. (Хуан Диего приехал в Нью-Йорк на Рождество по приглашению своего издателя.)
Хуан Диего сказал, что бросает одно лишь преподавание, хотя в течение многих лет сочинительство и преподавание были неразделимы; вместе они составляли суть всей его взрослой жизни. А один из его бывших учеников-писателей более чем включился в организацию поездки Хуана Диего на Филиппины, взяв ее под свой агрессивный контроль. Этот его бывший студент, Кларк Френч, и подготовил миссию Хуана Диего в Манилу, о чем многие годы думал Хуан Диего, – миссию под знаком Кларка. Писал Кларк с таким же напором и рвением, с каким взялся за подготовку поездки своего бывшего учителя на Филиппины, – так, во всяком случае, думал о его текстах Хуан Диего.
Тем не менее Хуан Диего не сделал ничего, чтобы воспрепятствовать помощи своего бывшего ученика; он не хотел ранить чувства Кларка. Хотя отправляться в путешествие Хуану Диего было нелегко и он слышал, что Филиппины – страна непростая, даже опасная. И все же он решил, что немного развеяться ему не помешает.
Он и оглянуться не успел, как тур по Филиппинам стал реальностью; его миссия в Манилу предполагала дополнительные поездки и разного рода приключения. Он беспокоился, что цель его поездки на Филиппины скомпрометирована, хотя Кларк Френч сказал бы на это, что горел желанием услужить своему бывшему учителю, поскольку восхищался благородной причиной, которая (издавна!) побуждала Хуана Диего совершить данную поездку.
Еще юнцом-подростком в Оахаке Хуан Диего встретился с американцем – уклонистом от призыва в армию; молодой человек сбежал из Соединенных Штатов, чтобы не попасть на войну во Вьетнаме. Отец этого уклониста был среди тысяч американских солдат, погибших на Филиппинах во Второй мировой войне – но не во время Батаанского марша смерти и не в жестокой битве за Коррехидор[5]. (Хуан Диего иногда забывал детали тех событий.)
Американский уклонист не хотел умирать во Вьетнаме; еще до своей смерти молодой человек сказал Хуану Диего, что хочет посетить Американское кладбище и Мемориал в Маниле, чтобы отдать дань памяти своему отцу, похороненному там. Но уклонившись от призыва и сбежав в Мексику, в этой стране он и закончил свои дни – он умер в Оахаке. Хуан Диего дал тогда себе слово отправиться на Филиппины ради умершего уклониста; это ради него он совершит путешествие в Манилу.
Однако Хуан Диего не знал имени молодого американца; антивоенно настроенный юноша подружился с Хуаном Диего и с его, казалось бы, умственно отсталой младшей сестрой Лупе, но они знали его только как «доброго гринго». Дети свалки познакомились с el gringo bueno до того, как Хуан Диего стал калекой. Поначалу молодой американец казался слишком дружелюбным, чтобы быть обреченным на гибель, хотя Ривера называл его «мескальным хиппи», а дети свалки знали мнение el jefe об американских хиппи, наводнивших тогда Оахаку.
Хозяин свалки считал грибных хиппи, приезжающих ради галлюциногенных грибов, «глупцами»; он имел в виду, что они искали нечто, по их мнению, запредельное, а по мнению el jefe, «нечто такое же смехотворное, как идея взаимосвязи всех вещей», хотя дети свалки знали, что сам el jefe поклонялся Деве Марии.
Что касается мескальных хиппи, они были умнее, говорил Ривера, но они занимались «саморазрушением». И к тому же мескальные хиппи не могли обойтись без проституток, – во всяком случае, так считал хозяин свалки. Добрый гринго «убивал себя на улице Сарагоса», говорил el jefe. Дети свалки надеялись, что это не так; Лупе и Хуан Диего обожали el gringo bueno. Они не хотели, чтобы их любимый юноша разрушал себя сексуальными желаниями или алкогольным напитком из ферментированного сока определенных видов агавы.
– Тут никакой разницы, – мрачно сказал Ривера детям свалки. – Поверьте мне, то, чего вы хотите, не совсем то, что вы получаете в результате. Эти низкие женщины и слишком много мескаля… под конец вам остается созерцать лишь червячка!
Хуан Диего знал, что хозяин свалки имел в виду червя на дне бутылки мескаля, но Лупе сказала, что el jefe также подразумевал свой пенис – как он выглядел после свидания с проституткой.
– Ты считаешь, все мужчины только и думают что о своих пенисах, – сказал Хуан Диего своей сестре.
– Все мужчины только и думают что о своих пенисах, – сказала ясновидящая.
С того момента Лупе, так или иначе, больше не позволяла себе обожать доброго гринго. Обреченный американец пересек воображаемую линию – возможно, линию пениса, хотя Лупе никогда бы так не сказала.
Однажды вечером, когда в лачуге в Герреро Хуан Диего читал вслух Лупе, с ними был и Ривера и тоже слушал. Возможно, хозяин свалки мастерил новый книжный шкаф, или что-то было не так с барбекю, и Ривера его чинил; может быть, он остался, чтобы посмотреть, не сдох ли Грязно-Белый (он же Спасенный-от-смерти).
Книга, которую читал Хуан Диего в тот вечер, была еще одним выброшенным академическим фолиантом, приговоренным к сожжению кем-то из этих двух старых священников-иезуитов – отцом Альфонсо или отцом Октавио.
Данная штудия, ошеломляющая свой ученостью и нечитабельной академичностью, по правде сказать, была написана иезуитом, и тема исследования носила как литературный, так и исторический характер, а именно – анализ повествовательного стиля Д. Г. Лоуренса по сравнению со стилем Томаса Гарди. Поскольку «читатель свалки» не читал ни Лоуренса, ни Гарди, научный анализ стиля Лоуренса в сравнении его со стилем Гарди даже на испанском языке производил бы мистическое впечатление. А Хуан Диего выбрал именно эту книгу, потому что она была на английском; он хотел побольше попрактиковаться в чтении по-английски, хотя его не очень-то восхищенная аудитория (в лице Лупе, Риверы и малоприятной псины по кличке Грязно-Белый), возможно, поняла бы его лучше en español.
Усложняло дело и то, что несколько страниц книги были сожжены и к тому же она была пропитана смрадом от basurero; Грязно-Белый все порывался ее понюхать.
Спасенный-от-смерти песик Лупе устраивал хозяина свалки не больше, чем Хуана Диего.
– Лучше бы ты оставила это существо в коробке от молока, – сказал ей el jefe, но Лупе (как всегда) возмущенно встала на защиту Грязно-Белого.
И именно тогда Хуан Диего зачитал им вслух неповторимый отрывок, касающийся чьей-то идеи фундаментальной взаимосвязи всех существ.
– Стой, стой, стой, остановись-ка здесь, – прервал Ривера «читателя свалки». – Чья это идея?
– Может быть, того, которого зовут Гарди, – может быть, это его идея, – сказала Лупе. – Или, скорее, этого типа Лоуренса – похоже на него.
Когда Хуан Диего перевел Ривере то, что сказала Лупе, el jefe тут же согласился.
– Или идея написавшего эту книгу – не важно кого, – добавил хозяин свалки.
Лупе кивнула в знак того, что и так тоже может быть. Книга была занудной и так и оставалась непонятной; казалось, ее автор настолько погрузился в детали своего исследования, что тема утратила конкретный смысл.
– Что за «фундаментальная взаимосвязь всех существ» – каких это существ, к примеру? – воскликнул хозяин свалки. – Это похоже на то, что сказал бы грибной хиппи!
Его реплика рассмешила Лупе, которая редко смеялась. Вскоре она и Ривера смеялись вместе, что случалось еще реже. Хуан Диего всегда помнил, как был счастлив, когда слышал смех своей сестры и el jefe.
И вот, спустя столько лет – а прошло уже сорок лет – Хуан Диего направлялся на Филиппины, в путешествие, которое он совершал в память о безымянном добром гринго. Тем не менее ни один из друзей Хуана Диего не спросил его, каким образом он собирается отдать почести убитому, отцу бывшего уклониста, – оба были безымянны: и павший на поле боя отец, и его умерший сын. Конечно, все друзья Хуана Диего знали, что он пишет романы; возможно, писатель-беллетрист совершал поездку в память об el gringo bueno в символическом значении.
Будучи молодым писателем, он действительно много путешествовал, и путешествия были лейтмотивом в его ранних романах, особенно в этом цирковом романе с громоздким названием, где действие происходит в Индии. Никто не смог отговорить его от этого названия, любил вспоминать Хуан Диего. «История, которая началась благодаря Деве Марии» – какое это было неуклюжее название, а к тому же какая длинная и сложная история! Возможно, самая моя сложная, думал Хуан Диего, пока лимузин катил по пустынным заснеженным улицам Манхэттена, решительно прокладывая путь к автомагистрали имени Франклина Рузвельта. Это был внедорожник, и водитель был преисполнен презрения ко все прочим транспортным средствам и прочим водителям. По словам водителя лимузина, другие транспортные средства в городе были плохо оснащены для движения по снегу и несколько автомобилей, которые были «почти правильно» оснащены, имели «неправильные шины»; что касается других водителей, они не умели ездить по снегу.
– Мы где, по-твоему, – в гребаной Флориде? – рявкнул в окошко водитель какому-то автомобилисту, которого занесло, и он застрял, заблокировав узкую центральную магистраль.
На автомагистрали Рузвельта какое-то такси перепрыгнуло через поребрик и оказалось по колеса в снегу на беговой дорожке, проложенной вдоль Ист-Ривер; таксист пытался откопать задние колеса, но не лопатой, а скребком для лобового стекла.
– Откуда ты взялся, придурок хренов, – из гребаной Мексики? – крикнул ему водитель лимузина.
– Вообще-то, я как раз из Мексики, – сказал Хуан Диего водителю.
– Я не имел в виду вас, сэр, – вы доберетесь до аэропорта вовремя. Ваша проблема в том, что вам просто придется ждать там, – не слишком приветливо сказал водитель. – Ничего не летает, если вы еще не заметили, сэр.
Действительно, Хуан Диего не заметил, что самолеты не летали; он просто хотел быть в аэропорту, готовый улететь, когда объявят посадку на его рейс. Задержка, если она и была, не имела для него никакого значения. Не могло быть и речи о том, чтобы пропустить этот рейс. За каждым путешествием стоит своя причина, подумал он, прежде чем осознал, что эта мысль у него уже записана. Это было то, на чем он более чем решительно настаивал в «Истории, которая началась благодаря Деве Марии». Теперь я снова здесь, путешествую – на что всегда есть причина, подумал он.
«Прошлое окружало его, как лица в толпе. Среди них было одно, которое он знал, но чье это было лицо?» На мгновение, среди окружающих снегов, испытывая неловкость в компании грубияна-водителя лимузина, Хуан Диего забыл, что и это он тоже уже писал. Чертовы бета-блокаторы, подумал он.
Судя по всему, водитель лимузина был человеком хамоватым и злым, но он знал свой путь через Джемейку в Куинсе, где широкая дорога напоминала бывшему «читателю свалки» Периферико – улицу в Оахаке, разделенную железнодорожными путями. На Периферико el jefe обычно покупал для детей свалки пищевые продукты; на рынке Ля-Сентраль можно было купить самые дешевые, на грани срока годности. Только в 1968 году, во время студенческих бунтов, когда Ля-Сентраль был занят военными, продовольственный рынок переехал на Сокало в центре Оахаки.
В ту пору Хуану Диего и Лупе было соответственно двенадцать и одиннадцать лет, и они впервые познакомились с районом Оахаки вокруг Сокало. Студенческие бунты длились недолго; рынок вернется в Ля-Сентраль на Периферико (с этим жалкого вида пешеходным мостом над железнодорожными путями). Тем не менее Сокало осталась в сердцах детей свалки; она стала их любимой частью города. Дети проводили на Сокало, подальше от свалки, все свое свободное время.
Почему бы мальчику и девочке из Герреро не заинтересоваться центром городской жизни? Почему бы двум niños de la basura не поглазеть на туристов в городе? Городская свалка не значилась на туристических картах. Разве кому-нибудь из туристов пришло бы в голову отправиться на экскурсию на basurero? Да от одной вони свалки и рези в глазах из-за нестихающих горений вы бы повернули обратно к Сокало; впрочем, для этого было бы достаточно и одного взгляда на собак свалки (или их взгляда на вас).
Разве удивительно, что примерно в эту же пору, во время студенческих беспорядков 1968 года, когда военные заняли Ля-Сентраль, а дети свалки начали болтаться в районе Сокало, Лупе, которой исполнилось всего одиннадцать лет, стала одержима этими ненормальными и спорными идеями по поводу различных Дев Оахаки? То, что ее брат был единственным, кто мог понять ее блекот, отсекало Лупе от любого вразумительного диалога со взрослыми. И конечно, это были религиозные Девы, чудотворные Девы – такие, которые оказывали влияние не только на одиннадцатилетних девочек.
Разве не было естественно, что Лупе прежде всего потянется к этим Девам? (Лупе умела читать мысли; она не знала, чтобы еще у кого-нибудь были такие же способности.) Тем не менее почему бы ребенку свалки не испытывать некоторое подозрение относительно чудес? Чем были заняты эти соперничающие между собой Девы, чтобы объявиться здесь и сейчас? Совершали ли в последнее время эти чудотворные Девы какие-нибудь чудеса? Не чересчур ли критично относилась Лупе к этим широко разрекламированным, но бездеятельным Девам?
В Оахаке был магазин Дев; дети свалки обнаружили его во время одной из своих первых вылазок в район Сокало. Такова была Мексика – страну захватили испанские конкистадоры. Разве прозелиты Католической церкви не торговали столетиями Девой? Оахака была центром цивилизаций миштеков и сапотеков. Разве испанские конкистадоры на протяжении веков не продавали Дев коренному населению? Начиная с августинцев и доминиканцев и кончая третьими, иезуитами, разве они не втюхивали всем свою Деву Марию?
Теперь там оказался еще кое-кто, кроме Марии, как отметила Лупе после посещения многих церквей в Оахаке, – но нигде в городе не было такого соперничества Дев, как на пестрой выставке-продаже в магазине Дев на улице Индепенденсиа. Там были Девы в натуральную величину и Девы больше натуральной величины. Достаточно назвать только трех, представленных по всему магазину в различных дешевых и аляповатых копиях: это, разумеется, Богоматерь Мария, а также Богоматерь Гваделупская и, естественно, Nuestra Señora de la Soledad, то есть Богоматерь Одиночества, которой Лупе пренебрегала как просто «героиней местного значения» – то есть сильно раскритикованной Девой Одиночества с ее «глупой историей про burro». (Ослик, маленький ослик, вероятно, был вне упреков.)
Магазин Дев также продавал в натуральную величину (и больше, чем в натуральную) копии распятого Христа; будь вы физически крепким человеком, то вполне могли бы отнести домой гигантского кровоточащего Иисуса… но основная цель магазина Дев, который функционировал в Оахаке с 1954 года, заключалась в том, чтобы обеспечивать проведение на Рождество праздничных мероприятий (las posadas).
На самом деле, только эти дети свалки называли торговую точку на Индепенденсиа магазином Дев; вообще-то, он считался магазином для отмечания Рождества. «La Niña de las Posadas» – вот фактическое название этого непрезентабельного заведения (буквально «Девушка с постоялого двора»). Она и была той самой Девой, которую вы выбирали себе домой; разумеется, что от одной из продаваемых Дев в натуральную величину было явно больше веселья на вашей рождественской вечеринке, чем от агонизирующего Христа на кресте.
Притом что Лупе серьезно относилась к Девам Оахаки, она вместе с Хуаном Диего потешалось над этим заведением для рождественских вечеринок. «Девица», как иногда называли дети свалки магазин Дев, была тем местом, куда они заходили посмеяться. Эти продаваемые Девы и наполовину не были столь реалистичны, сколь проститутки с улицы Сарагоса; девы-на-дом скорее относились к разряду надувных секс-кукол. А кровоточащие Иисусы были просто нелепы.
Существовала также (как сказал бы брат Пепе) неофициальная иерархия Дев, выставленных в различных храмах Оахаки, – увы, эта неофициальная иерархия и эти Девы глубоко затронули Лупе. Католическая церковь имела свои собственные магазины Дев в Оахаке; для Лупе эти Девы не были поводом для смеха.
Взять хотя бы эту «глупую историю про burro» и то, с какой брезгливостью относилась Лупе к La Virgen de la Soledad. Базилика Богоматери Одиночества была грандиозной – это до безобразия помпезное сооружение находилось между Морелос и Индепенденсиа, – и в первый раз, когда дети посетили ее, доступ к алтарю был перекрыт толпой паломников, устроивших кошачий концерт. Эти сельские жители (фермеры и сборщики фруктов, как догадывался Хуан Диего) не только молились, издавая вопли и крики, но демонстративно на коленях передвигались к сияющей статуе Богоматери Одиночества, чуть ли не ползком по всей длине центрального прохода. Молящиеся паломники оттолкнули Лупе, как это сделала и местная представительница Богоматери Одиночества – ее иногда называли «святой покровительницей Оахаки».
Если бы тут был брат Пепе, то этот любезный учитель-иезуит мог бы указать Лупе и Хуану Диего на их собственные заблуждения относительно неофициальной иерархии: разве позволительно детям свалки чувствовать себя выше кого-то; в маленьком поселении в Герреро los niños de la basurа считали себя выше сельских жителей. Поведение истошно молящихся паломников в базилике Одинокой Девы Марии и их несуразный внешний вид не оставили у Хуана Диего и Лупе никаких сомнений в том, что они, дети свалки, явно стояли выше этих вопящих коленопреклоненных фермеров и сборщиков фруктов (или кем еще они там были, эти неотесанные деревенщины).
Лупе также не нравилось, как была одета La Virgen de la Soledad; ее строгий, треугольной формы хитон был черным, с инкрустацией золотом.
– Она похожа на злую королеву, – сказала Лупе.
– Ты имеешь в виду, что она выглядит богачкой, – сказал Хуан Диего.
– Дева Одиночества не одна из нас, – заявила Лупе.
Она имела в виду – не из коренных жителей. Она имела в виду, что эта Дева – испанка, то есть европейка. (То есть белая.)
Дева Одиночества, по словам Лупе, была «бледнолицей тупицей в нарядном платье». Далее досаду Лупе вызывало то, что к Гваделупской Деве в базилике Богоматери Одиночества относились с меньшим почтением; ее святой образ был с левой стороны центрального прохода – всего лишь один неосвещенный портрет темнокожей Девы (даже не статуя). А Богоматерь Гваделупская была коренной; она была местной, индианкой; она была той, кого Лупе подразумевала под «одной из нас».
Брат Пепе был бы удивлен тем, как много прочел читатель свалки Хуан Диего и как внимательно слушала его Лупе. Отец Альфонсо и отец Октавио считали, что они очистили иезуитскую библиотеку от самых ненужных и крамольных текстов, но юный читатель со свалки спас много опасных книг от адских огней basurero.
Те труды, что были хрониками католической индоктринации коренного населения Мексики, не остались незамеченными; иезуиты сыграли свою интеллектуальную роль в испанских завоеваниях, и оба, Лупе и Хуан Диего, узнали много нового о иезуитах-конкистадорах Римско-католической церкви. Когда Хуан Диего, чтобы научиться читать, стал «читателем свалки», Лупе слушала и запоминала – с самого начала она была весьма прилежной ученицей.
В базилике Богородицы Одиночества была комната с мраморным полом и картинами, изображающими историю burro: крестьяне, встретив на дороге одинокого осла, который последовал за ними, принялись молиться. На спине у осла был длинный ящик, похожий на гроб.
«Почему у них не хватило ума заглянуть в ящик?» – всегда задавалась вопросом Лупе. Скорее, мозги этих глупцов просто лишились кислорода из-за их сомбреро. (По мнению детей свалки, эти неотесанные крестьяне были тупицами.)
Имел место так пока и не завершенный спор о том, что случилось с burro. Остановился ли он однажды и просто лег или упал замертво? На месте, где маленький ослик либо остановился на своем пути, либо просто сдох, была возведена базилика Богоматери Одиночества. Потому что только тогда и в том самом месте тупые крестьяне открыли ящик. В нем была статуя Богоматери Одиночества; но их насторожила фигура Иисуса, гораздо меньшего размера, на коленях Богоматери Одиночества – Иисус был обнажен, за исключением промежности, прикрытой тряпицей.
«Что там делает этот скукоженный Иисус?» – постоянно спрашивала Лупе. Больше всего настораживало расхождение в размерах фигур: Пресвятая Дева Одиночества была вдвое больше Иисуса. И это был не младенец Иисус, это был Иисус с бородой, только неестественно маленький и прикрытый лишь тряпицей.
По мнению Лупе, burro «оскорбили»; более крупная Богоматерь Одиночества с маленьким полуобнаженным Иисусом на коленях означала для Лупе «еще большее оскорбление», не говоря уже о тупости крестьян, которым не хватило мозгов, чтобы заглянуть для начала в ящик.
Таким образом, дети свалки отвергли святую покровительницу Оахаки и самую заморочистую Деву как мистификацию или надувательство – эту «сектантку», как назвала Лупе La Virgen de la Soledad. А что касается соседства магазина Дев на Индепенденсиа с базиликой Богоматери Одиночества, единственное, что Лупе сказала на эту тему, было «они друг друга стоят».
Лупе выслушала много (пусть не всегда хорошо написанных) книг для взрослых; ее речь, возможно, была непонятна для всех, кроме Хуана Диего, но благодаря специфике книг с basurero лексика Лупе была как у образованного человека и ничуть не соответствовала ни возрасту, ни жизненному опыту этой девочки.
В отличие от своего отношения к базилике Богоматери Одиночества, Лупе называла Доминиканскую церковь на Адкала «прекрасной экстравагантностью». Осуждая позолоченное одеяние Богоматери Одиночества, Лупе восхищалась золоченым потолком в Templo de Santo Domingo, то есть в храме Святого Доминика; ее абсолютно устраивало «это очень испанское барокко» в храме Санто-Доминго – «очень европейское». И Лупе нравился также инкрустированный золотом алтарь при Гваделупской Богоматери – притом что Дева Мария в Санто-Доминго не затмевала ее.
Считающая себя гваделупской девочкой, Лупе была чувствительна к тому, что Гваделупскую Богородицу затмевала эта «Мария-монстр». Лупе имела в виду не только то, что Мария завладела главным местом в «обойме» Дев Католической церкви; Лупе считала, что Дева Мария и сама была «Девой-властительницей».
И огорчало Лупе то, что этот изуитский Templo de la Compaña de Jesús на углу Магон и Трухано, то есть храм Общества Иисуса, сделал Деву Марию своей главной достопримечательностью. Когда вы входите, ваше внимание привлекают фонтан со святой водой – agua de San Ignacio de Loyola – и портрет грозного святого, самого Игнатия (согласно традиции, Лойола взирал на Небеса в ожидания наставления).
В укромном уголке, после того как вы миновали фонтан со святой водой, находился скромный, но привлекательный киот Девы Гваделупской; особое внимание было там уделено наиболее известным высказываниям темноликой Девы, надписи крупными буквами легко читались, если вы сидели на скамье или преклоняли колени на подставке.
«¿No estoy aquí, que soy tu madre? – молилась там Лупе, постоянно повторяя эту фразу. – Разве я не здесь, поелику я Матерь твоя?»
Да, можно сказать, что Лупе испытывала неестественную привязанность к Богоматери и к образу Девы, заменявшей Лупе настоящую мать, которая была проституткой (и уборщицей у иезуитов), – та женщина не очень-то походила на мать своих детей, она была матерью в отлучке, проживающей где-то там, отдельно от Лупе и Хуана Диего. И Эсперанса оставила Лупе без отца, если не принимать во внимание исполняющего его роль хозяина свалки, а также убеждение Лупе, что у нее множество отцов.







