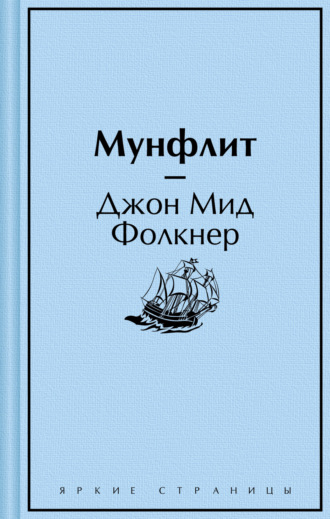
Джон Мид Фолкнер
Мунфлит
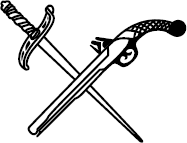
ВСЕМ МОУНАМ из Флита и Мунфлита – живым или мертвым
Прошедшее от нас ушло,
Казалось, завтра станет тем же, что сегодня,
И юными мы вечно будем.
Уильям Шекспир
© А. Иванов, А. Устинова, перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
* * *

– Сигнальте ожидающим на берег, —
Сказал своей команде капитан. —
Я вижу скалы Дувра, мы у цели,
Таможенники нас не углядели,
Кидайте ж за борт бочки со спиртным, —
Сказал своей команде капитан. —
Кидайте ж за борт бочки со спиртным.
– Сигнал на море синий ужасает, —
главарь контрабандистов говорит. —
Таможня спит, а бочки подплывают.
Хватайте петли – и на сушу их, —
Главарь контрабандистов говорит. —
Хватайте петли – и на сушу их.
Но бдительный таможенник не спал,
Он, зарядив мушкет, отдал приказ:
– С контрабандистами сразиться миг настал!
Сейчас накроем всю их банду враз!
Покорных арестуем, кто ж не сдастся,
Тому от нас грозит удел примерный
Болтаться в петле под луной ущербной, —
Таможенник отряду говорит, —
Болтаться в петле под луной ущербной.
Таможенник отряду говорит, —
Болтаться в петле под луной ущербной.
Глава I
В деревне Мунфлит
Так гордость спит минувших дней.
Томас Мор
Деревня Мунфлит раскинулась в полумиле от моря, на правом, а точнее, западном берегу ручья Флит. Вдоль домов он несет свои воды по руслу столь узкому, что знавал я отменных прыгунов, которые даже без помощи шеста перемахивали на противоположный берег. Ниже деревни, однако, ручей растекался вширь соляным болотом и наконец исчезал, поглощенный соляным озером, привлекательным лишь для морских птиц, цапель да устриц. На островах Вест-Индии подобные заводи называют лагунами. Они отделены от моря полосой суши, сквозь которую им никак к нему не пробиться. У нас роль такой полосы играл галечный пляж, и речь о нем еще много раз зайдет впереди. В ранние годы своего детства я полагал, что названием Мунфлит (Лунная Флотилия) наша деревня обязана необычайной яркости лунного света, щедро льющегося тихими летними и морозными зимними ночами на лагуну, но позже мне объяснили: слово «лунная» образовалось из проглоченной буквы «о» в фамилии Моун. Носила ее семья, владевшая прежде всеми окрестными землями. И флотилия у них была собственная на нашем берегу. Флотилия Моунов.
Меня зовут Джон Тренчард, а история, о которой я хочу здесь рассказать, началась, когда мне было пятнадцать лет. Родители мои к тому времени давно уже умерли, жил я у тети, мисс Арнолд, хоть и любившей меня по-своему, но слишком строгой и педантичной, чтобы и мне удалось когда-либо ее полюбить. Истоком событий, столь для меня знаменательных, послужил вечер на исходе октября 1757 года. Я после чая устроился почитать в маленькой тетиной гостиной. С книгами у мисс Арнолд было негусто. Библиотека ее исчерпывалась Библией, молитвенником и несколькими томами проповедей. Зато у преподобного Гленни, учившего нас, детей из деревни, находилось много чего для меня интересного. Он-то и дал почитать мне арабские сказки из «Тысячи и одной ночи», полные таких захватывающих приключений, что я смог от них оторваться лишь с наступлением сумерек, когда меня вынудили к тому сразу три обстоятельства. Во-первых, я замерз. Тетя до ноября топить запрещала, в дымоходе очага, прикрытого цветным экраном, гулял ветер, а стулья с волосяной набивкой, казалось, собрали в себя всю промозглость холодной осени. Во-вторых, до меня стал доноситься из задней части дома противный запах растопленного сала, которое тетя принялась заливать на кухне в формы с фитилями, готовя запас свечей на зиму. И в-третьих, нервы мои не выдержали напряжения, когда я дошел до сцены, где Аладдин отказывается отдать своему мнимому дяде, а на самом деле алчному колдуну волшебную лампу, пока тот не даст ему выбраться из подземелья. Ответные действия лжедяди вызвали у меня ужас. Низвергнув на выход тяжелый камень, злой колдун заточает юношу внизу. Когда он очутился в кромешной тьме, у меня перехватило дыхание, и я ощутил себя словно в ночном кошмаре, когда на вас наползают стены и без того маленькой комнаты, норовя раздавить. Спасется ли Аладдин? Мне нужно было набраться мужества, прежде чем отважусь узнать, что станет с ним дальше, ибо тревога моя за него была такова, будто таила в себе сопричастность с моей судьбой и предупреждала о чем-то, что мне предстоит пережить самому.
Отложив книгу, я вышел на улицу. Никак по-иному, чем бедной, назвать ее было нельзя, хотя в прошлые времена она выглядела куда более презентабельно. Теперь население Мунфлита составляло менее двухсот душ, однако дома, которые оставались жилыми, уныло растянулись с большими промежутками друг от друга по обе стороны дороги на полмили. В деревне ничего не обновлялось. Если дому необходим был ремонт, его просто сносили и между соседними зданиями образовывалось все больше зияющих пустырей, которые выглядели как дырки во рту на месте удаленных зубов. Сады при снесенных домах зарастали, ограды рушились, а по-прежнему существующие жилища самим своим видом свидетельствовали, что существовать им осталось недолго.
Солнце село, и сумерки сгустились до такой степени, что даже нижнюю, то есть ближайшую к морю, часть улицы разглядеть стало невозможно. Воздух подернул легкий туман или дым, пахло горящей травой и тем первым осенним ощущением морозца, которое наводит на мысли о жарких огнях в каминах и о предстоящих уютах длинных зимних вечеров.
Тишину, окутавшую округу, нарушал только стук молотка вдали. Мне стало любопытно, что там происходит, так как никто в деревне никакими ремеслами, кроме рыболовства, не занимался. Я пошел посмотреть и обнаружил внутри сарая, двери которого выходили прямо на улицу, помощника викария Рэтси, высекающего при помощи деревянной колотушки и резца надпись на надгробной плите. Прежде чем стать рыбаком, он был каменотесом, навыков обращения с инструментами не утратил, и если кому-нибудь приходила нужда установить надгробие на церковном дворе, с просьбой об этом шли к Рэтси, и он ее исполнял. Я, опершись о нижнюю створку голландской двери, принялся наблюдать, как он трудится при свете тускло горящей лампы. Через какое-то время он поднял голову, увидел меня и сказал:
– Эй, Джон, коли тебе делать нечего, зайди внутрь да подержи лампу. Мне работы-то только на полчаса осталось.
Рэтси был всегда добр ко мне и никогда не отказывался одолжить стамеску, без которой не сделаешь хорошую деревянную лодочку. Поэтому я вошел и стал светить ему, глядя, как он высекает кусочки портлендского камня, которые пролетали порой в довольно опасной близости от моих глаз. Надпись уже была целиком готова, и он наносил последние штрихи на крохотный пейзаж над ней с изображением шхуны, берущей на абордаж катер. Тогда мне показалось, будто рисунок исполнен достаточно тонко, но теперь понимаю, что он весьма груб. Впрочем, вы сами можете посмотреть. Надгробие это до сей поры стоит на церковном дворе в Мунфлите. И эпитафия на нем еще вполне различима, хотя лишайник ее сильно выжелтил и она выглядит далеко не так ясно, как в тот вечер, о котором я вам рассказываю.
«Светлой памяти Дэвида Блока, который пятнадцати лет был убит выстрелом со шхуны “Электор”» 21 июня 1757 года.
Жизни лишенный жестокой рукой,
С глиной смешаюсь родного я края,
Бога моля своей юной душой,
Чтоб в Судный день меня спас, уповаю.
Злой мой убийца не будет спасен,
Тщетно он станет взывать о прощении.
Жребий его в Судный день предрешен,
В Господа руки вверяю отмщенье».
Стихи сочинил его преподобие мистер Гленни, и, так как переписал для меня их текст, они быстро запомнились мне наизусть, тем более что деревня гудела историей гибели Дэвида, до сих пор не сходившей с уст местных жителей. Единственный ребенок Элзевира Блока, который держал на краю деревни таверну «Почему бы и нет», юноша этот оказался на борту кеча контрабандистов, когда их июньской ночью настигла в море таможенная шхуна. Ходила молва, что таможенников навел на след судья Мэскью из поместья Мунфлит Мэнор. Так или нет, но на шхуне «Электор» в момент захвата он находился. Суда сблизились. Завязалось что-то вроде борьбы, и, оказавшись почти вплотную к Дэвиду, Мэскью достал пистолет и выстрелил юноше прямо в лицо. Ко второй половине того же дня летнего равноденствия «Электор» привел кеч вместе с контрабандистами в Мунфлит, откуда они, скованные попарно, отправились под конвоем отряда констеблей в Дорчестерскую тюрьму. Арестованные брели по деревне, а люди стояли в дверях домов или шли за ними. Мужчины старались ободрить их добрым словом, а женщины сочувствовали их женам. Они ведь все были знакомы нам, эти ближайшие наши соседи из Рингстейва и Монгбьюри. Ну и конечно, всем было жаль Дэвида, тело которого оставалось на корабле. Дорого же заплатил он за свою ночную вылазку.
– Жестоко, жестоко и подло стрелять в такого молоденького, – произнес Рэтси, отступая на шаг, чтобы проверить, хорошо ли выходит у него флаг, который он выбивал на таможенной шхуне. – И остальным бедолагам тоже, по-видимому, не поздоровится. Адвокат Эмпсон сказал, что троих на первой же выездной сессии суда отправят на виселицу. Помню я, – продолжал он, – как двадцать лет назад после такой же вот легкой стычки «Роял Софи» с «Марнхаллом» четырем контрабандным накинули петли на шею, и старик мой отец простудился до смерти в Дорчестере, пока смотрел, как вешали этих бедняг. Там ведь собралась вся округа, ступить на сухой земле было негде, вот он и простоял всю казнь в реке Фрол по колено в воде. Ну вроде достаточно, – снова внимательно присмотрелся к надгробию он. – В понедельник обведу люки черным, а флаг красным для яркости. Ты славно, сынок, подсобил мне с лампой, а потому пойдем-ка теперь со мной вместе в «Почему бы и нет». Я перекинусь там парой слов с Элзевиром, очень ему сейчас для поддержки потребна добрая беседа с другом, а для тебя найдем стаканчик голландского в целях сугрева после осенней стужи.
Я был всего лишь подростком, и приглашение в «Почему бы и нет» мне показалось немыслимой честью, которая поднимала меня до звания подлинного мужчины. Ах, милые годы отрочества! Сколь же мы жаждем скорее покинуть их и с каким сожалением оглядываемся назад, даже еще не пройдя половины жизненной гонки! Впрочем, к радости, охватившей меня тогда, примешивалась ложка дегтя: во-первых, тревожила только мысль о том, как отреагирует моя тетя, узнав, что я побывал в «Почему бы и нет», а во-вторых, охватывал трепет перед Элзевиром Блоком, который и раньше-то отличался суровым нравом, а после гибели Дэвида стал в тысячу раз суровее и мрачнее обычного.
«Почему бы и нет» было ненастоящим названием таверны. На самом деле она называлась «Герб Моунов». Моуны, как я раньше уже говорил, владели некогда всей деревней, но процветание их ушло в прошлое, а вместе с этим кончилось и процветание Мунфлита. Руины поместного дома серели на склоне холма над деревней, Моуновские богадельни в центральной части улицы стояли опустевшими квадратами. Герб Моунов, подписанный их фамилией, можно было увидеть везде, от церкви до таверны, и на всем, где он был, лежала печать упадка и разрушения. Тем не менее я позволю себе здесь подробно его описать, ибо знак этой семьи для меня очень важен и, как вам впоследствии станет ясно, печать его сопровождала всю мою жизнь, и мне не расстаться уж с ней до самой могилы.
Поле герба было белое или серебряное, а на нем чернел большой игрек, который я и называл игреком, пока не услышал от мистера Гленни, что это совсем не «игрек», а так называемый в геральдике вилообразный крест, хотя выглядело это как толстенный игрек, две расходящиеся линии которого доходили до верхних углов щита, а нижняя упиралась в его основание. Взгляд на нее натыкался в деревне везде, куда ни посмотришь. Герб высечен был на камне особняка, камне церкви и на деревянных предметах в ней, на множестве домов и, конечно же, нарисован на вывеске над входом в таверну. И каждый житель округи знал, что это знак Моунов и что именно бывший землевладелец однажды в шутку назвал таверну «Почему бы и нет», и к ней с той поры это прозвище прочно прилипло.
Зимними вечерами я иногда останавливался подле нее, слушая пение тамошних завсегдатаев. Репертуар у них был излюбленный моряками с запада. Пели «Камень-уточку», или «Сигнальте ожидающим на берег», или прочее в том же роде. Смысл этих песен оставался для непосвященных весьма туманен, потому что пели их в основном не с начала и редко допевали до конца, зато дружно подхватывали следом за запевалой припевы. Сильно в таверне не напивались. Элзевир Блок и сам никогда не перебирал через край, и гостей удерживал от подобного, но в те вечера, когда у него начинали петь, помещение наполнялось столь сильным жаром, что оконные стекла затягивала испарина, и мне снаружи переставало быть что-либо видно. Когда же случались там тихие вечера с малочисленной публикой, я мог следить сквозь щель между красными занавесками, как Элзевир Блок и Рэтси играют возле горящего очага в трик-трак, устроившись за малярным столом. На том же столе Блок позже готовил к погребению тело сына. Несколько человек подобралось тогда под покровом ночи к окну, и им было видно, как он пытался отмыть от запекшейся крови русые волосы юноши, стонал и разговаривал с безжизненным телом, и сын по-прежнему мог его понимать. С тех пор пили в таверне еще меньше, ибо Блок делался все более молчаливым и угрюмым. Он и раньше-то не особо старался обхаживать посетителей, а теперь вовсе кидал на каждого приходящего свирепые взгляды, сильно тем поспособствовав сложившемуся у мужчин суждению, что «Почему бы и нет» нехорошее место и куда предпочтительнее «Три вороны» в Рингстейве.
Сердце мое заколотилось чуть ли не в горле, когда Рэтси, подняв засов, провел меня в гостиную таверны с нависающим низко над головой потолком и полом, покрытым слоем песка. Комната освещалась только огнем очага, где ярко-синим солевым пламенем полыхали водоросли. По краям помещения выстроились вдоль стен столы и стулья из темного дерева. А возле самого дымохода сидел за малярным столом, глядя на огонь и куря длинную трубку, Элзевир Блок. Лет пятидесяти, с заметной проседью в густых волосах, кустистыми бровями и очень красиво очерченным лбом, какого я больше ни у кого никогда не видел. Широкое его лицо вообще отличалось правильными чертами, и при всей застывшей на нем суровости производило приятное впечатление. Он был крепко сбит, по-прежнему невероятно силен; истории о его выносливости и отваге передавались из уст в уста. «Почему бы и нет» принадлежала уже нескольким поколениям Блоков, которые относились к коренным жителям этих мест, хотя мать Элзевира происходила откуда-то из Нидерландов, благодаря чему он получил иностранное имя и мог говорить по-голландски. Подробности его жизни были мало кому известны, и люди часто удивлялись, каким образом ему удается удерживать свое заведение на плаву при столь малом обороте, однако, похоже, он никогда не испытывал недостатка в деньгах, и те же самые люди, которые любили рассказывать о силе Элзевира, говорили еще о вдовах, коим вдруг кто-то помог, больных, получивших подарки невесть от кого, намекая, что часть из них – от Элзевира, пусть он и кажется таким мрачным и молчаливым.
Едва мы вошли, он повернул в нашу сторону голову, поднялся на ноги, лицо его стало мрачнее прежнего, и я со своим вечным перед ним страхом отнес это на счет своего появления.
– Мальчишке-то что здесь понадобилось? – резко осведомился он у Рэтси.
– То же самое, что и мне, а точнее, стакан «Молока Арарата», дабы выгнать благословенным его теплом из наших костей осеннюю стужу, – ответил Рэтси, пододвигая к малярному столу еще один стул.
– Года у него еще детские, и лучше бы пить ему молоко коровы.
С этими словами Элзевир взял с каминной полки два бронзовых подсвечника и, водрузив их на стол, зажег свечи щепкой, выхваченной из очага.
– Он уже не ребенок, – возразил ему Рэтси. – Ему столько же лет, сколько было Дэвиду. И пришли мы сюда после того, как он помог мне делать его надгробие. У меня уже почти все готово. Осталось только раскрасить шхуну. Так что, Бог даст, к вечеру понедельника установим его честь по чести на церковном дворе. Пусть бедняга покоится с миром и знает, что над ним лучшая ручная работа мастера Рэтси и стихи преподобного, из коих каждому станет ясно, сколь прискорбна его кончина.
Мне показалось, что Элзевир несколько помягчал, когда заговорили о его сыне.
– Да, Дэвид будет покоиться с миром, – выслушав Рэтси, произнес он. – А вот тем, кто кончине его поспособствовали, вряд ли мир да покой уготованы, когда настанет их время. А настанет оно гораздо скорей, чем им кажется, – добавил он, обращаясь скорее не к нам, а к самому себе, имея в виду, несомненно, мистера Мэскью, и мне вспомнились разговоры о том, что магистрату лучше бы не попадаться на пути Элзевира, ибо трудно предположить, как поведет себя человек в столь сильном отчаянии. Тем не менее они встретились однажды с тех пор на деревенской дороге, и с Мэскью ничего плохого не произошло. Блок лишь смерил его недобрым взглядом.
– Полно тебе, – сочувственным тоном проговорил помощник викария. – Жутче содеянного судьей не придумаешь, однако нельзя токмо этими мыслями жить или мстительным планам предаваться. Положись на провидение. Именно к этому призывает Господь Наш. «Мне отмщение, и Я воздам». Он в Своей милости не оставит подобное безнаказанным. – И мастер Рэтси, сняв шляпу, повесил ее на гвоздь.
Блок, не ответив, принес на стол три стакана, затем извлек из шкафчика небольшую пузатую бутылку с высоким горлышком, из которой налил по полному стакану для Рэтси и для себя, а третий – только до половины.
– Ну, парень, изволь, если хочешь, – подпихнул он его в мою сторону. – Пользы от этого никакой, но и вреда не будет.
Рэтси схватился за свой стакан, едва только он был наполнен, и, понюхав его содержимое, причмокнул губами.
– Редкостное «Молоко Арарата»! – воскликнул он. – Сладкое, крепкое. Сразу на сердце легко становится! Ну а теперь, Джон, достань-ка нам и разложи на столе доску для трик-трака.
Они тут же погрузились в игру, а я робко отхлебнул из своего стакана. Дыхание у меня, непривычного к выпивке, перехватило. Крепкий напиток ожег мне горло. Играли оба мужчины молча. Тишина нарушалась лишь стуком игральных костей да шорохом фишек во время очередного хода. Время от времени то один, то другой игрок отвлекался, чтобы разжечь погасшую трубку, а в конце каждой партии они записывали на столе мелком результат. Играть в трик-трак я умел, и наблюдать мне за ними было совсем не скучно, тем более что для меня наконец открылась возможность увидеть доску, о которой я был много наслышан.
Этот набор для игры издавна переходил как часть обстановки таверны от поколения к поколению ее владельцев, и, вполне возможно, за ним проводили досуг даже кавалеры гражданских войн. Все было сделано из дуба – черного и полированного. Доска, коробочка для костей, фишки. А по краям доски шла инкрустированная более светлым деревом надпись на латыни. В тот первый вечер я прочитал ее, однако понять не смог, пока позже мистер Гленни ее мне не перевел, и в силу кое-каких обстоятельств текст этот мне помнится до сих пор. Приведу его на латыни для тех, кто знает ее: «Ita in vita ut in lusu alae pessima jactura arte corrigenda est». А мистер Гленни перевел мне слова эти так: «Сноровка способна улучшить даже самую худшую комбинацию как при игре в кости, так и в жизни».
Минуло около часа, когда Элзевир, подняв взгляд от доски, посмотрел на меня и произнес вполне добродушно:
– Время, парень, тебе домой отправляться. Ходит молва, что первыми зимними вечерами Черная Борода бродить здесь начинает, и кое-кому довелось с ним столкнуться нос к носу аккурат между моим домом и твоим.
Поняв, что он хочет спровадить меня, я пожелал обоим мужчинам доброй ночи, не мешкая удалился и весь путь до дома преодолел бегом, однако совсем не из страха перед Черной Бородой, так как Рэтси мне объяснил, что столкнуться с ним можно, лишь если зайдешь ночью на церковный двор.
Черной Бородой называли одного из Моунов, умершего лет сто назад и похороненного, подобно другим почившим представителям своего рода, в фамильном склепе под церковью. Только в отличие от других своих родственников он так и не мог упокоиться. Одни объясняли это снедающей его жаждой найти потерянное сокровище, другие усматривали причину в ужасных злодействах, которые он совершил при жизни, из-за чего другие мертвые Моуны, даже и мертвые, не хотят находиться с ним рядом. Если последнее верно, должно быть, он и на самом деле представлял собой исключительное чудовище, ибо другие Моуны, умершие до или после него, сами были ужасны и следовало весьма преуспеть в злодеяниях, чтобы даже они посчитали его компанию для себя зазорной. По слухам, Черная Борода появлялся ночью на кладбище, где, освещая пространство вокруг себя старинным фонарем, рыл землю в поисках сокровища. Те, кто с ним повстречался, добавляли к этому, что ростом он выше любого из мужчин, борода его крайне черна, широка и длинна, лицо смугло, а любой, на кого он посмотрит, в течение года скончается. Имели эти россказни под собой основание или нет, но в Мунфлите мало кто набирался отваги пройти с наступлением темноты через церковный двор. Большинство предпочитало кружные пути, пусть хоть в десяток миль, только бы не рисковать. И усилились, когда однажды летним утром на траве церковного двора обнаружилось тело несчастного выжившего из ума Крэки Джонса, кончину которого, конечно же, все объяснили встречей с Черной Бородой.
Мистер Гленни был сведущ в подобных вещах куда больше других и рассказал мне, что на самом деле Черная Борода, умерший лет сто назад, – это некий полковник Джон Моун. В кровопролитной войне против Карла Первого он, опозорив семью, пренебрег своим долгом верности королю и переметнулся на сторону восставшего парламента. Его сделали комендантом Карисбрукского замка, то есть главным тюремщиком заточенного там короля, и он пообещал пленнику не заметить побега, если тот отдаст ему огромный бриллиант. Бриллиант этот подарен был его величеству братом – королем Франции, и с тех пор он всегда держал его при себе. Но, получив взятку, подлый Джон Моун вероломно привел в назначенный час побега к окну, через которое король собирался уйти, отряд солдат. Узника перевели в тщательно охраняемое помещение, а мерзкий предатель с гордостью доложил парламенту, что только благодаря его, Моуна, бдительности побег был предотвращен. Но, как совершенно верно сказал мистер Гленни, незавидна участь того, кто, забыв о Боге, пустился по пути зла. Вскорости полковник стал вызывать недоверие у новых соратников, лишился должности и был вынужден возвратиться в Мунфлит, где влачил одинокое существование, презираемый и парламентскими, и сторонниками короля, пока не умер уже в счастливые дни Реставрации, когда страной начал править сын казненного Карла Первого король Карл Второй. Однако Джон Моун не обрел покоя и после смерти. По слухам, сокровище, полученное от короля в обмен на свободу, было где-то им спрятано, извлечь его из тайника он при жизни остерегался и, унеся тайну с собой в могилу, выходил из нее ночами, пытаясь найти бриллиант.
Верил ли этому сам мистер Гленни, не знаю. Мне он только сказал, что, хотя Священное Писание и содержит истории, где как добрые, так и злые духи появляются среди живых, ему все же сомнительно, что местом поиска полковник Моун мог избрать церковный двор, ибо спрячь он свое сокровище там, спокойно отрыл бы его еще при жизни. Довод мне показался вполне убедительным, и днем я с поистине львиной отвагой часто прохаживался по двору церкви, с которого открывался самый лучший вид на море, однако ни за какие награды у меня не хватило бы смелости ступить туда ночью. Особенно после случая, когда я и сам мог почти засвидетельствовать, что опасаются люди не зря. Тетя моя как-то под вечер сломала ногу. Мне пришлось ночью бежать в Рингстейв за доктором Хокинсом. Не по церковному двору, а по дороге, которая шла милей выше него по склону. Оттуда-то мне и стал ясно виден свет внизу, и двигался он вокруг церкви, где вряд ли мог находиться в два часа ночи хоть один праведный житель деревни.


