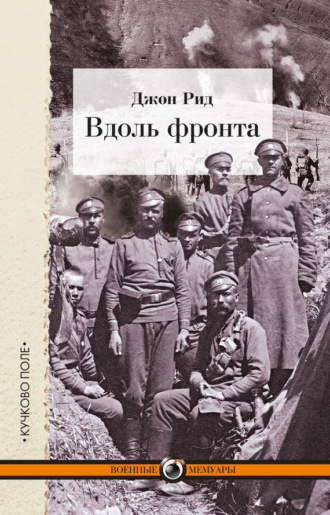
Джон Рид
Вдоль фронта
© ООО «Кучково поле», 2015
Предисловие
«В этой борьбе я не оставался нейтральным. Но, излагая историю великих дней, я стремился рассматривать факты оком бесстрастного хроникера, заинтересованного в передаче одной лишь истины».
Эти слова, которыми Джон Рид заканчивает свое вступление к обессмертившим его «Десяти дням»[1], можно было бы взять эпиграфом и к другой, более ранней книге Джона Рида – «Вдоль фронта».
Книга сложилась из впечатлений автора, объездившего весной 1915 года в качестве военного корреспондента Россию и Балканы. Это была его вторая поездка на европейский театр войны.
Джон Рид попал в Восточную Европу в тот момент, когда германское командование, сосредоточив все свои силы против России, пыталось вывести ее из строя одним ударом.
Как мы уже знаем теперь, именно этот план, такой эффектный по своим внешним результатам, ускорил крушение двух империй. Царская Россия хрустнула под ударом германских фаланг, но в то же время затишье на Западе, купленное ценой крови русского крестьянства, дало возможность подготовиться союзникам к новым исполинским боям, которые в конце концов решили исход войны.
Именно на это затишье жалуется в своей книге Джон Рид, жадно искавший военных впечатлений.
Наскучив однообразием тыловых будней, он пускается на отчаянную авантюру, едва не стоившую ему жизни. Снабженный сомнительными документами, Джон Рид самочинно переезжает через реку Прут, проникает в расположение русской армии, подобно тому как в свое время во Франции, во время боев на Марне, он проник на линию огня.
Только счастливое стечение обстоятельств спасло Джона Рида от бессмысленной гибели – он едва не был расстрелян по подозрению в шпионаже.
Книга Джона Рида «Вдоль фронта» не носит характера открытого обличения мировой бойни. Лицо автора прикрыто маской объективного, добросовестного хроникера-корреспондента. Джон Рид пытается с совершенным бесстрастием воспроизводить все то, чему являлся свидетелем. Но, конечно, это не значит, что Джон Рид оставался вообще безразличным свидетелем мировой войны. О том, что у него была своя, вполне определенная точка зрения на события, мы узнаем из литературных и публичных выступлений Джона Рида в Америке в 1915–1916 годы. В этих выступлениях Джон Рид без устали обличал виновников мировой бойни, призывая рабочий класс к восстанию.
Сын очень состоятельных родителей, промышленников-аристократов из штата Оригоны, Джон Рид получил прекрасное образование: он специально занимался изучением литературы и окончил Гарвардский университет по литературному разделу.
Но уже в стенах университета, несмотря на влияние буржуазной среды, он внимательно изучал мыслителей-социалистов. Не покидая своих литературных занятий, – проза и стихи Джона Рида пользовались популярностью у читателей, – он стал редактором радикальной газеты «The American Journal» и обратил на себя внимание своими глубокими публицистическими статьями.
В конце концов он был привлечен к судебной ответственности за свои антимилитаристические статьи в журнале «The Masses». Это было уже в 1917 году, когда Америка капиталистов и банкиров решила вмешаться в кровавую распрю, раздиравшую Европу.
Однако желание рассматривать события оком бесстрастного хроникера не могло не отразиться на содержании «Вдоль фронта». Манера корреспондентской записи исключала возможность углубленного анализа событий, обусловливала известную поверхностность изложения.
Поэтому наряду с правдивыми наблюдениями мы находим в книге и случайный, непроверенный материал, рядом с истиной – необоснованные утверждения, под которыми через год-полтора навряд ли подписался бы Джон Рид.
На некоторых из них стоит остановиться. «Накануне войны, – пишет автор, – мы имели в России революционную ситуацию. Революция была смята воинскими наборами, милитаристским натиском».
Это бесспорно.
Но навряд ли можно согласиться с утверждением, что в России в годы войны капиталисты, мелкая буржуазия и пролетариат были настроены «весьма патриотично», ибо парадокс войны заключался в том, что борьба с германцами была в то же время борьбой с русской бюрократией. Спешность корреспондентской работы помешала Джону Риду заглянуть в глубь событий, разгадать истинное настроение масс.
Джона Рида поразила национальная пестрота России, ее многоликость. «Это, – пишет он, – безграничный хаос варварских народностей, в течение целых столетий тупевших от угнетения».
Не имея возможности непосредственно познакомиться с «этим варварским хаосом», наблюдая Россию только из окна вагона, Джон Рид счел возможным приписать насильственному объединению угнетенных народностей старой России «национальное единство чувств и мыслей».
Джон Рид, довольно близко наблюдавший неустроенную и беспорядочную жизнь русского интеллигента, непостижимую для делового американца, перенес эти представления на русский характер в целом. Его характеристика «русской души, загадочной и мистической», мало чем отличается от обычных консервативных представлений европейца о славянине.
Мы не ошибемся, если скажем, что в своей книге «Вдоль фронта» Рид литератор и художник главенствует над Ридом политиком и социалистом. Чистолитературные интересы были всегда очень сильны у автора «Вдоль фронта».
Эта двойственность, смешение художественной изобразительности и публицистической остроты характерны для его книги «Вдоль фронта».
Художественны и образны описания балканских захолустий, российских равнин, еврейских местечек, нищих, ограбленных румынских и сербских деревень. Перед читателями проходят незабываемо яркие картины Восточной Европы, сожженной пожаром войны, изъеденной тифом и голодом. Обломки разбитых армий, десятки тысяч беженцев, спугнутых со своих насиженных веками мест, невыносимые страдания нищеты и распутная роскошь военщины, бесправие масс и варварский произвол администрации показаны в книге с чисто художественной яркостью.
В то же время публицистически остры те страницы, в которых Джон Рид рисует развал российского бюрократического аппарата накануне революции, бездарность и хищность господствующих классов, провинциальную ограниченность балканских политиков и деятелей.
Книга «Вдоль фронта» – это книга роста: в эти годы в Джоне Риде, радикале-социалисте, созревал большевик-революционер. Эту книгу со всеми ее недостатками и достоинствами должен принять каждый, кто хочет постичь своеобразную фигуру Джона Рида, американца, проделавшего сложный путь от аристократической семьи промышленника из Оригоны до бойца на октябрьских баррикадах.
Без этой книги нельзя понять его бессмертные «Десять дней, которые потрясли мир», с таким удовлетворением прочитанные Владимиром Ильичом. «Вдоль фронта» – прелюдия к его книге об Октябре, одним из деятельных участников которого являлся Джон Рид: он приехал вторично в Россию в корниловские дни, в момент нарастания октябрьских событий. Джон Рид должен был пройти сквозь преисподнюю войны, чтобы подняться на высоту социалистической интернациональной революции.
Третьей книги – о буднях строительства, о мирных завоеваниях Октября, не менее величавых, чем его битвы, Джону Риду написать не пришлось. Осенью 1920 года, возвращаясь со съезда народов Востока, он заболел сыпняком, который столько раз щадил его во время скитаний по Европе, и умер в ночь на 17 октября. Останки Джона Рида погребены на Красной площади, у Кремлевской стены, рядом с останками героев Октябрьской революции.
В наши дни, когда хозяева капиталистической Европы готовят народам новые неслыханные испытания, книга Джона Рида – напоминание о подлинных виновниках войны и ее ужасах.
А. Старчаков
Предисловие автора
Когда в августе 1914 года началась война, я немедленно отправился в Европу корреспондентом от «Metropolitan Magazine». Во время своего пребывания в Англии, Франции, Швейцарии, Италии, Германии и Бельгии я видел, как сражались три армии. Я вернулся в Нью-Йорк в феврале 1915 года, а месяц спустя Бордман Робинзон и я отправились в Восточную Европу.
Эта книга – описание второй поездки.
Путешествие было рассчитано на три месяца: мы собирались посмотреть вступившую в войну Италию, разрушенную австрийцами Венецию, побывать в Сербии во время последних усилий сербов, понаблюдать Румынию, собиравшуюся вмешаться в конфликт, присутствовать при падении Константинополя, сопровождать русских «на Берлин» и, наконец, потратить месяц на Кавказе для описания варварских боев между казаками и турками.
На самом же деле мы проездили семь месяцев и не видали ни одного из этих крупных драматических происшествий. Если не считать того, что мы попали в великое русское отступление и проскочили через Балканы в начале германских побед, то везде на нашу долю выпадало появляться во время затишья военных действий. И, может быть, именно поэтому мы имели больше возможности наблюдать обычную будничную жизнь восточных стран, протекавшую тогда под гнетом затянувшейся войны. Люди, возбужденные внезапным нападением, отчаянным сопротивлением, захватом и разрушением городов, потеряли, казалось, отличительные свойства личности и расы и стали все на одно лицо в безумном безличии сражений.
Поскольку мы наблюдали, они освоились с войной, как с обычным делом, начали приноравливаться к новым условиям жизни и говорить и думать о посторонних вещах.
Когда мы прибыли в Италию, там господствовала разочаровавшая нас тишина, но тревожные слухи о неизбежном падении Константинополя побудили нас бросить все и отправиться в Дедеагач. Однако в Салониках известия из Турции были столь обескураживающе спокойны, что мы сошли с парохода и отправились в Сербию, опустошенную тогда тифом и только что начавшую оправляться от ужасных последствий австрийского вторжения.
Услышав о мобилизации в Румынии, мы поторопились в Бухарест… но нашли там больше дыма, чем огня.
Константинополь держался. Мы собрались сделать короткий наскок на Россию и вернуться, когда положение в Дарданеллах станет интересней. Русский посланник был вежлив, но уклончив. «Вам нужно, – сказал он, – поехать в Петроград и через ваших посланников официально исходатайствовать разрешение отправиться на фронт». Однако приезд трех обозленных корреспондентов, которые, вняв такому совету, без толку прождали в Петрограде три месяца, обескуражил нас.
В это время началось русское отступление от Карпат, и бои шли к северу от Черновиц, где сходились границы России, Австрии и Румынии. Представитель Америки в Бухаресте любезно дал нам список американских подданных, которых мы могли бы повидать во время нашей поездки, и, вооруженные этой слабой защитой, в маленькой лодке переехали мы ночью Прут и высадились на русской стороне.
Подобных случаев еще не бывало. В приказах строго запрещалось допускать корреспондентов в эту местность, но приказы имели в виду корреспондентов, прибывавших с севера. Мы же приехали с юга, и поэтому, не зная, что с нами делать, нас отправили на север. Мы пропутешествовали позади русского фронта через Буковину, Галицию и Польшу, где провели две недели в тюрьме. Освобожденные, в конце концов мы поехали в Петроград, но попали из огня да в полымя. По-видимому, власти собирались расстрелять нас. Американское посольство умыло руки относительно меня, но Робинзон – канадец родом – пошел в британское посольство, и британский посланник окончательно высвободил нас и помог выбраться из России. Нечего и говорить, что на Кавказ мы уже не поехали.
Немного спустя, в Бухаресте, я решил посмотреть Константинополь, который казался спокойней и в большей безопасности, чем когда-либо. Робинзон не мог ехать, потому что у него был английский паспорт. Энве-паша сначала обещал мне дать возможность отправиться на Галлипольский фронт. Но спустя две недели он сказал, что американцам воспрещен доступ в район действующей армии, так как один корреспондент, возвратившись в Париж, описал там расположение турецких укреплений. Приблизительно в это же время меня неофициально предупредили, что мне лучше покинуть Турцию, ибо полиция обратила внимание на мои частые разговоры с армянами.
На болгарской границе меня задержали и приказали вернуться в Турцию – мой паспорт не был как следует завизирован. У меня не было денег. Угрюмый начальник болгарской полиции не захотел ни связаться с американским посольством, ни разрешить мне сделать это самому.
Так что, когда отходил поезд на Софию, я вскочил в него, схватившись за поручни багажного вагона, влез на крышу и скрылся в поле, когда поезд был остановлен и обыскан солдатами.
В Бухаресте я встретил Робинзона, и мы вместе отправились в Болгарию, которая находилась тогда накануне войны. Когда объявили мобилизацию, мы удрали в Сербию, во-первых, потому что Робинзон был англичанин, а во-вторых, потому что Пресс-бюро известило нас, что корреспонденты в армию допускаться не будут. В Сербии мы рассчитывали на гостеприимный прием. Но узнали, что сербы читали два наших первых очерка о них, и они им не понравились. Нам сообщили, как факт, что, когда начнутся военные действия, нас, вероятно, вышлют из страны. К тому же мы уже достаточно насмотрелись на Балканы. Мы уехали.
Положительно ничего особенного не случилось в Салониках. Мы пробыли здесь четыре-пять дней, по городу ходили обычные слухи, и мы не могли с уверенностью сказать, можно ли ждать каких-либо крупных событий. В конце концов мы сели на пароход, чтобы отплыть в Италию и Америку.
И, конечно, вышло так, что мы выехали как раз в тот момент, когда немецкие и австрийские армии нахлынули в Сербию. Болгария атаковала ее с тыла, а английские и французские войска находились только в шести часах пути от Салоник. Но мы предоставили воевавшие страны их собственной судьбе и устремились в Нью-Йорк, куда и приехали в конце октября.
Когда я оглядываюсь на все это, то мне кажется, что важней всего, – чтобы знать что-либо о войне, – это понаблюдать жизнь различных народов, окружающую их среду, их традиции и мелочи повседневной жизни. В мирное время многие свойства человеческой натуры скрыты и выявляются только во время острых кризисов. С другой стороны, много алчных и расовых особенностей тонет во время великих общественных потрясений.
И в этой книге Робинзон и я просто попытались дать свои впечатления о том, что видели в странах Восточной Европы с апреля до октября 1915 года.
Джон Рид
Нью-Йорк, 20 марта 1916 года
Салоники
Земля обетованная
Английский шпион пересчитывал сдачу и спорил с итальянским слугой, который вынужденно сдавал сдачу пенни за пенни, хныча: «А, синьор, я такой бедняк! Я хорошо вам служил! Вы все забираете!»
– Это случилось за неделю до объявления войны, – продолжал англичанин, не обращая на него никакого внимания. – Британское посольство послало меня узнать расположение двух турецких армейских корпусов, отправившихся в Малую Азию. Я доехал в лодке до Кили на Черном море и двенадцать дней путешествовал на телеге. Куда бы в деревню я ни приезжал, я изображал из себя английского коммивояжера, ищущего новых торговых путей. Я целыми часами говорил с турками про рис, пшеницу, пути сообщения, о калькуттском «ганни»[2], вы и понятия не имеете, как это скучно! – и потом только выпытывал то, что мне нужно. Когда я обнаруживал что-нибудь интересное, я писал в британское посольство в Константинополь в выражениях, касающихся калькуттских тростниковых цыновок. Я нашел армейские корпуса: они выступали в Армению и двигались быстро. Объявление войны застигло меня на Пера. Я двинулся дальше, путешествуя по всей стране в телеге с американским паспортом.
На палубе шумели пассажиры. Это были преимущественно женщины и дети, возвращавшиеся из Европы через Салоники, Ниш, Софию и Бухарест – единственный тогда открытый путь на Варшаву. На пароходе были также русские; один австриец; немец с гейдельбергскими шрамами на щеке, который говорил по-итальянски с грубым тевтонским акцентом и выдавал себя за неаполитанца; парижанка, вероятно кокотка; французский корреспондент, одетый как Рудольф из оперы «Богема»; болгарский дипломат, манипулирующий черепаховым лорнетом, и целый рой неописуемых балканских жителей, национальность которых невозможно было определить.
Быстроходный пароход «Torino» через три дня пути из Бриндизи пристал к греческому берегу выше Пирея. Сидя за кофе, мы могли видеть перед гаванью красно-бурый мыс Суниум в белом солнечном свете, врезающийся в Эгейское море, и развалины храма на его светло-желтой вершине, на фоне огромных бесплодных гор; с правого борта на море синели туманные островки, подобно голубым облакам, а между ними трепетали широко раскинувшиеся двойные скошенные паруса – белое с красным, – подобно растопыренным крыльям чайки, – на ярко раскрашенных судах с приподнятыми кормой и носом, с изогнутой почти до воды серединой и с развешенными вдоль бортов, для защиты от брызг, темными бычьими шкурами.
Где в ближайшее время разразится война? Румыния призывала свои резервы под знамена. Италия колебалась перед последним решением. Пассажиры вступали в бесконечные и тревожные обсуждения вопроса, выступят ли Греция и Болгария, и на чьей стороне. Каждую минуту они могли быть отрезаны от родины и осуждены на бесконечное странствие по нейтральным водам, могли быть захвачены в плен при высадке и заключены в концентрационные лагеря, могли быть сняты с парохода вражеским крейсером как союзники неприятеля. Удивительно, как эти люди, привыкшие к комфортабельной жизни в цивилизованной и мирной Европе, без всякого удивления быстро привыкались к неудобствам путешествия. Шестидесятичасовой переезд в деревянных вагонах третьего класса от зачумленных Салоник через зараженную тифом Сербию, через болгарскую границу, вдоль железнодорожной линии, где разбойничали банды комитаджи; потом София, где карантинные власти держали их, как скотину, в вагонах в продолжение шестичасовой остановки; граница, где румынские и болгарские армии ревниво подстерегали друг друга на берегах Дуная; день или два езды до России, и потом убийственная неопределенность медленных воинских поездов, ползущих через местности, находящиеся под угрозой австрийского наступления.
В разговор вмешался один армянский купец из Константинополя. Он отрекомендовался как окончивший американскую миссионерскую школу – Робертс-Колледж, где, как говорят на Востоке, выращивается больше беспринципных политиков и финансовых дельцов, чем в каком-либо другом учреждении мира. Помахивая сигарой, зажатой между толстыми пальцами, покрытыми драгоценными камнями, он говорил о турках и о их религиозных предрассудках, с которыми он столько лет борется.
– Да, я турецкий подданный, – говорил он, – как и мои предки. Турки – прекрасный народ: гостеприимный, общительный и честный. Я ни в чем не могу упрекнуть их, но, конечно, я на стороне союзников. Когда англичане возьмут Дарданеллы, вот тогда пойдут настоящие дела! Тогда можно будет сколотить капиталец!
Мы плыли мимо покатого плоскогорья, на зеленых склонах которого громоздились приземистые, крытые красной черепицей домики турецких деревушек со стройными серыми минаретами. Впереди мутные воды Салоникского залива открывали широкий вид на длинные холмы, переходившие к северу в зубчатые горы, – это Балканы.
Вдали залив окаймляли белые стены, круглые башни и ряд ослепительных зданий, и среди бесплодного пейзажа скоро вырос серый и желтый город, вскарабкавшийся на отвесный холм, далеко выступающий над морем, – город покатых разноцветных крыш, круглых куполов, сотен острых минаретов, город, окруженный высокой зубчатой стеной и построенный во времена Латинского королевства, – Салоники – восточные ворота войны!
Большое французское судно ошвартовывалось в доках. Его лебедки лениво покачивались, спуская пушки из башенок на берег, где работала толпа французских моряков, стуча молотками при тусклом пламени горна.
Наш приятель-армянин указал на него с улыбкой.
– Судно из Дарданелл, – пояснил он, – я видел его там, когда проезжал девять дней тому назад, и они еще называют Салоники нейтральным портом!
С берега до нас долетали крики арабских носильщиков, шум базара, странное, унылое пение черноморских и малоазийских моряков с побережья, поднимающих косые паруса на судах с изображением глаз на носу, судах, форма которых древнее самой истории; призыв муэдзина, крики ослов, пронзительная плясовая музыка дудок и барабанов в каком-нибудь обнесенном решеткой домике далекого турецкого квартала; рой радужно окрашенных лодок, набитых смуглыми босоногими пиратами, сталкивался между собой в крикливом шуме драки, как и двести лет тому назад.
Ялик с большим греческим флагом подвез военного врача, который еще с трапа крикнул:
– Никому нельзя на берег, если хотите вернуться на судно. Город в карантине – чума.
На нашей мачте спустили желтый флаг, и к судну бросились ярко раскрашенные лодки; в каждой из них стоял полуголый коричневый человек в феске и тюрбане, крича во все горло и бешено проклиная своих соперников. Большая шлюпка под русским флагом за кормой показалась у нашего борта. В ней, выпрямившись, стоял гигант-казак в длинной, опушенной мехом черкеске темно-красного цвета. Высокая меховая шапка с красной с золотом каймой покрывала его крупную голову; у него серебряная перевязь, огромная изогнутая серебряная сабля и пистолет с серебряной рукояткой поясом. В другой лодке, под болгарским флагом, сидели кавасы болгарского консульства, одетые в синее, с перевитыми серебром шнурами и кистями. Мы, спотыкаясь, сошли по трапу, волоча свой багаж, и были подхвачены двадцатью жадными руками; нас разрывали до тех пор, пока здоровенный лодочник не расшвырял с победным криком всех остальных. Дул сильный южный ветер. Когда мы вышли с подветренной стороны парохода, короткие желтовато-зеленые волны разбивались о борта и обдавали нас брызгами. Потом мы заплатили чрезмерную плату за высадку и принялись пробивать себе дорогу к улице.
Роскошные экипажи на резиновых шинах, управляемые арабами в тюрбанах, среди высоких современных кэбов, везли закрытых вуалями дам из турецкого гарема; под тяжестью пишущих машин и фонографов сгибались носильщики в невероятных заплатанных штанах и мешках времен Синдбада-Морехода. Так попали мы в Салоники, где Пьер Лоти встретил Азиаде, где сталкиваются лицом к лицу Восток и Запад.
В древности здесь была Фессалоника. Позже Александр спускал здесь на воду свой флот. Это был один из свободных городов Римской империи, византийская столица, уступавшая только Константинополю, и последняя твердыня того романтического (Латинского королевства, где разбитые останки крестоносцев отчаянно бились за Левант, который они завоевали и потеряли. Гунны, славяне и болгары завоевывали город. Сарацины и франки штурмовали его искрошенные желтые стены, убивали и грабили в его извилистых улочках; греки, албанцы, романцы, норманны, ломбардцы, венецианцы, финикияне и турки поочередно владели городом, и апостол Павел надоедал ему своими посещениями и посланиями. Австрия почти завоевала Салоники в середине Второй Балканской войны, Сербия и Греция разорвали из-за них Балканский союз, а Болгария ринулась в гибельную войну.
Салоники – город всех наций и ни одной в частности, – сотня городов, каждый со своей особой расой, обычаями и языком. До половины отвесного холма тянутся извилистые улички и нависающие решетчатые балконы турецкого города; на северо-западе – разрушающийся квартал болгар; румыны живут внизу, а сербы ближе к заливу. Восточнее, группируясь вокруг старого ристалища, живут греки с эллинскими и византийскими обычаями, сохранившимися в продолжение полутора тысяч лет; а к западу обитают албанцы, таинственный народ, который, как предполагают, бежал на запад из Азии при разгроме Хеттитского царства[3]. Центр города занят большой общиной испанских евреев, изгнанных из Испании при Фердинанде и Изабелле. Они говорят на испанском языке пятнадцатого столетия, но пишут еврейскими значками; язык синагоги тоже испанский; но половина из них перешла сто лет тому назад в магометанство, чтобы ублаготворить турок, своих владык, а теперь, когда турки ушли, они живут в путанице мистических сект, занимаясь черной магией и исповедуя вечно меняющуюся смесь всех религий.
Мужчины все еще носят туфли на застежках, длинный плащ и высокую войлочную шапку, обмотанную тюрбаном. Женщины одеты в богатые цветные юбки, тонкие белые рубашки, мягкие шелковые куртки, отороченные мехом, носят золотые бусы и серьги и шелковые зеленые шляпы, скрывающие их волосы, украшенные жемчугом, тяжелые от латунных украшений и обвязанные широкими цветными лентами, означающими, кто они – девушки, замужние или вдовы. Дома их все различны, – таким мог быть солнечный уголок богатого испанского «джюдериа» в Толедо пятьсот лет тому назад.
Все языки западного мира слышны на узких, шумных, заполненных толпой улицах: испанский – торговый язык среди туземцев; французский – международный язык; Германия, проникая на Восток, распространила немецкий язык; итальянский – изысканный язык высших классов; арабский и турецкий надо понимать, потому что слуги – арабы и турки; греческий – универсальный, а сербский, болгарский и албанский – простонародный, потому что Салоники порт для всех Балкан.
Однажды вечером мы сидели, попивая свою «мастику», род греческого абсента, в местном мюзик-холле. Первой в программе выступала греческая певица, исполнявшая румынские любовные романсы на испанском языке; ее сменили русские танцоры и немецкий декламатор из Вены, говоривший по-французски. Выступил также бродячий американский комедиант, одетый в семь курток, с какими-то остроумными надписями, нарисованными еврейскими знаками на спине каждой из них.
На Площади Свободы, на закате, маленькие мраморные столики кафе заполняют улицы до середины, и тут, под звуки музыки греческого военного оркестра, пьет и прогуливается живописная толпа, загнанная историей и войной в Салоники. Кроме греческих, видны французские, английские, русские и сербские офицеры в полной форме, с саблями; элегантные молодые люди, изгнанные из Белграда войной и чумной эпидемией; варварские кавасы всех консульств, отгоняющие босоногих носильщиков; рыбаки из «Арабских ночей»; греческие священники, мусульманские хаджи, еврейские раввины в священных шляпах, с почтенными бородами; женщины в покрывалах; турецкие и немецкие шпионы.
К северу Улица Свободы выходит на «чарше» – шумный базар, где, сидя с поджатыми ногами, турки задумчиво перебирают старый янтарь, хрупкий изумруд и ткани из Бухары и Самарканда. Внизу, влево от узкой, крытой улочки с пылающими звучными красками восточного узора и шаткими окнами, загроможденными кучами пыльных стопок старого золота и потрескавшейся бирюзы, тянется Улица Серебряных Кузнецов, где бородатые кузнецы, сидя на корточках на высоких лавках в своих курятниках, чеканят куски неотделанного серебра. После полудня базар полон гомоном и толкотней: арабские носильщики, шатающиеся и покрикивающие под ударами и пинками; слуга, расчищающий дорогу перед каким-нибудь богатым местным землевладельцем, одетым в белое полотно, с цепью из грубых золотых бус на шее, сидящем на муле, покрытом красной с синим попоной; продавцы лимонада в фесках, с медными кувшинами на спине и медными кружками, звякающими у них на поясе; лавочники, переругивающиеся с одного тротуара на другой; мальчишки-газетчики, выкликающие последние новости.
Идя по улице, которая некогда была частью великого римского пути от Адриатики на Восток, мы заблудились в бесконечных извилистых переходах, среди развалин мраморной арки, покрытой высеченными фигурами греческих воинов, слонов, верблюдов и странных народов Индии. Неожиданно мы вышли на маленький неправильной формы открытый рынок, зажатый среди теснящихся лавок и домов. Под огромным раскидистым платаном теснились лотошники с навесами из тряпок, под которыми на зеленых листьях лежали золотые, голубые и серебряные рыбы, стояли корзины с яйцами, горшки с зелеными и коричневыми плодами и грудами красного перца. Живые цыплята, жалобно пища, висели связками на ветвях дерева; визжали поросята со связанными ногами; македонские земледельцы в белой полотняной одежде, вышитой цветными нитками, еврейские женщины в шелках бледных тонов, турки и цыгане торговались, ругались, воровали овощи, когда торговец отворачивался, шатались среди толпы с наполненной доверху корзиной на голове.
Мы заказали кофе в маленьком грязном греческом кафе и стали наблюдать рынок. Какой-то греческий солдат долго, пристально смотрел на нас, и наконец подошел.
– Откуда вы? – спросил он. – Чем занимаетесь?
Мы ответили ему. Его лицо просияло, и он протянул каждому из нас руку.
– Я провел восемь лет в Америке, – сказал он. – У моего брата кондитерская на Мэзон-Сити; я везде побывал – в Канзасе, Колорадо, Нью-Йорке, Иллинойсе. Я работал чистильщиком сапог в Спрингфилде в Иллинойсе.
– Вы вернетесь туда? – спросили мы.
– Конечно, я поеду обратно, – воскликнул он, скаля зубы. – Я приехал, чтобы участвовать в Балканской войне, теперь мне осталось прослужить только три месяца – и тогда я свободен. Я вернусь назад в прекрасную страну, в мою Америку.
– Не хотите ли выпить? – продолжили мы.
Он покачал головой.
– Нет, я вас угощаю. Это ресторан моего отца. Американцы всегда принимали меня радушно, когда я бывал в Америке, я люблю встречаться с американцами. Меня зовут Константин Шаркирис.
Подошли двое других солдат и подсели к нам. Они вступили в горячую беседу с Константином и под конец излили на нас целый поток пылких слов.
– Эти парни не говорят по-английски, – сказал Константин, – вот у этого шесть братьев в Америке, а у этого сестра и отец. Оба они говорят, что Америка – великая, могущественная страна. Мы поедем в Америку после войны.
– Вы хотите, чтобы Греция вступила в войну? – спросили мы.
– Нет, – он покачал головой. – Македония не хочет войны. Мы хотим мира в Греции.
– А что вы думаете о Венизелосе?
Он засмеялся.
– Венизелос хочет войны. Если бы я стоял за Венизелоса, меня бы уж теперь убили. Мы любим Венизелоса: он освободил нас. Но мы не хотим войны. Король? О, мы не считаемся с ним, он – ничто.
– Мы в Новой Греции очень несведущи в политике. Мы еще никогда не участвовали в выборах, так что же мы можем знать о политике? О! я люблю Америку! – воскликнул он восторженно. – В Америке я, как с братьями, со всеми моими друзьями, здесь не жизнь для человека, здесь не наработаешь денег. – Он помолчал. – Мы – македонцы, – заключил он, – мы – дети Александра Великого.
Когда мы ночью возвращались домой по темным улицам, два каких-то греческих солдата прошли мимо нас. Когда они отошли немного, один из них круто обернулся.




