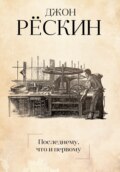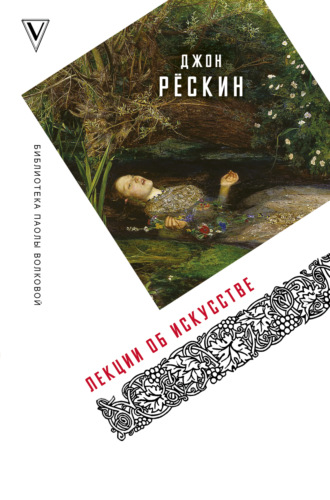
Джон Рёскин
Лекции об искусстве
§ 4. Третье различие
И тем не менее здесь нет подражания чему бы то ни было. Идея этой формы отнюдь не дается в природе линиями, a тем менее черными линиями с белым пространством между ними. Но эти линии дают уму впечатление известного числа фактов, и он признает в нем сходство с прежним впечатлением от древесной ветки; благодаря этому он получает идею правды. Если вместо двух линий мы даем сплошную темную форму, сделанную кистью, мы передаем известное соотношение теней между веткой и небом; в этом соотношении можно признать другую идею правды. Но мы все-таки не имеем подражания, потому что белая бумага отнюдь не похожа на воздух, а черная тень – на дерево. Только соединив известное число идей правды, мы доходим до идеи подражания.
Вследствие этого на первый взгляд может показаться, что идея подражания, поскольку в ней соединяются несколько идей правды, благороднее простой идеи правды.
§ 5. Точная верность не представляет необходимости для подражания
Это было бы так, если бы дело шло об идеях совершенных, если бы они были предметом созерцания. Но для того, чтобы произвести эффект подражания, нужны только те идеи правды и в таком числе, чтобы их могли познать обыкновенные чувства. Чувства, пока они одни служат для этой цели, могут постигнуть точно правду или верность только пространства и поверхности. Требуется продолжительный труд и прилежание, прежде чем они приобретут способность улавливать далее простейшую правду форм. Например, в картине Клода Приморский порт (№ 14 в Национальный галерее) набережная, на которой помещается фигура человека, приподнявшего руку к глазам, слишком груба в отношении перспективы; глаз художника при всем его старании не приобрел способности улавливать видимую форму даже простого параллелепипеда; насколько ж менее способен он улавливать сложные формы ветвей, листьев или членов? Хотя, таким образом, некоторое сходство с реальными формами необходимо для того, чтобы создать обман, это сходство нельзя назвать правдой формы, потому что, выражаясь точно, нет степеней истины, а существуют только степени приближения к ней, а такого приближения к ней, которого слабость и несовершенство оскорбят и поразят ум, способный к различению правды, такого приближения вполне достаточно для целей обманывающего подражения. То же относится и к краскам. Если бы мы вздумали нарисовать голубое небо или розовую собаку, у публики оказалось бы достаточно вкуса, чтобы понять фальшь такого рисунка. Но достаточно приблизиться к верности красок, насколько этого требуют обычные представления публики, т. е. достаточно сделать деревья ярко-зелеными, кожу сплошь светло-желтой, а землю сплошь темной, и цели подражания достигнуты, хотя бы при этом реальная и утонченная правда была бы совершенно потеряна, или вернее, хотя бы ею пренебрегли и даже впали бы в противоречие с нею. Единственные факты, которые мы обыкновенно постоянно и с уверенностью постигаем – это факты пространства и поверхности. И если они переданы сносно и притом с некоторым подобием правды в формах и красках, идея подражания достигнута. Я берусь нарисовать руку, где каждый мускул будет не на месте, каждая кость неправильной формы, а положение суставов изменено, но при этом вы заметите известное общее грубое сходство с верным контуром, которое при старательном наложении теней может ввести в обман и даже удостоиться похвал со стороны публики и доставить ей удовольствие. Недавно в Брюгге в тот момент, когда я пытался в своей записной книжке набросать неизъяснимое изображение Мадонны в тамошнем соборе, какой-то француз-любитель подошел ко мне и спросил, видал ли я новые французские картины в соседней церкви. Я не видал, но не чувствовал охоты покидать мой мрамор для всех полотен, которые когда бы то ни было пострадали от французской кисти. Моя апатия встретила атаку восторгов, которая с каждый минутой возрастала. «Рубенс никогда так не творил, у Тициана не было подобных красок!» Я заметил, что все это очень возможно, и не двинулся с места. Голос над моим ухом продолжал: «Сударь! Сам Микеланджело не создал ничего более прекрасного!» «Более прекрасного?» – переспросил я, желая узнать, какие, собственно, достоинства Микеланджело должно было обозначать это слово «Не может быть более прекрасного, сударь, не может! Это удивительная картина, непостижимая! – сказал француз, подымая руки к небу, словно он хотел в последней, победоносной фразе сконцентрировать все достоинства, которыми были одарены Рубенс и несравненный Буонаротти: – Это, сударь, нечто из ряду вон выходящее!»
Этот господин, очевидно, мог понимать только две истины – цвет кожи и поверхность. Они составляли его понимание совершенства в живописи потому, что они соединяют в себе все, что необходимо для обмана. Он поэтому не знал ничего об идеях правды, хотя превосходно понимал идеи подражания.
Когда мы будем впоследствии изучать идеи правды, мы увидим, что идеи подражания не только не предполагают их присутствия, но даже несовместны с ними, и картины, которые подражают с целью обманывать, никогда не бывают правдивы.
§ 6. Идеи правды несовместимы с идеями подражания
Но здесь не место доказывать это; в настоящее время мы остановимся только на последнем и величайшем различии между идеями правды и подражания. Получая первые, ум сосредоточивается на познании переданного ему факта, формы или чувства; он занят только качествами и характером этого факта и формы, рассматривая их как реальные и существующие все время: при этом он игнорирует знаки и символы, посредством которых ему дано представление о них. Эти знаки не носят в себе ни претенциозности, ни лицемерия, ни жонглерства. В них нечего разгадывать, исследовать, нечему удивляться: они приносят свою весть просто и ясно, и эту весть ум воспринимает от них и удерживает, не обращая внимания на язык, которым она передается. Но получая идею подражания, ум всецело занят установлением того факта, что переданное ему не есть то, чем оно кажется. Он останавливается не на впечатлении, а на распознании его ложности. Его удовольствие проистекает не от созерцания правды, а от обнаружения лжи. Итак, если идеи правды группируются вместе, чтобы дать идею подражания, они изменяют своей природе, теряют свою сущность в качестве идей правды, портятся и унижаются, участвуя в вероломном предательстве того, что они сами создали. Отсюда следует, что идеи правды являются основанием, а идеи подражания – ниспровержением всякого искусства. Мы лучше оценим их сравнительное достоинство впоследствии, когда изучим то, что, по нашему мнению, составляет функции идей правды. Но мы можем уже теперь высказать то заключение, к которому мы тогда придем. Не может быть хороша ни одна картина, вводящая в обман посредством подражания, по той простой причине, что все, что не правдиво, не может быт прекрасным.
Глава VI. Идеи красоты
Всякий материальный предмет, который может доставить наслаждение, благодаря простому созерцанию его внешних качеств, без прямого и определенного усилия ума, я называю в некотором отношении и в известной степени прекрасным. Почему мы получаем удовольствие от одних форм и краски, а не от других, подобный вопрос равносилен вопросу, почему мы любим сахар и не любим полыни. Самое тщательное и тонкое исследование приведет нас только к первоначальным инстинктам и принципам человеческой природы, для которых нельзя подобрать никакой дальнейшей причины, кроме воли Божества, пожелавшей, чтобы мы именно таким образом были созданы. В самом деле, насколько мы знакомы с Его природой, мы можем понять следующее: мы устроены так, что, находясь в здравом и развитом состоянии ума, мы чувствуем удовольствие от всего того, что освещает эту природу. Но мы получаем от них это удовольствие не потому, что они освещают ее, не от того, что мы постигаем это; мы чувствуем удовольствие инстинктивно и неизбежно, как получаем чувственное удовольствие от аромата розы. С этими первоначальными элементами нашей природы воспитание и случай оперируют до бесконечности разнообразно. Эти элементы можно развивать и задерживать, можно направлять в известном смысле или разрушать, посредством надлежащего ухода их можно одарить в высшей степени тонким и непогрешимым чувством, a пренебрежением довести их до всякого рода заблуждений и болезней. Человеком вкуса называется тот, кто всегда следовал за этими естественными законами отвращения и желания, делая их все более властными посредством постоянного повиновения, кто таким образом постоянно наслаждался тем, что по первоначальному замыслу Всевышнего должно было доставить ему наслаждение и кто извлек высшую сумму наслаждения из всех данных предметов.
Таков истинный смысл этого спорного слова. Совершенный вкус есть способность получать возможно величайшее наслаждение от тех материальных источников удовольствия, которые привлекательны для нашей нравственной природы в ее совершенстве и чистоте. Кто
§ 2. Определение термина «вкус»
получает мало удовольствия из этих источников, у того недостаточно вкуса. Кто получает удовольствие от других источников, помимо этих, у того ложный или дурной вкус.
И таким образом термин «вкус» следует отличать от слова «суждение». Суждение – общий термин, выражающей определенную деятельность ума и применимый ко всякого рода предметам, которые могут подвергнуться ему.
§ 3. Различие между вкусом и суждением
Может быть суждение относительно соответствия чего-нибудь, суждение о правде, справедливости, суждение о трудности и превосходстве. Но все эти виды деятельности ума совершенно отличны от вкуса, в его специальном смысле. Вкус есть инстинктивное и мгновенное предпочтение одного материального предмета другому без всякой видимой причины, за исключением той, что человеческой природе свойственно так поступать по ее совершенству.
Заметьте, что, отстраняя из идеи красоты непосредственную деятельность интеллекта, я вовсе не имею в виду утверждать, что красота не оказывает действие на ум и не имеет связи с ним.
§ 4. В каких пределах красота может быть интеллектуальной
Все наши нравственные чувства так сплетены с нашими умственными способностями, что мы не можем действовать не одни, не обращаясь до некоторой степени к другим. И во всех высших идеях красоты значительная доля удовольствия, очень вероятно, зависит от тонких, неуловимых представлений соответствия, целесообразности, связности представлений чисто интеллектуальных, через которые мы доходим до благороднейших идей о том, что справедливо принято называть «умственной красотой». Но здесь все-таки нет непосредственной деятельности ума, т. е. если лицо, получающее даже благороднейшую идею простой красоты, спросит, почему он любит предмет, возбудивший его, он не сумеет ни указать определенной причины, ни отыскать в уме своем какой-нибудь стройной мысли, к которой он мог бы обратиться как к источнику удовольствия. Он скажет, что предмет услаждает, заполняет, освящает, возвышает его ум, но он не сумеет указать, почему или как. Если он может заявить, что он находит в предмете выражение определенной мысли, то он получил уже более, нежели идею красоты, это – идея соотношения.
Идеи красоты принадлежат к числу благороднейших, какие только можно представить уму человека; они неизменно возвышают и очищают его, смотря по степени их. Можно подумать, что Бог с умыслом заставил нас быть постоянно под их влиянием, потому что в природе нет ни одного предмета, который не способен дать их и который правильно познающему уму не представил бы неизмеримо большее число прекрасных, чем бесформенных частей.
§ 5. Высокий ранг и назначение идей красоты
Да и едва ли в чистой неиспорченной природе существует настоящее уродство; существуют только степени красоты или такие незначительные и редкие пункты контраста, которые могут сделать все окружающее еще более ценным своей противоположностью; черные пятна в природе заставляют сильнее чувствовать ее краски.
Но хотя все в природе более или менее прекрасно, каждый вид предметов имеет свою степень красоты; одни по своей природе прекраснее других, а немногие, если есть такие, индивидуумы, обладают высшей степенью красоты, на какую только способен их род.
§ 6. Значение термина «идеальная красота»
Крайняя степень родовой красоты, неизбежно соединяющаяся с высшим совершенством предмета в других отношениях, есть идеал предмета.
Следует далее запомнить, что идеи красоты являются предметами нравственного, а не умственного познания. Исследуя их, мы придем к пониманию идеальнейших предметов искусства.
Глава VII. Идеи отношения
Я употребляю этот термин скорее потому, что он удобен, а не потому, что он действительно вполне выражает тот обширный класс идей, которые мне бы хотелось объединить под этим термином в понимании людей.
§ 1. Общий смысл термина
Мне хотелось бы объединить под ним все те сообщаемые искусством идеи, которые являются предметами особого восприятия и деятельности для ума, и которые поэтому заслуживаюсь названия умственных. Но как всякая мысль или определенная деятельность ума заключает в себе два элемента и некоторую связь или отношение между ними, то термин «идеи отношения» не есть что-то неправильное, хотя он мало выражает.
Под этим названием следует объединить все, что создает выражение, чувство и характер, в фигурах ли или в пейзаже (потому что можно столь же определенно выразить и передать специальные мысли, оперируя с бездушной природой, как и оперируя с одушевленной).
§ 2. Какие идеи следует понимать под ним
все, что касается мысли сюжета, соответствия и соотношения его частей; не тогда, когда каждая из них усиливает красоту другой при помощи известных и постоянных законов композиции, но когда каждая дает другой выражение и смысл благодаря тому, что из нее сделано специальное употребление; оно при этом требует определенной мысли для своего обнаружения и для того, чтобы доставить наслаждение. Под наш термин подходит, например, выбор особого мрачного, страшного света для того, чтобы осветить инциндент, страшный сам по себе, или выбор чистого цвета особого тона для того, чтобы подготовить ум к выражению тонкого и нежного чувства; еще высший смысл этот термин получает тогда, когда под ним разумеют умение изобрести такие инцинденты и мысли, который можно выразить в словах так же, как и на полотне, и которые совсем не зависят от каких бы то ни было средств искусства, кроме средств, могущих содействовать их пониманию. Главный предмет на переднем плане картины Тернера Построение Карфагена – группа детей, пускающих игрушечные лодки. Тонкое чутье сказалось в выборе такого эпизода, выражающего преобладающую страсть, основу будущего величия, в предпочтении, которое оказано этому эпизоду пред суетней занятых каменщиков и вооруженных солдат. И этот инцидент был бы не менее ценным в рассказе, чем в наглядной передаче; здесь нет места техническим трудностям живописи. Перо передало бы эту же идею и сказало бы уму не меньше, чем тщательная реализация в красках. Такие мысли, как эта, представляют собой нечто высшее, чем всякое искусство. Это эпическая поэзия высшего порядка. Клод в сюжеты подобного рода обыкновенно вводит людей, которые тащат красные сундуки с железными замками. При этом художник с ребяческой радостью останавливается на глянце кожи и орнаментовке железа, уму здесь нечего делать. Мы должны любоваться или подражанием, или ничем. Следовательно, Тернер превосходит Клода с первого же момента в концепции картины и достигает интеллектуального превосходства, которого не отнимут у него никакие способности рисовальщика или художника (предполагая, что таковые имеются у его соперника).
Таковы функции и сила идей отношения. Они, как я заявил во второй главе настоящего отдела, принадлежат к благороднейшим элементам искусства.
§ 3. Высшее благородство этих идей
От остальных сложных источников удовольствия они зависят лишь постольку, поскольку дело идет о выражении, и потому они по сравнению с собою низводят эти источники на степень только языка или декорации; мало того, даже благороднейшие идеи красоты стоят ниже их и играют подчиненную или служебную роль. Упомянутой выше картине Ландсира (гл. II, § 4) мало принесло бы пользы, если бы форма собаки была схвачена с наивысшим совершенством изгибов и колорита, на которые только способна природа, и если бы идеальные линии были выполнены с искусством Праксителя; мало того, в тот момент, когда совершенство красоты ворвалось бы в то впечатление, которое дает изображение муки и отчаяния, когда красота отвлекла бы ум от чувств животного к его внешним формам, в этот момент картина стала бы уродливой и потеряла бы свой возвышенный характер. Гениальнейшее изображение человеческого тела есть ничтожный предмет для содержания по сравнению с теми чувствами, деятельностью и характером, которые одушевляют его. Блестящая отделка членов Афродиты тускнеет перед видом Мадонны; дивные формы греческих божеств (за исключением тех, которые воплотили и выразили божественную мысль) несравненно ниже страстных и пророческих изображений Сикстинской капеллы.
Идеи отношения в искусстве вообще являются самыми широкими и важными источниками удовольствия.
§ 4. Почему нет надобности в более подробном подразделении столь обширного класса
Если бы мы предполагали заняться критикой исторических произведений, было бы нелепо сделать подобную попытку без более подробного распределения и подразделения идей отношения. Но старые пейзажисты создали столько полотен, не прилагая ума и обращаясь к нему, что нам не встретятся затруднения при рассмотрении сюжетов, затронутых ими. А всякое подразделение, которое мы могли бы предложить, поскольку оно имеет отношение к произведениям современных художников, будет понято лучше тогда, когда мы приобретем некоторое знакомство с этими произведениями в других менее важных отношениях.
Итак, термином «идеи отношения» я буду выражать все те источники удовольствия, которые заключают в себе и требуют от других, в момент их постижения, активной деятельности интеллектуальных сил.
Отдел II. Силы
Глава I. Общие принципы, относящиеся к идеям сил
В последнем отделе мы видели, какие классы идей могут быть передаваемы искусством.
§ 1. Нет необходимости в детальном изучении идей подражания
Мы сумели настолько оценить их относительное достоинство, чтобы убедиться в следующем: можно совершенно исключить из списка идеи подражания, поскольку они применяются к целям законной критики: во-первых, эти идеи, как мы доказали, не заслуживают того, чтобы художник стремился их дать; во-вторых, они – не что иное, как результат особой ассоциации идей правды. При анализе правды искусства нам придется отметить те специальные виды правды, сочетание которых дают идеи подражания. Тогда мы с большей ясностью убедимся в незначительности этих видов правды: мы увидим, что присутствие их дает нам возможности обнаружить несовершенство картины, и мы будем говорить о ней: «Она обманывает, следовательно она должна быть плоха».
Идеи силы нельзя рассматривать как совершенно особый класс не потому, чтобы они были мелки и неважны, но потому, что они почти всегда соединяются вместе с некоторыми другими идеями или зависят от них.
§ 2. А также в особом изучении идей силы
Таковы именно высшие идеи правды, красоты или отношения, передаваемые с решительностью или быстротой. Та сила, которая доставляет нам удовольствие в эскизе великого художника, не похожа на способность учителя чистописания, на простую ловкость руки. Истинными источниками удовольствия служат точность и верность знания, проявившиеся благодаря быстроте и отважности выражения. Итак, в каждой трудности искусства, будет ли это знание, или повествование, или изобретательность, впечатление силы получается тогда, когда мы видим, что трудность побеждена вполне и быстро. Вследствие этого, устанавливая то, что желательно в отношении других идей, мы постепенно будем раскрывать источники идей силы. И если бы было что-нибудь трудное, что желательно помимо других идей, то оно должно быть рассмотрено впоследствии отдельно.
Но в настоящее время необходимо отметить особую форму идей силы, которая отчасти не зависит от знания правды или трудности и которая способна испортить суждение критики и унизить произведение художника.
§ 3. Исключение составляет одна особая форма
Несомненно, что представление о силе, которое мы получаем при вычислении невидимых трудностей и при оценке невидимой силы, никогда не может быть столь внушительным, как впечатление или созерцание одной противодействующей, а другой побеждающей силы в самый момент борьбы. В одном случае сила воображается, в другом она чувствуется.
Существуют, таким образом, два способа, которыми мы получаем представление о силе; один, более верный,