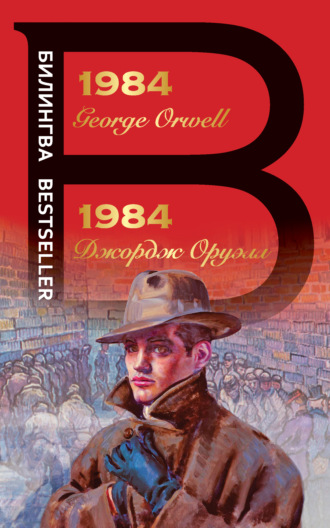
Джордж Оруэлл
1984
III
Уинстону снилась мать.
Она исчезла, насколько он знал, когда ему было лет десять-одиннадцать. Мать была высокой, величавой женщиной с роскошными светлыми волосами, довольно молчаливой, медленной в движениях. Отца он припоминал менее отчетливо – темноволосый худощавый человек, всегда в опрятной темной одежде (Уинстону особенно запомнились очень тонкие подошвы его туфель) и в очках. Должно быть, их обоих проглотила система во время одной из первых больших чисток пятидесятых.
Во сне мать сидела где-то в глубине гораздо ниже него, держа на руках его младшую сестренку. Сестренку он почти не помнил – она была крохотным хилым младенцем, тихим и с большими внимательными глазами. Обе они смотрели снизу на Уинстона. Они находились в какой-то подземной норе – вроде дна колодца или очень глубокой могилы, – и эта нора, и без того глубокая, продолжала расти вниз. Они словно сидели в салоне тонущего корабля и смотрели на него сквозь темнеющую воду. В салоне еще оставался воздух, и они еще могли видеть его, а он – их, но они продолжали погружаться все глубже и глубже в зеленую воду – и в следующий миг вода скрыла их навсегда. Он стоял на свету и на воздухе, а их затягивала смерть, и они были там, внизу, потому что он был здесь, наверху. Он это знал, и они это знали, и это знание он видел на их лицах. Но ни на лицах, ни в сердцах у них не было упрека – только осознание того, что они должны были умереть, чтобы он мог дальше жить, потому что таков неизбежный порядок вещей.
Он не мог вспомнить, что же с ними случилось, но понял во сне, что каким-то образом жизни его матери и сестры принесли в жертву ради него. Это был один из тех снов, когда за внешней причудливостью продолжается обычный мыслительный процесс и возникает понимание событий и идей, сохраняющее новизну и значимость после пробуждения. Уинстона вдруг осенило, что смерть его матери почти тридцать лет назад была трагической и горестной в значении, теперь уже немыслимом. Ему открылось, что трагедия – это достояние былых времен, когда существовала частная жизнь, любовь и дружба, а родные люди стояли друг за друга без лишних вопросов. Воспоминание о матери разрывало ему сердце потому, что она умерла с любовью к нему, а он был еще слишком юн и эгоистичен, чтобы ответить тем же, а еще она каким-то образом – каким именно, он не помнил – принесла себя в жертву личной и несокрушимой идее верности. Он осознал, что сегодня такое уже невозможно. Сегодня есть страх, ненависть и боль, но нет ни уважения к чувствам, ни глубокого и сложного горя. Все это он словно бы увидел в больших глазах матери и сестры, смотревших на него сквозь зеленую воду снизу, с глубины в сотни саженей, и продолжавших погружаться.
Неожиданно он очутился на короткой упругой траве летним вечером, когда косые лучи солнца золотят землю. Простиравшаяся перед ним местность так часто ему снилась, что он не мог быть уверенным, видел он ее когда-то наяву или нет. Мысленно он называл ее Золотой страной. Это был старый, выщипанный кроликами луг, с протоптанной тропинкой и кочками кротовых нор. По дальнему краю луга неровной стеной тянулись вязы, легкий ветер едва шевелил их кроны, и густая листва колыхалась, словно женские волосы. А где-то неподалеку, вне зоны видимости, лениво журчал чистый ручей, и плотва плескалась в заводях под ивами.
Через луг шла девушка с темными волосами. Одним движением она сорвала с себя всю одежду и небрежно отбросила в сторону. Тело у нее было белым и атласным, но не пробудило в нем желания – он едва взглянул на него. Что захватило его в тот миг, так это сам жест, которым она отбросила одежду. Такая изящная беспечность словно перечеркнула целую цивилизацию и мировоззрение, как будто и Большого Брата, и Партию, и Мыслеполицию ниспровергли одним великолепным взмахом руки. Этот жест также был достоянием былого. Уинстон проснулся со словом «Шекспир» на губах.
Телеэкран издавал раздирающий уши свист, державшийся тридцать секунд на одной ноте. На часах 07.15 – время подъема для конторских служащих. Уинстон выдернул себя из постели – нагишом, поскольку член внешней партии получал всего три тысячи купонов на одежду в год, а пижамный костюм стоил шестьсот – и схватил со стула поношенную майку и шорты. До физзарядки оставалось три минуты. И тут его согнул жестокий приступ кашля, как почти всегда после пробуждения. Кашель норовил вывернуть легкие наизнанку, так что Уинстон повалился на спину и начал отчаянно ловить ртом воздух, пытаясь восстановить дыхание. Жилы у него вздулись от натуги, а варикозная язва зачесалась.
– Группа от тридцати до сорока! – пролаял пронзительный женский голос. – Группа от тридцати до сорока! Примите, пожалуйста, исходное положение. От тридцати до сорока!
Уинстон встал по стойке «смирно» перед телеэкраном, на котором уже возникла моложавая женщина: худощавая, но мускулистая, в тунике и спортивных туфлях.
– Сгибание рук и потягивание! – отчеканила она. – Считайте за мной. И раз, два, три, четыре! И раз, два, три, четыре! Ну-ка, товарищи, поживее! И раз, два, три, четыре! И раз, два, три, четыре!..
Жестокий приступ кашля едва не вытеснил из сознания Уинстона ощущения от сновидения, но ритмичные движения зарядки помогли их восстановить. Механически выбрасывая руки взад-вперед и удерживая на лице выражение сурового удовлетворения, какое полагалось на физзарядке, он старался прорваться к смутным воспоминаниям раннего детства. Неимоверно трудная задача. Время до конца пятидесятых терялось в тумане. Когда не можешь обратиться к внешним ориентирам, размываются даже события собственной жизни. Ты вспоминаешь крупные происшествия, которых, вполне возможно, и вовсе не было, вспоминаешь мелкую подробность какого-то отдельного случая, но не можешь восстановить общую атмосферу, а еще есть долгие периоды пустоты, о которых ты не помнишь ничего вовсе. Все тогда было другим. Даже названия стран и их очертания на карте. Первая летная полоса, к примеру, называлась тогда по-другому – Англия или Британия, а вот Лондон (Уинстон в этом почти не сомневался) всегда был Лондоном.
Уинстон не мог с уверенностью припомнить время, когда бы его страна не воевала. Кажется, на его детские годы пришелся длительный мирный период, поскольку одно из ранних воспоминаний было связано с авианалетом, очевидно, заставшим всех врасплох. Возможно, как раз тогда на Колчестер сбросили атомную бомбу. Сам налет стерся из памяти, но он помнил, как отец крепко держал его за руку, пока они спешно спускались все ниже и ниже в какое-то подземное убежище, кружа по винтовой лестнице, звеневшей под ногами. В итоге он так вымотался, что начал хныкать, и им пришлось остановиться отдохнуть. Мать тоже спускалась, но заметно отстала, двигаясь в своей медлительной манере, словно во сне. Она несла его сестренку, а может, то был просто сверток покрывал – он не помнил точно, родилась ли уже сестренка. Наконец, они вошли в шумное, многолюдное помещение, и он понял, что это станция метро.
Люди сидели по всей площади каменного пола и теснились на металлических нарах. Уинстон с родителями устроились на полу, а рядом на нарах сидели старик со старухой. Седой как лунь старик был одет в приличный темный костюм и черную матерчатую кепку, сдвинутую на затылок; лицо у него отливало густо-красным, а в голубых глазах стояли слезы. От него несло джином. Казалось, джин сочится из всех его пор, точно пот, и слезы его – тоже чистый джин. Несмотря на легкий хмель, старик терзался от горя, глубокого и нестерпимого. Уинстон понял своим детским умом, что случилось что-то ужасное, что-то такое, чего нельзя ни простить, ни исправить. Ему даже показалось, что он знает, в чем дело. У старика убили кого-то, кого он любил, – может, маленькую внучку. Старик ежеминутно повторял:
– Не надо нам было им доверять. Говорил же я, мать, говорил? Вот что бывает, когда доверяешь им. Я это всегда говорил. Не надо было доверять этим скотам.
Но что это были за скоты, которым нельзя доверять, Уинстон вспомнить не мог.
Примерно с тех пор война практически не прекращалась, хотя, строго говоря, это была не одна и та же война. Несколько месяцев в его детстве шли беспорядочные бои на улицах Лондона, и кое-что из этого Уинстон отчетливо помнил. Но проследить историю тех лет и установить, кто с кем сражался в тот или иной период, было совершенно невозможно. Никакие письменные свидетельства, равно как и устные, не упоминали ни о какой иной расстановке сил, кроме сегодняшней. Сегодня, к примеру, в 1984 году (если сегодня 1984-й), Океания воевала с Евразией, будучи в союзе с Остазией. Ни в официальных, ни в частных заявлениях никто не признавал, что отношения этих трех сил когда-то могли быть другими. Но Уинстон хорошо помнил, что еще четыре года назад Океания воевала с Остазией, будучи в союзе с Евразией. Память его была источником субъективным, на который он мог полагаться лишь постольку, поскольку его сознание не вполне подчинялось системе. Официально расстановка сил никогда не менялась. Океания ведет войну с Евразией, стало быть, Океания всегда вела войну с Евразией. Враг текущего момента всегда является абсолютным злом, из чего следует, что никакое соглашение с ним – ни в прошлом, ни в будущем – невозможно.
Страшнее всего, думал он в стотысячный раз, отводя плечи назад до ломоты (они вращали корпусом, держа руки на бедрах – это считалось полезным для мышц спины), страшнее всего, что все это может быть правдой. Если Партии под силу запустить руку в прошлое и заявить о том или ином событии, что его никогда не было, – разве это не страшнее любых пыток или смерти?
Партия утверждала, что Океания никогда не была в союзе с Евразией. Он же, Уинстон Смит, знал, что Океания была в союзе с Евразией как минимум четыре года назад. Но чем это знание подкреплялось? Только его личным сознанием, которое в любом случае скоро уничтожат. Если все примут за правду партийную ложь, если все официальные источники будут рассказывать одну и ту же сказку – тогда ложь войдет в историю и станет правдой.
«Кто управляет прошлым, – гласил лозунг Партии, – тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым».
Однако же прошлое, по своей природе подлежащее пересмотру, на практике никогда не пересматривалось. Сегодняшняя истина была верна всегда и на веки вечные. Проще простого. Для этого требовался лишь бесконечный ряд побед над собственной памятью. «Управление реальностью» – вот как это называется, а на новоязе – «двоемыслие».
– Вольно! – гавкнула инструкторша уже чуть более приветливо.
Уинстон опустил руки по швам и медленно сделал глубокий вдох. Его разум соскользнул в лабиринт мира двоемыслия. Знать и не знать, полностью сознавать правду и говорить тщательно продуманную ложь, параллельно придерживаться двух противоположных взглядов, понимая, что они исключают друг друга, использовать логику против логики, аннулировать мораль, взывая к морали, не верить в возможность демократии и верить, что Партия является гарантом демократии, забывать все, что надлежит забыть, а затем снова обращаться к этому, когда нужно, и снова ловко забывать. А самое главное, нужно применять этот же процесс к самому процессу – в этом вся тонкость: сознательно добиваться бессознательности, а затем опять-таки подавлять понимание проделанного самогипноза. Даже понимание слова «двоемыслие» требует двоемыслия.
Инструкторша снова велела встать смирно.
– А теперь посмотрим, кто у нас сумеет дотянуться до носков! – произнесла она с энтузиазмом. – Пожалуйста, товарищи, тянемся от бедра. Раз-два! Раз-два!..
Уинстон терпеть не мог это упражнение – оно прошивало ноги болью от пяток до ягодиц и часто заканчивалось очередным приступом кашля. Его размышления лишились условной приятности. Прошлое, рассудил он, не просто изменили, его, по сути, уничтожили. Разве можно установить точно хотя бы самый очевидный факт, когда его не подтверждает ничего, кроме твоей памяти? Он попытался вспомнить, в каком году впервые услышал что-либо о Большом Брате. Предположительно где-то в шестидесятые, но нельзя было сказать наверняка. Разумеется, в истории Партии Большой Брат фигурировал как вождь и поборник Революции с первых ее дней. Подвиги его постепенно отодвигались в прошлое, пока не достигли легендарного мира сороковых и тридцатых годов, когда капиталисты в странных шляпах-цилиндрах еще разъезжали по улицам Лондона в огромных блестящих автомобилях или в остекленных каретах. Невозможно установить, что из этих легенд было правдой, а что – выдумкой. Уинстон не мог даже вспомнить дату возникновения самой Партии. Он полагал, что не слышал слова Ангсоц до 1960, но возможно, что в своей староязычной форме – то есть «английский социализм» – оно было в ходу и раньше. Все растворялось в тумане. Хотя иногда можно было уличить и явную ложь. К примеру, согласно партийным учебникам истории, Партия изобрела самолет, но это было неправдой. Он помнил самолеты с самого раннего детства. Но доказать ничего было нельзя. Не было никаких свидетельств. Лишь один раз за всю свою жизнь он держал в руках неопровержимое свидетельство фальсификации исторического факта. И на этот счет…
– Смит! – прокричал злобный голос с телеэкрана. – У. Смит, номер 6079! Да, вы! Пожалуйста, нагибайтесь ниже! Вы же можете. Вы не стараетесь. Ниже, пожалуйста! Так-то лучше, товарищ. Теперь вольно, вся группа, и наблюдайте за мной.
Вдруг Уинстона прошиб горячий пот по всему телу. Лицо его, однако, осталось совершенно невозмутимым. Не показывать тревоги! Не показывать недовольства! Одно движение глаз может выдать тебя. Он стоял и смотрел, как инструкторша поднимает руки над головой, нагибается и – не сказать что грациозно, но с похвальной четкостью и сноровкой – запихивает кончики пальцев рук под пальцы ног.
– Так-то, товарищи! Вот что я хочу от вас увидеть. Посмотрите еще раз. Мне тридцать девять, и я родила четырех детей. Теперь смотрите, – она снова нагнулась. – Видите, мои колени не сгибаются. Вы все так сможете, если захотите, – добавила она, распрямившись. – Каждый до сорока пяти прекрасно способен коснуться своих пальцев ног. Не всем нам повезло сражаться на передовой, но все мы можем хотя бы поддерживать себя в форме. Вспомните наших ребят на Малабарском фронте! И моряков на Плавучей крепости! Только подумайте, каково приходится им. Теперь попробуем еще раз. Так-то лучше, товарищ, так гораздо лучше, – добавила она ободряюще, когда Уинстон отчаянным выпадом сумел коснуться пальцев ног, не сгибая коленей, впервые за несколько лет.
IV
With the deep, unconscious sigh which not even the nearness of the telescreen could prevent him from uttering when his day’s work started, Winston pulled the speakwrite towards him, blew the dust from its mouthpiece, and put on his spectacles. Then he unrolled and clipped together four small cylinders of paper which had already flopped out of the pneumatic tube on the righthand side of his desk.
In the walls of the cubicle there were three orifices. To the right of the speakwrite, a small pneumatic tube for written messages, to the left, a larger one for newspapers; and in the side wall, within easy reach of Winston’s arm, a large oblong slit protected by a wire grating. This last was for the disposal of waste paper. Similar slits existed in thousands or tens of thousands throughout the building, not only in every room but at short intervals in every corridor. For some reason they were nicknamed memory holes. When one knew that any document was due for destruction, or even when one saw a scrap of waste paper lying about, it was an automatic action to lift the flap of the nearest memory hole and drop it in, whereupon it would be whirled away on a current of warm air to the enormous furnaces which were hidden somewhere in the recesses of the building.
Winston examined the four slips of paper which he had unrolled. Each contained a message of only one or two lines, in the abbreviated jargon – not actually Newspeak, but consisting largely of Newspeak words – which was used in the Ministry for internal purposes. They ran:
times 17.3.84 bb speech malreported africa rectify
times 19.12.83 forecasts 3 yp 4th quarter 83 misprints verify current issue
times 14.2.84 miniplenty malquoted chocolate rectify
times 3.12.83 reporting bb dayorder doubleplusungood refs unpersons rewrite fullwise upsub antefiling
With a faint feeling of satisfaction Winston laid the fourth message aside. It was an intricate and responsible job and had better be dealt with last. The other three were routine matters, though the second one would probably mean some tedious wading through lists of figures.
Winston dialled “back numbers” on the telescreen and called for the appropriate issues of the Times, which slid out of the pneumatic tube after only a few minutes’ delay. The messages he had received referred to articles or news items which for one reason or another it was thought necessary to alter, or, as the oficial phrase had it, to rectify. For example, it appeared from the Times of the seventeenth of March that Big Brother, in his speech of the previous day, had predicted that the South Indian front would remain quiet but that a Eurasian offensive would shortly be launched in North Africa. As it happened, the Eurasian Higher Command had launched its offensive in South India and left North Africa alone. It was therefore necessary to rewrite a paragraph of Big Brother’s speech, in such a way as to make him predict the thing that had actually happened. Or again, the Times of the nineteenth of December had published the official forecasts of the output of various classes of consumption goods in the fourth quarter of 1983, which was also the sixth quarter of the Ninth Three Year Plan. Today’s issue contained a statement of the actual output, from which it appeared that the forecasts were in every instance grossly wrong. Winston’s job was to rectify the original figures by making them agree with the later ones. As for the third message, it referred to a very simple error which could be set right in a couple of minutes. As short a time ago as February, the Ministry of Plenty had issued a promise (a “categorical pledge” were the official words) that there would be no reduction of the chocolate ration during 1984. Actually, as Winston was aware, the chocolate ration was to be reduced from thirty grammes to twenty at the end of the present week. All that was needed was to substitute for the original promise a warning that it would probably be necessary to reduce the ration at some time in April.
As soon as Winston had dealt with each of the messages, he clipped his speakwritten corrections to the appropriate copy of the Times and pushed them into the pneumatic tube. Then, with a movement which was as nearly as possible unconscious, he crumpled up the original message and any notes that he himself had made, and dropped them into the memory hole to be devoured by the flames.
What happened in the unseen labyrinth to which the pneumatic tubes led, he did not know in detail, but he did know in general terms. As soon as all the corrections which happened to be necessary in any particular number of the Times had been assembled and collated, that number would be reprinted, the original copy destroyed, and the corrected copy placed on the files in its stead. This process of continuous alteration was applied not only to newspapers, but to books, periodicals, pamphlets, posters, leaflets, films, sound tracks, cartoons, photographs – to every kind of literature or documentation which might conceivably hold any political or ideological significance. Day by day and almost minute by minute the past was brought up to date. In this way every prediction made by the Party could be shown by documentary evidence to have been correct, nor was any item of news, or any expression of opinion, which conflicted with the needs of the moment, ever allowed to remain on record. All history was a palimpsest, scraped clean and reinscribed exactly as often as was necessary. In no case would it have been possible, once the deed was done, to prove that any falsification had taken place. The largest section of the Records Department, far larger than the one on which Winston worked, consisted simply of persons whose duty it was to track down and collect all copies of books, newspapers, and other documents which had been superseded and were due for destruction. A number of the Times which might, because of changes in political alignment, or mistaken prophecies uttered by Big Brother, have been rewritten a dozen times still stood on the files bearing its original date, and no other copy existed to contradict it. Books, also, were recalled and rewritten again and again, and were invariably reissued without any admission that any alteration had been made. Even the written instructions which Winston received, and which he invariably got rid of as soon as he had dealt with them, never stated or implied that an act of forgery was to be committed: always the reference was to slips, errors, misprints, or misquotations which it was necessary to put right in the interests of accuracy.
But actually, he thought as he readjusted the Ministry of Plenty’s figures, it was not even forgery. It was merely the substitution of one piece of nonsense for another. Most of the material that you were dealing with had no connexion with anything in the real world, not even the kind of connexion that is contained in a direct lie. Statistics were just as much a fantasy in their original version as in their rectified version. A great deal of the time you were expected to make them up out of your head. For example, the Ministry of Plenty’s forecast had estimated the output of boots for the quarter at 145 million pairs. The actual output was given as sixty two millions. Winston, however, in rewriting the forecast, marked the figure down to fifty seven millions, so as to allow for the usual claim that the quota had been overfulfilled. In any case, sixty two millions was no nearer the truth than fifty seven millions, or than 145 millions. Very likely no boots had been produced at all. Likelier still, nobody knew how many had been produced, much less cared. All one knew was that every quarter astronomical numbers of boots were produced on paper, while perhaps half the population of Oceania went barefoot. And so it was with every class of recorded fact, great or small. Everything faded away into a shadow world in which, finally, even the date of the year had become uncertain.
Winston glanced across the hall. In the corresponding cubicle on the other side a small, precise looking, dark chinned man named Tillotson was working steadily away, with a folded newspaper on his knee and his mouth very close to the mouthpiece of the speakwrite. He had the air of trying to keep what he was saying a secret between himself and the telescreen. He looked up, and his spectacles darted a hostile flash in Winston’s direction.
Winston hardly knew Tillotson, and had no idea what work he was employed on. People in the Records Department did not readily talk about their jobs. In the long, windowless hall, with its double row of cubicles and its endless rustle of papers and hum of voices murmuring into speakwrites, there were quite a dozen people whom Winston did not even know by name, though he daily saw them hurrying to and fro in the corridors or gesticulating in the Two Minutes Hate. He knew that in the cubicle next to him the little woman with sandy hair toiled day in day out, simply at tracking down and deleting from the Press the names of people who had been vaporized and were therefore considered never to have existed. There was a certain fitness in this, since her own husband had been vaporized a couple of years earlier. And a few cubicles away a mild, ineffectual, dreamy creature named Ampleforth, with very hairy ears and a surprising talent for juggling with rhymes and metres, was engaged in producing garbled versions – definitive texts, they were called – of poems which had become ideologically offensive, but which for one reason or another were to be retained in the anthologies. And this hall, with its fifty workers or thereabouts, was only one subsection, a single cell, as it were, in the huge complexity of the Records Department. Beyond, above, below, were other swarms of workers engaged in an unimaginable multitude of jobs. There were the huge printing shops with their sub-editors, their typography experts, and their elaborately equipped studios for the faking of photographs. There was the teleprogrammes section with its engineers, its producers, and its teams of actors specially chosen for their skill in imitating voices. There were the armies of reference clerks whose job was simply to draw up lists of books and periodicals which were due for recall. There were the vast repositories where the corrected documents were stored, and the hidden furnaces where the original copies were destroyed. And somewhere or other, quite anonymous, there were the directing brains who coordinated the whole effort and laid down the lines of policy which made it necessary that this fragment of the past should be preserved, that one falsified, and the other rubbed out of existence.
And the Records Department, after all, was itself only a single branch of the Ministry of Truth, whose primary job was not to reconstruct the past but to supply the citizens of Oceania with newspapers, films, textbooks, telescreen programmes, plays, novels – with every conceivable kind of information, instruction, or entertainment, from a statue to a slogan, from a lyric poem to a biological treatise, and from a child’s spelling book to a Newspeak dictionary. And the Ministry had not only to supply the multifarious needs of the party, but also to repeat the whole operation at a lower level for the benefit of the proletariat. There was a whole chain of separate departments dealing with proletarian literature, music, drama, and entertainment generally. Here were produced rubbishy newspapers containing almost nothing except sport, crime and astrology, sensational five cent novelettes, films oozing with sex, and sentimental songs which were composed entirely by mechanical means on a special kind of kaleidoscope known as a versificator. There was even a whole subsection – Pornosec, it was called in Newspeak – engaged in producing the lowest kind of pornography, which was sent out in sealed packets and which no Party member, other than those who worked on it, was permitted to look at.
Three messages had slid out of the pneumatic tube while Winston was working, but they were simple matters, and he had disposed of them before the Two Minutes Hate interrupted him. When the Hate was over he returned to his cubicle, took the Newspeak dictionary from the shelf, pushed the speakwrite to one side, cleaned his spectacles, and settled down to his main job of the morning.
Winston’s greatest pleasure in life was in his work. Most of it was a tedious routine, but included in it there were also jobs so difficult and intricate that you could lose yourself in them as in the depths of a mathematical problem – delicate pieces of forgery in which you had nothing to guide you except your knowledge of the principles of Ingsoc and your estimate of what the Party wanted you to say. Winston was good at this kind of thing. On occasion he had even been entrusted with the rectification of the Times leading articles, which were written entirely in Newspeak. He unrolled the message that he had set aside earlier. It ran:
times 3.12.83 reporting bb dayorder doubleplusungood refs unpersons rewrite fullwise upsub antefiling
In Oldspeak (or standard English) this might be rendered:
The reporting of Big Brother’s Order for the Day in the Times of December 3rd 1983 is extremely unsatisfactory and makes references to non-existent persons. Rewrite it in full and submit your draft to higher authority before filing.
Winston read through the offending article. Big Brother’s Order for the Day, it seemed, had been chiefly devoted to praising the work of an organization known as FFCC, which supplied cigarettes and other comforts to the sailors in the Floating Fortresses. A certain Comrade Withers, a prominent member of the Inner Party, had been singled out for special mention and awarded a decoration, the Order of Conspicuous Merit, Second Class.
Three months later FFCC had suddenly been dissolved with no reasons given. One could assume that Withers and his associates were now in disgrace, but there had been no report of the matter in the Press or on the telescreen. That was to be expected, since it was unusual for political offenders to be put on trial or even publicly denounced. The great purges involving thousands of people, with public trials of traitors and thought criminals who made abject confession of their crimes and were afterwards executed, were special showpieces not occurring oftener than once in a couple of years. More commonly, people who had incurred the displeasure of the Party simply disappeared and were never heard of again. One never had the smallest clue as to what had happened to them. In some cases they might not even be dead. Perhaps thirty people personally known to Winston, not counting his parents, had disappeared at one time or another.
Winston stroked his nose gently with a paper clip. In the cubicle across the way Comrade Tillotson was still crouching secretively over his speakwrite. He raised his head for a moment: again the hostile spectacle flash. Winston wondered whether Comrade Tillotson was engaged on the same job as himself. It was perfectly possible. So tricky a piece of work would never be entrusted to a single person: on the other hand, to turn it over to a committee would be to admit openly that an act of fabrication was taking place. Very likely as many as a dozen people were now working away on rival versions of what Big Brother had actually said. And presently some master brain in the Inner Party would select this version or that, would re edit it and set in motion the complex processes of cross referencing that would be required, and then the chosen lie would pass into the permanent records and become truth.







