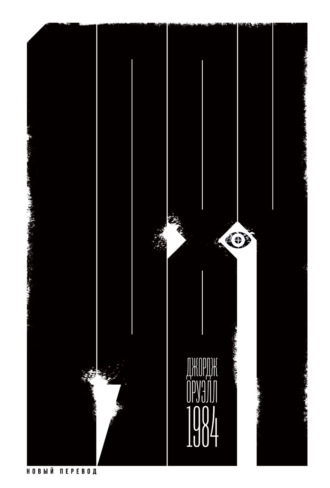
Джордж Оруэлл
1984
И правда, шорты Парсонс по старой памяти напяливает при любой возможности – во время вылазки на природу или за физической работой. С бодрым «привет-привет» он подсел за стол к Уинстону и Сайму. От него разило потом. На порозовевшем лице выступили бусинки влаги. Потеет он, как никто другой. В культурно-спортивном центре всегда можно догадаться по влажной ручке ракетки, что это Парсонс поиграл в настольный теннис. Сайм выложил на стол лист бумаги с длинной колонкой текста и углубился в чтение, держа наготове чернильный карандаш.
– Гляди-ка, даже в обед вкалывает, – сказал Парсонс, толкая Уинстона локтем в бок. – Вот это я понимаю, увлеченность. Что там у тебя такое, старичок? Мне наверняка и не понять. Послушай, Смит, старичок, я тебя зачем ищу: ты мне денежку сдать забыл.
– Какую денежку? – спросил Смит, машинально сунув руку в карман. Примерно четверть зарплаты приходилось откладывать на добровольные взносы, какие – и не упомнишь, столько их всяких разных.
– На Неделю ненависти. Ну, знаешь, со всех домов собирают. Я в нашем квартале казначей. Хотим выступить на всю катушку, уж покажем себя так покажем. Если родные апартаменты «Победа» не вывесят больше всех флагов на нашей улице, то уж точно не потому, что я схалявил. Ты мне два доллара обещал.
Уинстон отыскал и протянул Парсонсу две мятые грязные бумажки, и тот записал Уинстона в блокнот аккуратным почерком полуграмотного.
– Кстати, старичок, – сказал он. – Мне сказали, мой сорванец вчера пульнул в тебя из рогатки. Я его отругал. Пригрозил, что отберу рогатку, если еще раз услышу.
– По-моему, он немного расстроился, что его не взяли на казнь, – сказал Уинстон.
– Ну, что тут скажешь – настрой-то правильный, так ведь? Безобразники они оба, сорванцы, но детки увлеченные. Только и думают, что о Лазутчиках да о войне. Знаешь, что моя девчонка в субботу учудила, когда ее отряд в поход ходил, в Беркемстед? Подговорила еще двух девчонок, они с тропинки свернули и весь день следили за каким-то типом. Два часа висели у него на хвосте, через весь лес прошли, а в Амершеме сдали его патрулю.
– За что? – спросил Уинстон, слегка опешив.
Парсонс с гордостью заявил:
– Моя решила – он какой-то вражеский агент, может, с парашютом сбросили или еще что. Но вот в чем штука, старичок. Как думаешь, чего она насторожилась? Заметила, что туфли на нем странные, никогда таких раньше не видела. Значит, наверно, иностранец. Неплохо для малявки семилетней, а?
– И что с ним стало? – спросил Уинстон.
– Ну, это уж я не знаю. Но не удивлюсь, если… – Парсонс притворился, будто целится из ружья, и прищелкнул языком, изображая выстрел.
– Это хорошо, – рассеянно заметил Сайм, не отрываясь от своего листка.
– Конечно, рисковать мы себе позволить не можем, – смиренно согласился Уинстон.
– Я и говорю: война ведь, – сказал Парсонс.
Словно в подтверждение из телевида над ними разнесся звук трубы. Но на этот раз они услышали не объявление о победе, а лишь сообщение Главного комитета богатства.
«Товарищи! – воскликнул задорный юный голос. – Внимание, товарищи! У нас для вас радостные новости. Мы одержали победу в битве за производственные показатели! Только что подведены итоги выполнения плана по всем видам потребительских товаров, и они свидетельствуют, что уровень жизни за последний год вырос не менее чем на двадцать процентов. По всей Океании сегодня прошла волна стихийных демонстраций: рабочие и служащие вышли на улицы с транспарантами, чтобы поблагодарить Старшего Брата за новую счастливую жизнь под его мудрым руководством. Вот некоторые итоговые данные. Продукты питания…»
Про «новую счастливую жизнь» повторили несколько раз. В последнее время в Главбоге полюбили эту фразу. Парсонс, застывший при звуках трубы, слушал раскрыв рот, c видом торжественным и скучливо-внимающим. За цифрами уследить он не мог, но знал, что вроде как должен радоваться. Он вытащил большую нечищеную трубку, до половины набитую обуглившимся табаком. По карточкам выдавали сто граммов табака в неделю, так что набить трубку доверху удавалось редко. Уинстон курил сигарету «Победа», стараясь держать ее горизонтально. Новую карточку можно отоварить только с завтрашнего дня, а у него осталось всего четыре сигареты.
Силясь отрешиться от шума столовой, он вслушивался в речь, льющуюся из телевида. Сообщали, что состоялись демонстрации, на которых благодарили Старшего Брата за увеличение пайки шоколада до двадцати граммов в неделю. А ведь только вчера, думал он, объявили о снижении до двадцати граммов. Неужели проглотят вранье через какие-то сутки?
Проглотили, конечно. Парсонс – легко, по своей животной тупости. Безглазый за соседним столом – фанатично, страстно, с неудержимым желанием выследить, сдать и испарить любого, кто хотя бы заикнется, что на прошлой неделе выдавали по тридцать граммов. Даже Сайм и тот проглотил, пусть и не в простоте, а благодаря двоедуму. Что же, дивился Уинстон, неужто у меня одного еще не отказала память?
Сказочная статистика продолжала изливаться из телевида. По сравнению с прошлым годом стало больше еды, больше одежды, больше домов, больше мебели, больше кастрюль, больше топлива, больше кораблей, больше вертолетов, больше книг, больше новорожденных – больше всего, кроме болезней, преступлений и душевных расстройств. Год за годом, минута за минутой все показатели рвутся вверх. Как незадолго до того Сайм, Уинстон взял ложку и стал размазывать пролитую подливу, превращая бледную вытянутую лужицу в орнамент и с досадой размышляя об антураже, в котором проходит жизнь. Неужели вот так было всегда? И еда всегда была вот такая на вкус? Он огляделся: низкий потолок, теснота, грязные, натертые бесчисленными спинами стены, помятые металлические столы и стулья, расставленные так близко друг к другу, что люди соприкасаются локтями; погнутые ложки, побитые подносы, грубые белые кружки; все поверхности в жире, во всех щелях сажа; запах – кислая смесь плохого джина, плохого кофе, жаркого с металлическим привкусом да нестираной одежды. Желудком, кожей чувствуешь вечное недовольство, как будто у тебя обманом отобрали то, на что ты имеешь право. Правда, он и в самом деле не мог припомнить, когда вокруг было хоть в чем-то иначе. На его памяти еда всегда была по карточкам, носки и белье – дырявыми, мебель – обшарпанной и колченогой, комнаты – плохо протопленными, вагоны метро – набитыми, дома – развалюхами, хлеб – темно-серым, чай – дефицитным, кофе – отвратительным на вкус. Сигареты слишком быстро заканчивались. В изобилии и по дешевке имелся разве что химический джин. А ведь чем старше становишься, тем тяжелее так жить, и разве это не доказывает, что естественный порядок вещей – не такой? Что это неправильно, когда тошнит от неудобства, грязи, нехватки всего, бесконечных зим, липких носков, вечно не работающих лифтов, холодной воды, дерущего кожу мыла, рассыпающихся сигарет, еды то с таким, то с этаким гнусным привкусом? Почему все это так нестерпимо, если нет генетической памяти о каких-то других временах, когда все было иначе?
Он снова окинул взглядом столовую. Почти все здесь некрасивые – и останутся некрасивыми, во что их ни переодень из синих форменных комбинезонов. У дальней стены человечек, удивительно похожий на жука, сидел за столиком наедине с чашкой кофе и подозрительно зыркал из стороны в сторону. Как легко, думал Уинстон, поверить в существование и даже распространенность идеальных партийцев – высоких, мускулистых парней и полногрудых девушек, белокурых, энергичных, загорелых, беззаботных, – но только если не смотреть вокруг. На самом деле, насколько он мог судить, большинство жителей Авиабазы номер один – низкорослые, смуглые, страшненькие. А вот такие жучки, как этот, особенно расплодились в главках: склонные к ранней полноте, суетливые, с короткими ножками, круглыми лицами и маленькими глазками. Вот какой типаж на самом деле процветал под властью Партии.
Объявление Главбога закончилось, как и началось, сигналом трубы и сменилось неприятной, тренькающей музыкой. Парсонс, воодушевленный и слегка ошарашенный после бомбардировки цифрами, вынул изо рта трубку.
– А неплохо поработал Главбог в этом году, – сказал он, кивая с видом знатока. – Кстати, Смит, старичок, у тебя случаем нет лезвия? Поделился бы.
– Ни единого, – ответил Уинстон. – Сам полтора месяца одним бреюсь.
– А, ну ладно, за спрос же денег не берут, да, старичок?
– Извини, – сказал Уинстон.
Гоготание за соседним столом, умолкшее было на время официального объявления, послышалось снова – такое же громкое, как и прежде. Уинстон вдруг почему-то задумался о миссис Парсонс, соседке с редкими волосиками и пылью в морщинах. Года через два дети донесут на нее в Думнадзор. Миссис Парсонс испарят. Сайма тоже испарят. И Уинстона, и О’Брайена. А вот Парсонса не испарят никогда. И безглазого с гусиным голосом. И людей-жучков, так проворно снующих по коридорам главков, тоже никогда не испарят. И девушку с темными волосами, ту, из сектора художественной литературы, – не испарят и ее. Ему казалось, он интуитивно чувствует, кто выживет, а кто сгинет, хотя что именно предвещает выживание, сказать сложно.
И тут что-то словно выдернуло Уинстона из раздумий. Девушка за соседним столиком повернулась в его сторону и остановила на нем взгляд. Та самая, темноволосая. Она смотрела на него как бы по касательной, но на удивление пристально. Встретившись с ним взглядом, тут же отвернулась.
Тут же вспотела спина. Уинстона передернуло от мимолетного ужаса. Испуг почти сразу прошел, но засосало под ложечкой. Почему она за ним наблюдает? Почему повсюду ходит за ним? Вот досада: он не мог вспомнить, сидела ли она уже за столом, когда он пришел, или появилась после. Как бы то ни было, вчера, во время Минуты ненависти, она уселась прямо за ним без всякой явной необходимости. Наверняка хотела послушать, достаточно ли громко он кричит.
Ему вспомнилась прежняя мысль: вряд ли она штатный сотрудник Думнадзора, но именно добровольные соглядатаи самые опасные. Он не знал, долго ли она на него смотрела – может, и целых пять минут, – а ведь, возможно, он не все время контролировал выражение лица. В общественном месте или в поле обзора телевида крайне опасно погружаться в задумчивость. Выдать может любая мелочь – нервный тик, тревожное выражение лица, манера бормотать себе под нос – все, что указывает на малейшее отклонение от нормы, на попытку что-то скрыть. Неподобающее выражение лица (например, недоверчивое – во время объявления о победе) и само по себе наказуемо. В новоречи даже есть для него слово – «криволик».
Девушка опять повернулась к нему спиной. Может, она и не преследует его, а что второй день садится так близко – совпадение. Сигарета Уинстона погасла, и он аккуратно положил ее на краешек стола. Можно после работы докурить, если табак не высыплется. Вполне возможно, за соседним столиком – шпионка Думнадзора. Вполне возможно, не пройдет и трех дней, как он окажется в подвалах Главлюба. И все же окурками разбрасываться – не дело. Сайм сложил свой листок бумаги и спрятал в карман. Парсонс снова заговорил.
– Старичок, а я тебе не рассказывал, – начал он, похохатывая, но не выпуская изо рта трубку, – как мои малявки подожгли юбку старухе-торговке? Увидели, как она заворачивает колбасу в плакат со Старшим Братом. Подкрались сзади и подожгли спичками. Она вся обгорела, по-моему. Каковы сорванцы, а? На выдумки горазды. Лазутчиков теперь здорово натаскивают, даже лучше, чем в мое время. Как думаешь, что им недавно выдали? Слуховые трубки, чтоб подслушивать у замочных скважин. Дочка свою недавно домой принесла, к двери в гостиную приложила – говорит, слышно в два раза лучше, чем если просто ухо к скважине приложить. Ясное дело, просто игрушка. Но подход-то правильный, а?
В этот момент из телевида раздался пронзительный свист – сигнал, что пора возвращаться на рабочие места. Все трое вскочили, чтобы вступить в битву у дверей лифтов, и из сигареты Уинстона высыпался оставшийся табак.
6.
Уинстон писал в дневнике:
Дело было три года назад, в темное время, в переулке у одного из больших вокзалов. Она стояла у дверей, под фонарем, который почти не давал света. Лицо молодое, сильно накрашенное. Вот именно это меня и привлекло: маска из белил и ярко-красные губы. Партийки никогда не красятся. В переулке больше никого не было, телевидов тоже. Она сказала: два доллара. Я…
Трудно заставить себя продолжать. Он закрыл глаза и надавил на веки пальцами, прогоняя упрямое видение. Ему нестерпимо хотелось громко, трехэтажно выругаться. Или биться головой об стену, перевернуть стол, швырнуть чернильницу в закрытое окно – чтобы злость, грохот или боль заглушили мучительное воспоминание.
Наша нервная система – наш злейший враг, думал он. Нарастающее внутреннее напряжение может в любой момент прорваться каким-то внешним признаком. Он вспомнил человека, мимо которого прошел на улице несколько недель назад. Обычный партиец, лет тридцати пяти – сорока, довольно высокий, худой, с портфелем. Их разделяло несколько метров, когда левую сторону лица прохожего исказил какой-то спазм. И опять, когда они поравнялись: просто судорога, быстрая, как щелчок фотоаппарата, но явно привычная. Он еще подумал тогда: все, конец бедняге. Страшно то, что он, может, и сам не знает о своем тике. А опаснее всего – разговаривать во сне. От этого, кажется, вообще никак не защитишься.
Уинстон перевел дух и продолжил:
Я прошел с ней через задний двор на кухню в подвальном этаже. Там у стены стояла кровать. Лампа на столе едва светила. Женщина…
Он стиснул зубы, чтобы не сплюнуть. Думая о женщине в том подвале, он одновременно думал и о жене, Кэтрин. Уинстон был когда-то женат – возможно, он женат и до сих пор: насколько ему известно, Кэтрин жива. Ему показалось, он снова вдыхает теплый спертый воздух той кухни, запах клопов, нестираной одежды, духов – омерзительных, дешевых, но все равно соблазнительных, потому что партийки не душатся, такое и представить невозможно. Только массы пользуются духами. В его голове этот запах неразрывно связался с блудом.
Когда он пошел с этой женщиной – сорвался впервые года за два. Пользоваться услугами проституток, конечно, запрещено, но это одно из тех правил, которые можно иногда, набравшись смелости, нарушать. Если поймают с проституткой, светит пять лет каторжного лагеря, не больше – если за тобой нет других проступков. Да и этого легко избежать, если только не попасться прямо в процессе. В бедных кварталах полно женщин, готовых продавать себя. Некоторых можно даже купить за бутылку джина, который массам не положен. Проституцию Партия даже негласно одобряет – она дает выход инстинктам, которые невозможно полностью подавить. Сам по себе разврат не так уж и вреден, если ему предаются украдкой, почти без удовольствия, с женщинами низшего, презираемого класса. Непростительна лишь половая распущенность в партийной среде. Впрочем, хотя все обвиняемые во время больших чисток неизменно признаются в этом преступлении, трудно поверить, что они говорят правду.
Партия стремится не просто помешать мужчинам и женщинам поставить верность друг другу выше верности ей, Партии. Ее истинная, пусть и невысказанная, цель – искоренить удовольствие от секса. Враг – не любовь, а вожделение, неважно, в браке или вне брака. На брак между партийцами требуется разрешение специальной комиссии, и – хотя об этом принципе никогда не говорится в открытую – парам, в которых очевидно физическое влечение друг к другу, в разрешении всегда отказывают. Единственной целью брака признается деторождение ради продолжения дела Партии. Секс рассматривается как немного неприятная медицинская процедура – все равно что клизма. Это тоже нигде не зафиксировано, просто ненавязчиво внушается партийцам с самого детства. Существуют даже организации вроде Молодежного антисексуального союза, выступающего за полное целомудрие и для мужчин, и для женщин, зачатие путем искусственного оплодотворения (на новоречи – «ископ») и воспитание детей в государственных учреждениях. Все это – не вполне всерьез, знал Уинстон, но с генеральной линией партии вполне сочетается. Партия старается уничтожить половое влечение, а если это невозможно, то хотя бы извратить и замарать. Зачем Уинстон не понимал, но стремление это казалось логичным и естественным. И усилия Партии весьма результативны – по крайней мере с женщинами.
Он снова вспомнил Кэтрин. Расстались они девять, нет, десять – почти одиннадцать лет назад. Любопытно, что он думает о ней так редко. Иногда и за несколько дней ни разу не вспомнит, что был когда-то женат. Вместе они не прожили и полутора лет. Разводов Партия не допускает, но поощряет расставание бездетных пар.
Кэтрин – высокая, светловолосая, осанистая и грациозная. В лице – что-то от хищной птицы: его можно было бы назвать благородным, если не знать, что это лишь маска, за которой нет почти ничего. Уже в самом начале семейной жизни Уинстон укрепился во мнении – может быть, лишь потому, что узнал ее ближе, чем других людей, – что другой такой глупой, пошлой пустышки не встречал никогда. В голове – сплошные лозунги. Она готова была поверить в любую несусветную глупость, какую бы ни скормила ей Партия. «Человек-пластинка» – называл он ее мысленно. Но жизнь с ней все равно была бы терпимой, если бы не одно препятствие – секс.
Стоило ему к ней прикоснуться, она морщилась и каменела. Обнимать ее – все равно что деревянную куклу на шарнирах. Странно – даже прижимая к себе, она, казалось, одновременно изо всех сил его отталкивает, такое напряжение чувствовалось в каждой ее мышце. Она лежала, зажмурив глаза, не сопротивляясь и не помогая ему, а – покоряясь. Это было невероятно унизительно, а через некоторое время и отвратительно. Но можно было бы жить с ней и дальше, если бы удалось уговорить ее не заниматься сексом. Как ни странно, именно Кэтрин этому противилась. Надо, говорила она, постараться родить ребенка, если получится. Так что ритуал повторялся раз в неделю, как по расписанию, когда ей позволяла биология. Она даже напоминала ему с утра – не забудь, вечером надо будет «делать ребенка» или «выполнять партийный долг» (да, так и говорила). Скоро он уже испытывал форменный ужас, когда подходил назначенный срок. Но, к счастью, ребенок не получался, и в конце концов она согласилась прекратить старания. Вскоре они расстались.
Уинстон еле слышно вздохнул, взял ручку и написал:
Она повалилась на кровать и сразу, без подготовки, невообразимо бесстыдно задрала юбку. Я…
Уинстон стоял перед ней в тусклом свете лампы. Пахло клопами и дешевыми духами. Опустошение и обида смешались в его сердце, а перед глазами возникло белое тело Кэтрин, навеки замороженное гипнотической силой Партии. Ну почему так всегда? Почему у него нет своей женщины, а есть только эти грязные случки, и то не каждый год? Но настоящие отношения уже почти непредставимы. Все партийки одинаковы. Целомудрие вбили в них так же крепко, как и верность Партии. Их педантично приучают к нему с раннего детства – с помощью игр, обливаний холодной водой, ерунды, которую вдалбливают им школа, Лазутчики и Молодежный союз, лекций, шествий, песен, лозунгов и военной музыки. Так уничтожается их естество. Разум подсказывал ему, что должны быть исключения, но сердце уже не верило. Все они неприступны – как велит Партия. А он хотел – еще больше, чем быть любимым, – хотя бы раз в жизни снести эту стену добродетели. Половой акт, приятный обоим, – бунт. Вожделение – криводум. Даже сумей он разбудить Кэтрин, это сочли бы равноценным совращению, хоть она и его жена.
Историю, однако, надо дописать. Он продолжал:
Я подкрутил лампу. Когда я увидел ее при свете…
После почти полной темноты слабый огонек керосиновой лампы казался очень ярким. Впервые он смог как следует разглядеть женщину. Он сделал шаг в ее сторону и остановился, полный вожделения и страха. Уинстон мучительно понимал, как сильно рискует, придя сюда. Патруль вполне может схватить его на выходе: может, его уже ждут за дверью. Даже если уйти, не сделав того, за чем пришел…
Надо дописать, исповедаться до конца. При свете лампы он вдруг увидел, что перед ним старуха. Слой косметики у нее на лице был такой толстый, что грозил треснуть, как маска из папье-маше. В волосах – седые пряди. Но особенно ужаснула его одна деталь: рот женщины приоткрылся – и в нем была лишь чернота пещеры, ни единого зуба.
Он записывал торопливо, прыгающими буквами:
Когда я увидел ее при свете, она оказалась совсем старой – лет пятидесяти, не меньше. Но это меня не остановило, я все равно сделал то, за чем пришел.
Он снова надавил пальцами на веки. Да, он наконец-то дописал, но ничего не изменилось. Никакого терапевтического эффекта. Ему по-прежнему хотелось во всю глотку выкрикивать ругательства.







