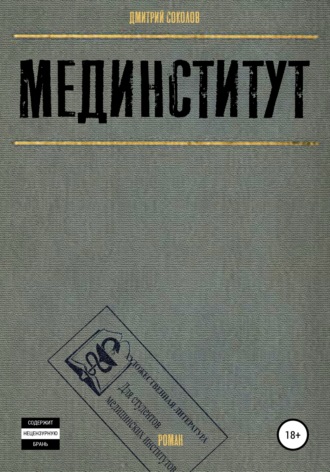
Дмитрий Борисович Соколов
Мединститут
– А кто из хирургов дежурит?
– Самарцев.
– Тогда не могу. Мне его на занятиях хватает…
– Антон, ну некому же!
– А вы Нинку Краснокутскую поставьте, – мстительно предложил Булгаков. – Она совсем нюх потеряла, только жопой крутит, а врачебные назначения выполнять отказывается. Сегодня чуть не два часа упрашивал её премедикацию сделать. Это куда годится?
– Она у меня единственная «дневная». Ты ж знаешь! И что вы с ней никак не поладите – она на тебя мне постоянно жалуется, ты на неё. Сводил бы девочку в кино… Хорошая ведь девчонка. А готовит как? Сыр сама делает!
– Она не в моём вкусе…
– Чего тебе ещё надо, собака? Антон, ну выручай, детка. Выйди в ночь завтра. Будь хорошим мальчиком Бананамом…
Выйдя из кабинетика старшей, который располагался напротив кабинета заведующего, Антон столкнулся с Виктором Ивановичем, тот выходил от Гаприндашвили. Длинное морщинистое лицо хирурга было очень кислое, точно он сейчас раскусил целый лимон.
– Получал п…лей, – кратко объяснил он. – Якобы за некорректное поведение в операционной. А ты?
– И мне досталось, – скромно ответил Антон. – Доцент прочёл лекцию по деонтологии и субординации. Осквернил я им, козлам, храм, видите ли. Извиняться перед Горем заставляет…
– Да-а, – хмыкнул Ломоносов. – Сейчас куда?
– В общагу, отсыпаться. Куда ж ещё? Завтра опять дежурить- Ирка Сабанеева, сука, снова не вышла…
Как видит читатель, Антон перенимал у своего «сэнсея» не только хорошее.
– Подожди-ка меня на выходе. Вместе пойдём…
XV
«На наших глазах родилась эта замечательная традиция. Уже много лет подряд в день коммунистического субботника мы встречаемся с прекрасным искусством музыки. К нам приезжает наш давний друг – Государственный симфонический оркестр Союза ССР»
(Советская пресса, октябрь 1986 года)
С окончанием рабочего дня отток персонала и студентов из всех 31 отделений «десятки» был не менее впечатляющ, чем утренний приток. В 15.00 лифты, коридоры и лестницы переполнялись медиками. Все со счастливыми лицами спешили покинуть стационар и заняться делами. Особенно людно было внизу, в холле и в раздевалках.
Антон всегда переодевался в своём отделении в сестринской, поэтому спокойно забрал куртку из прокуренной комнатки и спустился. В гардеробе давились сразу несколько групп. Гардеробщица была одна, пожилая хромая женщина. Хоть она и приносила в обеих руках сразу по нескольку курток и плащей, желающих получить верхнюю одежду назад становилось всё больше и больше.
Антон покачал головой, усмехнулся. Как штатный работник больницы, он имел способы обходить такие столпотворения. Затем вышел на широкое, просторное крыльцо, вынул полпачки болгарских сигарет «Феникс», прикурил у Говорова, который тоже стоял там и ждал кого-то. Одногруппники почти не разговаривали. Они терпеть не могли друг друга друга. Следом вышли трое подружек- Берестова, Винниченко и Кравцова, смеясь, начали спускаться по ступенькам. Говоров поспешил за ними. Булгаков равнодушно проследил, как он схватил Надьку-Крупскую за руку. Как что-то говорил, как та вырвала руку и пошла за остальными, как Говоров бросился за ней.
Антон вздохнул. Там, где появлялась Берестова, всегда начинались истории. Её всегда кто-нибудь ждал после занятий, одна она никогда не уходила.
«Давалка, – с неприязнью подумал Булгаков. – Дешёвка. С кем только не трахалась…»
Причина столь сурового и презрительного мнения об однокурснице заключалась в том, что Берестова уже давно и безнадёжно нравилась Антону! В самом начале первого курса (был он или приснился, этот первый курс – так, казалось, давно он был, в другой, не в этой жизни) они даже немного дружили. Он несколько раз провожал её домой после занятий. Два раза ходили в кино и один раз, после первой стипендии, посидели в кафе-кондитерской.
Антон тогда был развитый невинный мальчик-отличник, мечтавший облагодетельствовать человечество. Он был уверен, что обязательно придумает лекарство от рака или станет гениальным хирургом, или откроет что-то глобальное. Например, способ находиться на любой глубине без дыхательной аппаратуры. Надя тоже мечтала о научных лаврах, хотя была не столь романтична. Её идеалом была женщина-хирург, первоклассный специалист и «очень ухоженная», такая, в которую обязательно влюбишься. Сама же она больше всего любила бы свою работу и была бы несчастна из-за этого в личной жизни.
Молодые люди много спорили об этом. Спорили о русской классике, которую оба знали слишком хорошо для средней школы, спорили о том, нужно ли будущему хирургу изучение общественных наук. Спорили по поводу только появившегося тогда фильма «Через тернии к звёздам», а так же по поводу фильма Андрея Тарковского «Сталкер» – Наде он очень понравился, а Антону нет, он даже ушёл с середины показа. Каждый раз, когда они встречались, между молодыми людьми начинался спор- вернее, не спор, а словесная игра, кто больше читал, кто скорее догадался, кто вернее может дать определение чему-то.
Такая честная, открытая дружба-игра тянулась два или три месяца и закончилась как-то сама собой. Их группы в октябре разбили по расписанию, и встречаться на занятиях стало затруднительно. По вечерам нужно было заниматься упорно – учёба, особенно анатомия, требовала многочасовой зубрёжки. Поэтому до Нового года встретились всего несколько раз, а там подступившая сессия заставили забыть друг о друге.
Попытку возобновить отношения Антон сделал в начале второго курса. Тогда, проучившись один год, студенты разъехались после сессии и впервые встретились на кафедре биохимии после летних каникул. Антон был очень рад оказаться рядом с Берестовой на первой лекции и после занятий бросился с энтузиазмом провожать прежнюю подругу. Но Надя стала какая-то новая. Лето она провела на юге, вернулась похудевшей, загорелой, повзрослевшей, и на бывшего «ухажёра», который не подходил и не звонил несколько месяцев, смотрела с удивлением. Кажется, он совсем не изменился и ничего, кроме гуляний вечером под ручку по проспекту Ленина и эпизодических походов в кино, предлагать не собирался.
У неё уже было, с кем гулять и ходить в кино, и не только. Наде исполнилось 18, и она считала себя достаточно взрослой. В настоящее время у неё был приятель, женатый лётчик с военного аэродрома. Он служил в Германии, был в Венгрии и в Чехословакии, рассказывал интересно, ездил на своей машине, водил в ресторан, словом, был «мэн» что надо. В настоящее время этот роман, завязавшийся в июле в Алуште, был в самом разгаре. Более того, на неё «положил глаз» Вася-Триптофан (по фамилии Трифонов-Кафтанов) с пятого курса, поэт и гитарист, непременный участник художественной самодеятельности, известный всему институту весельчак и повеса. Триптофан звал на выходные в Москву, куда он уезжал на слёт студенческой самодеятельности. Жизнь становилась такая интересная! А общаться с этим «умненьким мальчиком», играть в его школьные игры, у неё никаких причин уже не было.
Антон, получив отказ, повёл вдруг себя глупее некуда – начал всюду ходить за Надей, ждать её после занятий, звонить, приставать с какими-то разговорами и упрёками, страдать, тосковать, напиваться, пропускать лекции – в общем, достаточно скучная и банальная история, вспоминать которую было тяжело. Вскоре их отношения совсем прекратились, они перестали и здороваться, и замечать друг друга. Если случалось отозваться друг о друге третьему лицу, отзывались очень отрицательно. Впрочем, внезапная и агрессивная антипатия после периода безмятежной дружбы свойственна многим людям, особенно, если в ходе отношений они меняли взгляды на жизнь или просто взрослели.
Его легонько стукнули по плечу, и Антон, очнувшись от мыслей, увидел долговязую фигуру Ломоносова в пальто и шляпе, начавшего энергично спускаться по ступенькам. В руке он держал вместительный портфель. Булгаков поспешил за ним. Молча они дошли до остановки, молча втиснулись в переполненный трамвай. Молча проехали шесть остановок и молча вышли.
Остановка называлась «Шпалопропиточная» и славилась единственным на весь город, не закрытым пивным баром. Это был вместительный павильон человек на триста, пиво разливалось из автоматов по 20 коп. поллитра.
Медики так же молча пролезли в дырку забора, срезав себе путь, и оказались перед серым жестяным павильоном. Внутри многоголосо гудело, из дверей валил табачный дым, чувствовалось, что бар переполнен. На улице под начавшимся дождём мокла очередь человек в пятьдесят. Судя по выражению их лиц, единственным их желанием было поскорее попасть внутрь, но из бара почти никто не выходил, а патруль из четырёх крепких дружинников с повязками на рукавах следил за порядком крепко: впускали один на один- один выходит, один заходит.
Виктор Иванович и студент некоторое время подождали, потом Ломоносов тронул товарища за рукав и они пошли прочь. Через два квартала начинался небольшой скверик. Хирург выбрал скамейку посуше, сел и показал на виднеющийся в конце аллеи гастроном.
– Сбегай, возьми там бычков каких-нибудь в томате и спизди стакан, – коротко приказал он.
– А зачем, Виктор Иванович? У вас что, выпить есть?
– Гляди сюда, – Ломоносов приоткрыл портфель и, оглянувшись, показал Булгакову два горлышка коньячных бутылок, завёрнутых в белую бумагу. – От мужа Маринки презент нам с тобой. Понял? Дуй.
Вскоре Антон вернулся. На закуску он принёс полкило вафель, мочёные яблоки и два шоколадных батончика.
– А что, посущественней ничего, что ли, не было? Сырок там какой-нибудь или хотя бы тушёнка? Что ты такую херню принёс? – спросил хирург. – С такой закусью и такой коньяк?
– Не было, Виктор Иванович. Я хотел сыру взять, но там как раз завоз масла сливочного и творог выбрасывают, бабок у прилавка полно, не подойдёшь. А с тушёнкой в стране напряжёнка…
Гранёный стакан, который затем Булгаков вынул из-за пазухи, он незаметно стащил в буфете. Дождь перестал, но всё равно было сыро и противно. Сели на лавочку. Ломоносов пристроил портфель боком у себя на коленях, приоткрыл, разложил закуску. Ловко откупорив одну из бутылок, он налил полстакана и заткнул горлышко. С бутылками Виктор Иванович обращался умело.
– Одним глотком, быстро, – скомандовал он.
Едва Булгаков перелил обжигающую жидкость себе в рот, старший забрал у него стакан, налил себе и глотнул залпом. Пока Антон с выступившими на глаза слезами ковырялся в портфеле и жадно сосал мочёное яблоко, капая себе на брюки, Ломоносов молодецки нюхнул рукав и медленно полез во внутренний карман, вынул измятую пачку болгарских сигарет «Стюардесса», выщелкнул сигарету, закурил, удовлетворёно пыхнул. Потом засунул пачку обратно, нашел руку Антона, вложил ему в ладонь что-то и сжал. Булгаков моментально покраснел и начал всовывать сложенную бумажку обратно.
– Ты что- дурак? – строго спросил Виктор Иванович, сверкнув очками. – Дурак?
– Нет, не дурак. Но…
–Твоя доля. Ну, хули вскакиваешь? Спрячь и не елозь.
– Нет! Виктор Иванович, я не могу. Нетрудовые доходы! Заберите…
– Сейчас! Комсомолец, блять. Спрячь, я сказал! – прикрикнул старший. – Сказано – твоё, значит, твоё. Самый что ни на есть трудовой доход, только без налога государству. Экий ты мудак, Булгаков. Всю жизнь на зарплату жить собираешься?
Антон угрюмо отвернулся и брезгливо спрятал бумажку, не глядя на неё и не разворачивая. Ломоносов повеселел.
– Так-то лучше. Ну, проскочила первая? Эта самая трудная, дальше лучше пойдёт. На-ка ещё соточку… Ёбнул? Ну вот, молодец…
Хлебнув ещё полстакана, Антон моментально ощутил тепло, прилив сил и необыкновенную ясность мышления. Он скушал пару вафель, вытер с губ крошки и закурил. Рядом сопел и дымил сигареткой Ломоносов. Дождь давно перестал, и в парке уютно темнело.
– Слушай, хорошо, что мы в этот гадюшник не пошли, – заметил он. – Вот же хуйня какая вокруг творится – не посидеть нормально, не выпить… Так что, говоришь, Самарцев тебя ругал?
Антон вкратце рассказал о разговоре с доцентом. Виктор Иванович выслушал не перебивая, только сигареты менял часто, прикуривая одну от другой и щурился.
– Я давно замечаю, что Аркаша-карьерист Петрухе жопку лижет, – проговорил он, – но чтобы так старательно… И Гиви за него теперь вступается, хотя сначала только плевался. Это интересно. Всяких уродов я видел в хирургии. Но чтоб так нагло себя вели…
– Послушайте, Виктор Иванович, в чём здесь дело? Откуда такой неограниченный блат? – очень сильно оживился Булгаков, всем корпусом разворачиваясь к своему учителю. – Ну учатся у нас – сын нашего декана, дочка профессора Карпенко с кафедры урологии. Ну, не без заносов ребята, но не борзеют. А вот откуда этот Горевалов? Что он не институтский, то есть не сынок никого из профессорско-преподавательского состава, мы уже выяснили. Но откуда он тогда?
– Похоже, орудует очень серьёзная мафия… – медленно проговорил Ломоносов. – Я не знаю. Фамилия неизвестная, ни у кого из центрового городского начальства такой нет.
– Может, он непрямой родственник…
– Может. Но всё равно странно – сейчас влиятельными родственниками хвастаются на всех углах. А хули ж тогда он скрывает?
– А если они из КГБ или из партйных сфер? Там же все засекречены.
– Не до такой степени. Сейчас гласность, Антон. Да и чего скрывать, даже если и из КГБ? Да пиз@дни он такое кому-нибудь по секрету, так завтра все знать будут, только молчать-бояться. Нет, тут что-то не то. Впрочем, х… с ним, – Ломоносов скривился и начал возиться с бутылкой. – Хирург только из него гавённый получится, как бы Сам и Гиви не шестерили.
– Но если давать оперировать, то быстро ведь руку набьёшь? За два года, наверное, можно, – ревниво заметил Антон. – Вон, в 3-й хирургии Емельянов младший, интерн, сын заведующего. Так батя его натаскивает, на все свои операции берёт, первым. Толик хвастался, что уже сам торакотомию делает…
– Чего? – остановился Ломоносов и уставился на Антона. – Ты в цирке был?
– Где? В цирке? Был в Москве… в детстве…
– Видел там номер – медведь на коньках?
– Видел, по телевизору.
– Значит, можно медведя научить на коньках кататься?
– Можно…
– А чемпионом по фигурному катанию такой медведь стать может?
– Не может.
– Вот так и наша профессия. Оперировать обучить можно – натаскать, вдолбить, отшлифовать технику. Хули, если руки есть. Одну только вещь нельзя сделать – сделать дурня хирургом, ибо хирург – это чемпион…
– Так, граждане, распиваем? – раздался звучный радостный голос. – В общественном месте? Сержант Крапивин. Документики попрошу ваши.
Рядом с «пьющей» скамейкой незаметно появился рослый, румяный милиционер с рацией и кобурой на ремне. Картинно отдав честь, он протянул руку в перчатке за документами. У Булгакова неприятно засосало под ложечкой. Ещё не хватало! Вот и попались. Сейчас мент узнает кто они и откуда, а потом на институт придёт письмо о распитии студентом Булгаковым спиртных напитков в общественном месте. Дальше последует вызов в деканат, проработка на комсомольском собрании… диплом вдруг показался Антону далёким, как никогда и весьма призрачным.
– А в чём дело, сержант? – высокомерно спросил Ломоносов. – Мы, кажется, сидим тихо, не нарушаем, в кустах не ссым.
– Портфельчик ваш откройте. Не хотите? Тогда документики. Или пройдёмте в отделение, оформим протокольчик.
Ломоносов засопел и снова полез во внутренний карман, порылся там и протянул милиционеру какой-то документ в обложке.
– Ты посмотри повнимательней, – попросил хирург. – Там всё написано.
Сержант перелистал записную книжку, нашёл какой-то листочек, незаметно вынул его, спрятал в карман. Улыбнувшись, он вернул книжку владельцу, снова взял под козырёк.
– Всё в порядке, товарищи. Показалось. Пока сидите. Только не засиживайтесь – у меня через час смена.
– Поняли, сержант. Сейчас закончим…
Милиционер повернулся и пошёл дальше по аллее. Ломоносов хмыкнул.
– Во бля, жизнь настала, – вздохнул он. – Ещё хорошо, что нам служивый попался, четвертак, сука, взял. Но с этими ещё хоть как-то договориться можно. А вот если б дружинники – то всё, хана. От тех не откупишься. Друг на друга стучат… комсомольцы. Эти б в отделение поволокли.
– Виктор Иванович, – тихонько спросил Булгаков, всё ещё не веря, что опасность уже позади, – вы ему что, двадцать пять рублей дали?
– А сколько ты бы дал? Десятку – мало. Нет, десятку он бы взял, только сидеть бы здесь не дал, погнал. А так он нас ещё час поохраняет. Деньги, сука. За деньги сейчас всё можно.
– Не всё, – сердито ответил Антон. – Деньги не делают нас.
Ломоносов иронично глянул на младшего товарища, презрительно усмехнулся.
– Эх ты, комсомолец! До чего ж у молодёжи мозги засраны. Думать надо больше, смотреть по сторонам и думать. Не думаешь ведь ни х… Всё коммунизм строить собираешься.
– «Всякое умаление социалистической идеологии, – не то в шутку, не то всерьёз, процитировал основоположника Булгаков, – влечёт за собой наступление идеологии буржуазной»…
–Ладно, давай ещё по пятьдесят – что-то холодно становится…
Новая порция пятизвёздочного коньяка помогла быстро забыть о неприятном инциденте. Снова закурив, заговорили «о бабах». Ломоносов поинтересовался, почему Булгаков до сих пор не «трахнул» Краснокутскую.
– Хоть я уже старый, но с ней без целлофанового пакета говорить не могу, – признался Виктор Иванович. – Мозгов нет, но бабец первоклассный. Ты ей нравишься. Кинул бы палчонку- и тебе веселее, и ей радость. И всему коллективу развлечение.
– Виктор Иванович, а зачем пакет целлофановый?
– Драчить, – без тени смущения признался пятидесятилетний доктор. – Она же настоящая провинциальная секс-бомба в белом халатике. Мне уже не светит, не даст, а тебе как два пальца. Кстати, у неё своя квартира на Героев Сталинграда – знаешь?
– Да знаю, она как-то говорила…
– Ну так что ты время теряешь? Ты уже без пяти минут врач! Хирург!! Давай засаживай ей и волоки её в загс, пока другие шустрее не оказались.
– Жениться?! Виктор Иванович, вы серьёзно?
– А что? Велика важность! «Бабец» это я сейчас сгоряча пизд@нул… Честная, порядочная девушка. А не понравится тебе семейная жизнь – разведётесь, делов-то. Главное, у тебя прописка в К… будет.
– Жениться ради прописки?! За кого вы меня принимаете?
–З а мудака!!– чуть не во весь голос крикнул седой хирург и чуть не уронил с колен портфель. – Без прописки ты никто, нуль, меньше нуля, отрицательная величина! Как ты распределяться без прописки думаешь? Мозги есть?
– Ну, придумаю что-нибудь, – неуверенно ответил Антон. – К родителям в Щорсовку, конечно, не поеду. Распределюсь куда-нибудь. На Север… там зарплаты большие.
– На Север! За длинным рублём желающих знаешь сколько? В Москву меньше желающих! На Север!
– Потом, в Новоплатонове больница строится… там 80-коечная хирургия…
– Чего? В Новоплатонове? Да ты хоть был там? Там ещё фундамент не заложили! Да и кому ты в этой больнице нужен? Там штаты в хирургии на 100 лет вперёд уже набраны. Ну скажи – кому?
– Ну, там дежурства какие-нибудь пока возьму…
– Ты безнадёжен, – объявил Ломоносов, разливая снова. – Ты хоть вокруг себя иногда смотришь? Хороший ты парень, Антон, не трус, не стукач, но – мудак. Страшный мудак, клинический. Я не со зла, я любя тебя это говорю. Пять лет назад я бы тебя к себе в отдел взял не задумываясь. Но это я, и то пять лет назад. Запомни – никому ты здесь не нужен. Никому. Если не хочешь попасть в глухую деревню…
– А что деревня? Что вы меня все деревней пугаете? Ну деревня, ну и что? Три года можно и в деревне отработать, опыта набраться. Зато потом…
– Пей лучше, – угрюмо сказал Ломоносов. – А вообще с такими высокими принципами, как у тебя, нужно было или на тридцать лет раньше родиться, или не родиться совсем.
– Ну вот, не повезло мне – родился я в семье коммунистов.
– Происхождение тебе сейчас точно не поможет. А вообще, человеку, прежде чем родиться, нужно принять 150…
Закончив первую бутылку, принялись за вторую. Виктор Иванович предложил поехать и «немедленно выеб@ть Краснокутскую», после чего начал вставать со скамейки, собираясь осуществить своё намерение. Стало ясно, что уже пора ехать домой. К тому же час, обещанный сержантом Крапивиным, истёк, и с минуты на минуту в сквере могли появиться новые стражи порядка или команда бравых дружинников, что ещё хуже. Начало темнеть, кое–где зажглись фонари.
Булгаков повёл слабеющего наставника к остановке трамвая. Ломоносов что-то бормотал, про то, что «довели страну» и сказал что-то нехорошее в адрес Генерального секретаря ЦК КПСС.
Становилось ясно, что в общественном транспорте лучше не ехать. Антон остановил такси, усадил Ломоносова, сел сам и назвал адрес его общежития.
– Пятёра, – бросил водитель.
– Как… пять рублей?! Всегда ведь трояк был!
– Жизнь дорожает. Вас двое. За двоих- пятёра, и это ещё по-божески…
Пришлось смириться. Доехали минут за двадцать. Виктор Иванович жил в общежитии Трубопрокатного завода, Булгаков уже бывал у него несколько раз. Расплатившись, он вытащил крепко заснувшего товарища из машины и почти понёс к проходной.
– Это что? Это ещё куда? – заголосила вахтёрша, увидев пьяненькую парочку. – Куды прётесь в нетрезвом виде? В общежитии запрещено! Вот я сейчас наряд вызову, чтоб в вытрезвитель вас отвезли!
Она выскочила из-за своего стола и встала на пороге, растопырив руки, намереваясь умереть, но не пропустить пришельцев. Вдруг суровое лицо её исказилось гримасой сочувствия. Она узнала Ломоносова.
– Виктор Иванович!– шёпотом воскликнула вахтёрша. – Мать честная! Где же ты так напился? Ведь только три дня назад обещал мне, что не будешь, и опять… Пошли, пошли быстрее, пока никто не видел, веди, парень, а я пока лифт вызову.
Пока везли Ломоносова на восьмой этаж, вахтёрша успела сообщить Булгакову, что Виктор Иванович спас её сына, когда парня порезали ножом на дискотеке, что он оперировал злокачественную опухоль её сестре, что после операции та уже два года как заново родилась, что это «хирург от бога», что человек он хороший, душевный, что вот зачем только пьёт… Если увидит староста этажа или комендант, или из Заводского комитета кто-нибудь- выселят тут же, и на то, что врач, не посмотрят, и ему, и ей достанется…
XVI
«Возмущение моё было велико, и я сказал об этом факте на партийном собрании как раз по поводу июньского Пленума ЦК КПСС. Правда, я сотрясал воздух, потому что ни А. Синицына, ни Ю. Пчёлкина на этом собрании не было, как не бывает их на других важных партйных собраниях»
(Советская печать, октябрь 1986 года)
Времени было только шесть часов, основная масса обитателей общежития была ещё на смене, коридоры пустовали и обмякшего хирурга удалось незаметно довести до двери комнаты №814. Антон постучал. Изнутри послышались стремительные шаги. Дверь распахнулась, чуть не задев хозяина по носу. В проёме появилась высокая черноволосая молодая женщина в потёртых джинсах и клетчатой рубашке, слишком красивая для общежития. Эта мысль обязательно приходила к каждому, кто впервые видел её здесь.
– Спасибо, Вера Мироновна, – сразу же сказала эта длинноволосая брюнетка, мгновенно оценив обстановку и метнулась назад, освобождая дверной проём. Внутри сильно и вкусно пахло жареной рыбой. Антон и вахтёрша ввели – внесли Ломоносова в маленький коридорчик и закрыли дверь. Хозяйка квартиры появилась вновь, что-то быстро сунула Вере Мироновне в кармашек халата и подхватила Виктора Ивановича с её стороны.
– Повели в комнату, Антон, я диван разложила. Там и уложим его.
– Ой, Маргариточка, вы что? Заберите-заберите, вы за кого это меня принимаете? – вахтёрша моментально выхватила из кармана сложенную пятирублёвую бумажку и бросила на крышку обувного ящика, не разворачивая. – Это ещё что? Да я тридцать лет была ударницей Электролизного цеха! На Доске почёта висела! И до сих пор, между прочим, вишу, хоть уже два года на пенсии! Ишь чего придумали! Служанка я вам, что ли? Я- советская вахтёрша и при исполнении сейчас! Виктор Иванович мне сына и сестру спас. Я ему по гроб жизни обязана. А ты мне деньги суёшь! Обидеть хочешь?
– Извините, Вера Мироновна, – с некоторой досадой отозвалась та, – простая благодарность, но если для вас это оскорбительно, то ещё раз извините, и большое спасибо, что вы помогли Вите. Если б не вы сегодня дежурили…
– Ой, уж не знаю. Беда с ним – спивается ведь мужик. Время-то сейчас какое? Горбачёв-то как за алкаша взялся? Чуть не тридцать седьмой год мужикам устраивает! О господи, да будет воля твоя…
Вахтёрша, вздыхая и сетуя на «порядки», ушла. Антон и Маргарита дотащили Ломоносова до дивана, положили. Булгаков помог женщине снять с хирурга очки, пальто и ботинки. Она немного постояла над ним в раздумье – снимать ли всё остальное или нет. Виктор Иванович что-то пробормотал довольно и повернулся на бок, поджав колени к животу. Ему подложили под голову подушку, укрыли толстым шерстяным пледом и оставили спать так. Женщина деловито открыла мужнин портфель, скривилась, вынула оттуда одну полупустую, другую совсем пустую коньячные бутылки, остатки яблок и вафель, неодобрительно посмотрела на Антона. Тот развёл руками, повесил голову, и начал одевать ботинки, собираясь уходить.
– Голодный? – вполголоса спросила она. – Небось и не закусывали? То-то Витюшу так развезло. Ладно, подожди, Антон. Я зубатку пожарила, думала, придёт и поужинает. Но похоже, Виктору Ивановичу не до ужина сегодня. Ты-то составишь компанию? Пока рыба не остыла.
– Нет, Маргарита Густавовна, спасибо, – отказался Антон. – Большое спасибо, пора мне. Меня девушка ждёт…
– Да какая у тебя девушка? – устало спросила хозяйка. – Девушка! Ты же на хирургии чокнутый. Не выдумывай. В крайнем случае подождёт твоя девушка. Давай-ка, снимай куртку, мой руки.
Пока Антон мыл руки под краном в крошечном санузле, Маргарита Густавовна накрыла в миниатюрной кухоньке ужин – сковородку жареной рыбы, картошечку, хлеб, салат из морской капусты, немного варёной колбасы. Справлялась она с этим легко и быстро. Маргарите Густавовне было не более 30 лет, и она была из той породы женщин, которым скуповатой в прочих случаях природой было щедро отмерено и красоты, и ума, и такта.
Прекрасная фигура, чистое правильное лицо, густые длинные волосы с отливом, шея потрясающей длины и наклона, небольшой, но сильный и оформленный бюст… Любая неправильность линии, любой самый маленький изъян выглядели бы вопиюще несоразмено и попортили бы всё впечатление, но в Маргарите всё было строго подчинено единому плану и замыслу. Уверен, что именно такая женщина встретилась когда-то Достоевскому, что именно про Маргариту он сказал бы снова и снова: «красота-страшная сила»!
Никакая мизерность обстановки и невзрачность наряда не могли бы пригасить ослепительность хозяйки №814. Это тем более чувствовалось, что молодая женщина не прилагала никаких усилий нравиться, что пара дешёвеньких пластмассовых браслетов на левом запястье и крошечные серёжки в её ушках никак не могли впечатлять сами по себе, но на ней и они смотрелись что надо. Так же и скудный стол в её исполнении выглядел как стол на царской трапезе в юмористическом фильме «Иван Васильевич меняет профессию».
Булгаков, войдя на кухоньку, моментально ощутил зверский голод. Теперь никакая сила в мире не смогла бы удалить его отсюда. Он и хозяйка сели по углам стола, Маргарита разложила куски рыбы по тарелкам, не спрашивая Антона открыла початую бутылку, налила коньяк в маленькие рюмки. Не чокаясь выпили, начали есть.
– Оперировали? – спросила она. – И как? Надо понимать, удачно? Это что, презент за операцию? – она щёлкнула по бутылке.
Антон кивнул, усиленно жуя. Зубатка была обалденно вкусная, прожаренная умело, до корочки. На минуту он засомневался, сказать ли Маргарите Густавовне и про деньги – может, эта новость подняла бы ей настроение и сделала снисходительнее к коматозному мужу – но передумал.
– А я на приёме отсидела шесть часов, – объявила женщина. – Хорошо, что вызовов сегодня не было, не пришлось мотаться по этим гнусным рабочим районам. На приёме тоже скукота – одни бабки. Завидую вам – вы хоть оперируете. Если б ты знал, Антон, как я по операционной соскучилась. С каким бы удовольствием я вместо того, чтобы измерять бабушкам АД и назначать им нитроглицерин, провела бы парочку эндотрахеальных наркозов… Участковый терапевт – какая мерзость. Ещё налить? Тебя-то не развезёт?
– Маргарита Густавовна, а почему вы по специальности не устроитесь? У нас в «десятке», я точно знаю, есть вакансии. В анестезиологии нет, но в реанимации есть точно.
– Не берут. Я ходила несколько раз. Виктор Иванович хлопотал…
– А в чём дело-то? Вы же специалист, в Москве в НИИ работали. Нашим ещё сто очков вперёд дадите.
– Ну, скажешь. Я отработала анестезиологом всего-то два года, пока не вышла замуж и сюда не переехала. А не берут меня, – Маргарита проглотила свою порцию не поморщившись, залпом, по-мужски, и сразу закурила сигарету «Космос», – не берут потому, что прописки нет. Без прописки мой потолок – поликлиника, там кадры закрывают на это глаза. Пока закрывают…
– А почему нет прописки-то? Можно сигарету, а то мои скурили…
Сигареты «Феникс» у него ещё оставались, но «Космос» был намного лучше «болгарии» и соответственно стоил 70 копеек против 35.
– Конечно, бери. Вся сложность, Антон, в том что прописка у меня есть, но только в другом городе.
– В Москве?
– Да, в столице нашей Родины, в городе- герое Москве, в котором я родилась и выросла, – со вздохом призналась женщина. – На улице Народного ополчения. Бывал в Москве?
– Давно, в детстве, – поморщился Антон. – Народу много, душно. Кроме метро, ничего не помню. Меня ещё в автоматах защемило, я потом заикался две недели. Родители даже к логопеду меня водили…
Маргарита усмехнулась.
– Ну, хоть лестницу-чудесницу повидал, и то хорошо. На всё остальное смотреть, конечно, не стоит…
– Ещё паровоз помню, на котором гроб Ленина везли, – добавил Антон.– Мороженое там вкусное, «Лакомка» за 28 копеек. Дед мне тогда целых четыре купил, не сразу, а за весь день. Я до того мороженого никогда не ел. А вы любите такое?
Она хмуро кивнула.
– Так вы выпишитесь оттуда – делов-то. А здесь, в общаге разве не пропишут? По-моему, это вообще элементарно.
Маргарита не ответила, курила молча. Лицо её вдруг стало строгим, холодным и чужим. Булгаков не осмелился повторить вопрос. Он общался с нею раза четыре, и всегда находил Ломоносову прекрасной собеседницей. Она была проста в разговоре, легко его понимала и очень любила хирургию. Но едва речь касалась её прежней жизни в Москве и всего, связанного с этим городом, Маргарита моментально замыкалась, комкая разговор и дистанцируясь максимально. Это обижало. В таких случаях лучше всего было уходить, что Булгаков и решил сделать после следующего куска рыбы.



