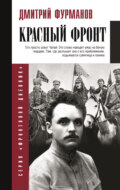Дмитрий Фурманов
Летчик Тихон Жаров
Тих, прозрачен и душист июньский вечер. По березовой роще из конца в конец легким аукающим звоном плывут шорохи, высвисты, четкая дробная трель вечерних птиц… На просторной круглой поляне, у самой опушки, будто картонные белые домики, приникли в траву парусиновые палатки летчиков.
Там, в тени, спасаясь от туч комарья, с накрытыми лицами – расстегнутые, раздетые, в одном белье, с цигарками в зубах, кто с книжкой, кто с газетой – лежат они в сумерках, отдыхают. Или сбираются артелью – и через поляну, за рощу, на Валку купаться. Валка – узкая, тихоструйная речонка с отлогими берегами, глухо заросшими высокой травой. На Валке такая же тишь, даже тише, чем в роще. Только в осоке кряхтят тяжело и мерно огромные жирные лягушки… Над водой, над тихими, чуть слышными струями прозрачной газовой сетью поднялся вечерний туман… Из-за реки глухо, невнятно откуда-то издалека слышны голоса – это в деревне. Туда летчики ходят брать молоко, а иной раз по вечерам шатаются к девушкам: песни петь, играть на гармонике или парами, ныряя во тьму, пропадают за прудом, в лугах, в перелесках…
Сегодня вечером никто нейдет ни купаться, ни к девушкам на деревню. Сегодня у всех на душе тяжело и мрачно, лица у всех угрюмы и строги: за рощей, на пригорке, под свежим холмиком земли они зарыли сегодня лучшего и любимого товарища – Никиту Зорина. Он погиб в воздушном бою, обуглился до костей в пламени сгоревшего самолета. За три недели схоронили двоих, но особенно тяжела была эта последняя утрата – и сегодня целый день ходят все с понурыми головами, стараются реже встречаться, меньше говорить: каждому хочется выносить, изжить в себе свое цельное, недробленое горе.
Из дивизии прилетел новый летчик, Тихон Жаров, – он работал на московском аэродроме и, говорят, считался одним из лучших. Здесь его знает Крючков, они в прошлом году вместе летали где-то под Киевом.
Каждое утро, на заре, из-за леса подымается неприятель, и нашим стареньким, растрепанным самолетам не под силу справиться с ловким, быстрым хищником. Завтра против него подымется Жаров, новый летчик – и будут снова в напряжении, с тревогой ждать товарищи рокового исхода…
Жаров весь день кружится у машины – осматривает гайки и винты, ощупывает, привертывает, смазывает, приглаживает ее, как любимого человека… Он приходил сюда с техником, и целых полтора часа они простояли над машиной, заглядывая и прощупывая со всех сторон, или, лежа на спине, подползали под широко раскинутые крылья и снова высматривали, щупали, мазали холодные винтики, гайки, болты. Жарову хорошо знакомо это тревожное состояние перед решительным делом – не впервые вылетать ему в неравный бой, но сегодня тревога как-то особенно свежа, а мысль по-особенному чутка, быстра и неспокойна. Что это: неверие ли в свои силы, или опасение за испытанного, но усталого, растрепанного друга – за свой аппарат? Или еще что?..
Может быть, скорбь товарищей о дорогом покойнике – не передалась ли она и ему: круглый холмик влажной, свежей земли нейдет из головы.
Жаров мимо старта, где с распростертыми крыльями выстроились в ряд самолеты, мимо крайней палатки поплелся тихо по узкой лесной тропе, сам не зная куда и зачем идет…
У самой реки столкнулся с Крючковым – тот в жестяном измызганном чайнике с веревочной ручкой тащил воду на вечерний чай.
– Ты что тут бродишь один? – окликнул он Жарова, улыбаясь бесцветными водянистыми глазками. – Аль не привык к новому месту?..
– Да вот тут… – начал было Жаров, но понял, что отвечать собственно нечего, – не кончил, спросил сам: – Заправиться?..
– Идем вместе, – ответил тот, подходя к Жарову и подхватив его под руку.
Повернули, пошли по тропинке обратно и мало-помалу разговорились, ушли в воспоминания о прошлом, о работе под Киевом, о живых и погибших товарищах… Чайник с водой уж давно подвесили у придорожной березы и ходили взад-вперед, увлеченные разговорами.
Худенький, узколицый Крючков, с рыбьими глазами, мочальными припущенными волосами, одетый в несуразно растопыренные галифе, юркий и франтоватый недалекий человечек – никогда по-настоящему не был близким товарищем Жарову, но теперь они разговорились, как близкие друзья, и Крючков совершенно не испытывал той обычной робости и чувства неравенства, той неловкости, с которою прежде подходил он к Жарову. Его не давила грузная, широкая фигура товарища, не смущали пристальные, тяжелые взгляды черных глаз, и вся речь Жарова, прежде казавшаяся такой пренебрежительной и высокомерной, показалась ему теперь простой, откровенной и задушевной… Он задорно, торопясь и сбиваясь, польщенный в глубине души такою переменой, высказывал Жарову свои мысли: