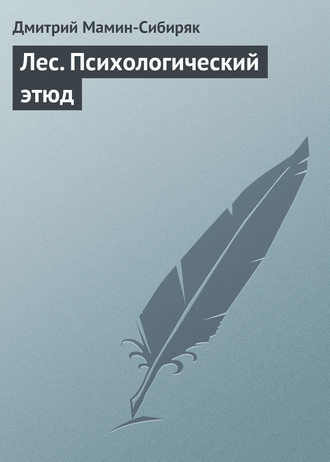
Дмитрий Мамин-Сибиряк
Лес. Психологический этюд
Во всем доме Фомича была единственная сколько-нибудь ценная вещь – это кремневая малокалиберная винтовка, служившая ему более тридцати лет. Тяжелая березовая ложа была собственного изделия Фомича и отличалась хозяйственной прочностью. Замечательнее всего то, что Фомич из этой винтовки стрелял и зверя, и птицу, и белку.
– Откуда у вас это ружье? – несколько раз спрашивал я старика, рассматривая его самопал.
– Так… от одного человека.
К числу особенностей Фомича принадлежала необыкновенная таинственность, особенно когда дело касалось охоты. На свое ружье он смотрел как на что-то живое и, когда делал из него промах, обвинял не себя, а то, что «дурит» ружье. Больше всего на свете Фомич боялся, как бы к его сокровищу не прикоснулась какая-нибудь женщина: тогда бросай все и заводи новое.
– Я из него не один десяток олешек загубил, – любил похвастаться Фомич под пьяную руку. – Оно хозяина знает… да!
Трофеи охотничьих побед Фомича заключались в оленьих шкурах, которые служили всей семье как ковры и одеяла. Выделывал их Фомич сам, равно как и беличьи и куньи шкурки, хотя, нужно отдать ему полную справедливость, выделывал очень скверно. Впрочем, для своего домашнего обихода Фомич все делал сам: и ложу к ружью, и лыжи, и лядунку[1] для пороха, и памятный мне деревянный шкаф с охотничьим снарядом, и мебель, и мережи, и свою оленью куртку. В лесу у него всегда было надрано лыко и заготовлены дрова. Только при таком самоделье Фомич и мог сводить концы с концами, потому что прожить на три рубля причетничьего жалованья, с семьей на руках, дело решительно невозможное. Посторонних церковных доходов Фомич получал такую гомеопатическую дозу, о которой не стоит и говорить. Журавлевский завод наполовину состоял из раскольников, и приход был очень плох. Несколько раз Фомичу предлагали занять место дьякона, но он упорно отказывался.
– Отчего вы не хотите в самом деле быть дьяконом? – спрашивал я. – Дьякон вдвое больше получает.
– А «матерёшка» умрет?.. Дьякону во второй раз жениться нельзя…
Это была, конечно, шутка. Фомич не шел во дьяконы по той простой причине, что тогда потерял бы право ходить на охоту, другими словами – его жизнь утратила бы всякий смысл, а теперь получалось из Лыски, Енафы, матерёшки и самого Фомича вполне законченное, органическое целое.
II
Самое лучшее время на горных уральских заводах – это «страда». С петрова дня до самого успенья производство закрывается, кроме доменных печей, и все население уезжает и уходит на покосы. Если нет своей скотины, «страдают» для продажи, а если нет своих покосов – нанимаются к другим. Заводы пустеют, а зато оживают все окрестности и самые глухие лесные уголки. Лошадь и корова – главные хозяйственные статьи заводского мастерства, и поэтому на сене сосредоточены в это время все его помыслы. Хлебопашество на заводах существует, но в очень небольших размерах: и земля большею частью «неродимая», да и народ отвык от настоящей крестьянской работы. Мы говорим о большинстве горных заводов, хотя есть и исключения, как в заводских округах башкирской полосы.
На Журавлевском заводе пашни были человек у десяти, не больше, а для остальных слово «страда» ограничивалось заготовкою сена. После тяжелой «огненной» и приисковой работы сенокос являлся желанным отдыхом, и всякая мало-мальски справная семья в полном своем составе перекочевывала на покосы. Нужно было видеть, как «горит работа» у вырвавшегося на свежий воздух народа – это настоящий праздник, и по вечерам на десятки верст несутся веселые песни. Цыганская обстановка сенокоса для молодежи является самым счастливым временем, и в результате получаются осенние свадьбы или же специальные несчастья, которым особенно подвержена «извольничавшаяся» заводская девка. Нравы заводского населения, как известно, не отличаются особенным целомудрием вообще, а на Урале они поражают своей разнузданностью.
Эта заводская страда совпадает как раз с охотничьим сезоном; пока не поспели выводки, идет охота на «линялых» косачей, которые в это время прячутся по самым неприступным чащам и трущобам, меняя весеннее брачное оперение на обыкновенное затрапезное, а с наступлением июльских жаров начинается охота на оленей, которых днем овода загоняют в густые заросли или прямо в воду. В это горячее время мы с писарем Павлином уходили в горы на несколько ночей и бродили по лесу, как настоящие дикари. Окрестности Журавлевского завода представляли в этом отношении все необходимые условия, начиная с того, что в одну сторону до ближайшего жилья было сорок верст, а в другую больше ста верст тянулись горы и лес, лес и горы. Места в общем были порядочно дикие, но они скрашивались необыкновенным изобилием живой текучей воды, сбегавшей с гор десятками горных бойких речек и речонок. Кроме того, недалеко было одно большое горное озеро со множеством островов и еще два маленьких озерка. Выходила настоящая живая сеть, которая охватывала собою все горы и привлекала массу всевозможной дичи.
Бродить с ружьем по целым дням в этой зеленой пустыне – наслаждение, известное одним охотникам. Встанешь с ранней зарей и к вечеру так уходишься, что едва доберешься до первой знакомой избушки. Любимым местом была избушка Фомича на горе Размет, до которой от завода было верных семнадцать – восемнадцать верст. Замечательное это место Размет – собственно, так называлась и самая гора и прилегавшие к ней другие горы, горки, косогоры и увалы. Получался горный узел, которого гора Размет являлась связующим центром и горным водоразделом: в сторону Журавлевского завода сбегались речки европейского бассейна, а в противоположную – азиатского. Водораздельная линия проходила узкой, извилистой полосой, иногда достигавшей всего нескольких десятков сажен, как было, между прочим, у лесной избушки Фомича. Таким образом, нам часто случалось ночевать на самой границе между Европой и Азией.
В один из отличных июльских дней, когда, по всем признакам, погода установилась прочно, мы с писарем Павлином забрались в горы очень далеко. Охота вышла не особенно удачна, и к концу дня мы едва имели в запасе одного косача. Кроме того, Павлин уронил хлеб в воду, так что нам предстояло лечь с голодным желудком. Это было далеко за Разметом.
– Придется идти к Фомичу, – говорил я, когда до заката оставалось всего часа два, значит, нужно было торопиться.
– Я не пойду, – упрямился Павлин, растянувшись на земле пластом.
– А я пойду.
– Скатертью дорога.
Произошла небольшая размолвка, закончившаяся тем, что Павлин, наконец, поплелся за мной, – оставаться одному в глухом лесу было не особенно приятно, а до балагана Фомича было около десяти верст. Писарь Павлин – небольшой человек, с большой кудрявой головой – принадлежал к самым безобидным людям, но на него иногда накатывалось совершенно беспричинное упрямство. Ничего не оставалось, как воевать с ним тем же оружием, тем более что по ночам в лесу Павлин боялся не зверя или человека, а «лешака» или «лешачихи», которые проделывают над людьми всевозможные пакости. Павлин посвоему был даже начитанный человек, но освободиться от разной чертовщины был решительно не в силах.
Признаться сказать, идти десять верст на Размет после целого дня утомительной охоты было делом нелегким, и на меня не один раз нападало свойственное в таких случаях малодушие. Каждая хорошая ель, открытый берег речки или укромный уголок где-нибудь под скалой так и манил отдохнуть, но прежде всего нужно было выдержать характер и поддержать авторитет пред ослабевшим товарищем.
Солнце быстро опускалось. Лес темнел. Маленькая горная тропинка делала, по-видимому, совершенно ненужные повороты и кривулины, точно для того только, чтобы помучить нас. Солнечный закат в горах удивительно красив. Тени нарастают, и со всех сторон, точно сознательно, будто живая, начинает надвигаться на вас ночная глухая мгла. Затихший воздух чутко держит каждый шорох, и в параллель с этим ваши собственные чувства получают какое-то болезненное напряжение, – именно в такие переходные моменты дня больше всего и «блазнит»[2] непривычному человеку. Ухо, еще полное дневного шума, слышит несуществующие звуки, а глаз отчетливо видит в перебегающих и колеблющихся тенях создания собственного воображения. Вообще переживаешь неопределенно тревожное настроение, которое в каждый момент готово перейти в детскую панику. Только такие «лесники», как Фомич, сживаются с таинственной жизнью леса настолько, что их ничто не в состоянии напугать. Как хотите, но в лесу голова работает совсем не так, как у себя дома, и прежде всего здесь поражает_вас непривычная лесная тишина, которая дает полный разгул воображению, точно идешь по какому-то заколдованному царству. Днем эта тишина нарушается ветром и птицами, а ночью вы окончательно предоставлены самому себе и невольно прислушиваетесь уже к тому, что незримо хранится в глубине вгшей души. Выплывают смутные образы, неясные лица, звуки и краски.






