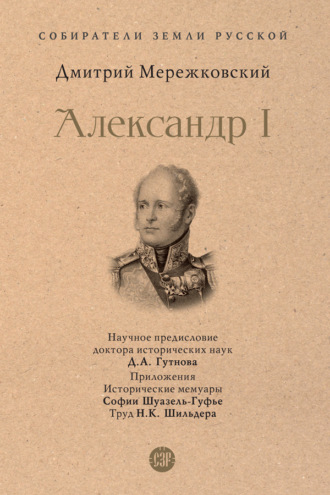
Дмитрий Мережковский
Александр I
Глава четвертая
Свадьба Софьи Нарышкиной с графом Шуваловым назначена была летом. Уже привезли из Парижа с особым курьером великолепное подвенечное платье, но невеста отказалась наотрез примеривать его, как ни упрашивала мать; а потом уже не могла, потому что опять заболела. Улучшение, которому так радовался князь Валерьян, оказалось обманчивым. Во время ледохода болезнь усилилась, и началось кровохарканье. Государю врачи объявить не решались, но про себя знали, что дни больной сочтены.
Софья была слишком слаба, чтобы везти ее за границу или на юг России. Врачи советовали ей переехать за город.
Весна была ранняя, дружная, дни лучезарные. В тени лесных оврагов лежал еще снег, а на солнечных дорогах уже пахло летнею пылью. Небо целыми днями безоблачно-синее, как синее лампадное стекло с огнем внутри; а если долго смотреть в него, то казалось темным, дневное – ночным, как в глубине колодца. И за всей этой чрезмерной ясностью – темнота, пустота зияющая.
Дача Нарышкиных по петергофской дороге – настоящий маленький дворец, с бельведером, откуда виден Финский залив, Петербург и Кронштадт; с плоским зеленым куполом и белыми столбами римского портика. Английский стриженый сад со шпалерами, лабиринтами и усыпанными желтым песком дорожками; одна только высокая аллея старых плакучих берез.
В покоях – тяжелое великолепие павловских времен: расписные потолки, штофные обои, золоченая мебель, тусклые зеркала, в которых лица живых как лица покойников. Но несколько комнат отделала Марья Антоновна в новом, веселеньком французском вкусе, особенно комнату больной во втором этаже, окнами на море. Обои, нарочно из Парижа выписанные, – серебристо-белый атлас с бледно-алыми гвоздичками; легкая дачная мебель лакированного светлого тополя; балкон, уставленный цветущими померанцами в оранжерейных кадках. «Настоящее гнездышко любви – nid d’amour – для моей бедненькой, бедненькой девочки», – говорила Марья Антоновна. Но на веселенькой мебели, как на тычке, больной ни присесть, ни прилечь. «Ох, болят мои старые косточки!» – горестно шутила Софья. Белый атлас напоминал ей ненавистное подвенечное платье, которое теперь она как будто вечно примеривала; алые гвоздички утомляли глаза как мелькание бреда.
Софья переносила болезнь мужественно; только что становилось легче, вставала, бродила по комнате и уверяла, что уже почти совсем здорова. Но Валерьяну Голицыну, который опять проводил с ней целые дни, казалось, что она рада болезни и не хочет выздороветь. Лекарств не принимала, докторов не слушалась.
Однажды утром, вскоре после переезда на дачу, чувствуя или вообразив, что чувствует себя бодрее, перешла с постели на кресло, старое-престарое, с рваною кожею и торчавшею кое-где из дыр волосяной набивкою, – родное среди этой чужой мебели; из городского дома вытребовала его нарочно, потому что только на нем и могла сидеть.
Утро было ясное, как все эти дни; небо лампадно-синее; тишина, какая бывает только раннею весною на пустынных дачах: щебет птиц, скрежет грабель, далекий-далекий топор – должно быть, рыбак чинит лодку на взморье, – тишина от этих звуков еще беспредельнее. Открыта дверь на балкон; запах весеннего утра, березовых почек смешивался с душным запахом лекарств.
Стоя перед Софьей на коленях, Голицын кормил ее с ложечки предписанной врачами молочной овсянкой. Софья только из его рук соглашалась глотать ее как лекарство, по ложечке. Старая няня, Василиса Прокофьевна, вдали у двери, пригорюнившись, глядела на «кормление зверя», как называла больная свой утренний завтрак.
Отдыхая между двумя ложками, Софья наклонилась к Голицыну и разглядывала лицо его с внимательною улыбкою.
– А ну-ка, погодите, сделайте лицо серьезное. Нет, еще, еще серьезнее… Да ну же, ну! Больше не можете?
– Не могу.
– А морщинка осталась.
– Какая морщинка?
– Вот здесь, около губ. Как будто всегда усмехаетесь. Помните мраморного дедушку Вольтера в нашей библиотеке? Вот и у вас, пожалуй, такая же усмешка будет к старости… Над чем вы смеетесь, ваше сиятельство?
– Не знаю, милая… Над собою разве?
– А очки вам не к лицу. И не думайте, пожалуйста: вовсе не карбонар, а просто немецкий профессор в отставке. Ну зачем вы их носите? Из упрямства, что ли? Государь прав, что терпеть не может очков… Ну, будет, не хочу больше, – оттолкнула она ложку. – Это которая?
– Восьмая, а вы обещали двенадцать.
– Нет, не могу… Няня, голубушка, позволь больше не есть. Нельзя же человека как каплуна откармливать…
– Что это, право, сударыня, точно маленькая! – заворчала старушка. – Да хоть совсем не ешьте. Оттого и больны, что докторов не слушаете.
Прокофьевна отвернулась, чтобы не заплакать, но не уходила, как будто ждала чего-то.
– Так вот и будет стоять, пока не выгоню, – шепнула Софья по-французски Голицыну. – Как мучает, если бы вы знали, как она меня мучает, Господи! А все оттого, что любит… Злейшие враги – любящие. Разве не так?

– Так-то так, да уж очень зло… Пожалуй, злее усмешки Вольтеровой.
– У меня теперь все такие злые мысли, острые. Больно от них, как если иголку раскалить на огне и воткнуть в тело. Вот и в вас втыкаю, бедненький, вижу, как от боли корчитесь…
– Ничего, только бы вам полегче, – проговорил он, целуя прозрачно-бледную, с голубыми жилками руку ее, такую мертвую, такую детскую.
– Ну, давайте овсянку кончать, а то ни за что не уйдет, – оглянулась Софья на Прокофьевну. – Одним духом. Девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая… Уф! Уберите скорей эту гадость. Ну, няня, видишь – кончила. Не сердись же, не плачь, глупенькая! Мне лучше. Ну, право, совсем хорошо. Ступай с Богом. Князь почитает, а я отдохну.
Голицын начал читать «Светлану» Жуковского.
– Нет, не надо, не надо, лучше другое! – остановила Софья. – Помнишь, в Покровском у пруда за теплицами?
Где, невеста, где твой милый,
Где венчальный твой венец?
Дом твой – гроб, жених – мертвец.
Помнишь, как я тогда испугалась, а ты меня утешал.
О, не знай сих страшных снов
Ты, моя Светлана!
А вот узнала-таки!.. О, какие страшные, страшные сны, Валенька! Как давно, Господи! Какие мы старые, древние! Кажется, не семнадцать, а семьдесят лет… Душно здесь, лекарствами пахнет; пойдем на балкон.
Он поднял ее на руки: каждый раз, как подымал, – чувствовал, что все легче и легче легкая ноша, как будто она в руках его таяла. Перенес на балкон и усадил в кресло. Луч солнца скользнул по золотистой пряди волос и бессильно повисшей руке; еще бледнее бледная рука, еще голубее голубые жилки на солнце.
Софья прижалась лицом к лицу его и болезненно щурила глаза от света.
– Как хорошо! Какое море! Какие паруса! Куда они плывут? Может быть, далеко-далеко. А когда доплывут…
«Когда доплывут, меня уже не будет», – угадал он, как угадывал все ее мысли.
– Душа бессмертна, говорят… Ты веришь?
– Верю.
– А я не знаю… Если только душа – зачем?.. Я хочу, чтобы и там все, все, как здесь… Чтобы так же, как вот сейчас, разрытою землею от цветочных грядок пахло и березовыми почками. Вон комар жужжит. Пусть и комар тоже. Паучок, видишь, ползет, маленький, красненький. Пусть и он. И бородавку над губой у няни тоже хочу. Все, как здесь…
– И меня в очках?
– Нет, очков не надо. Ведь я их не люблю. И морщинки, которая смеется, не надо. Да где она? Пропала? Нет, вот… Только другая стала – бедная. Ну, такую ничего, пожалуй, можно. Все, что люблю, пусть и там, как здесь… А если только душа, то не надо, ничего не надо. Смерть – так смерть. Один конец… Ну, устала я что-то. Холодно. Пойдем.
Он перенес ее в комнату и опять усадил в кресло, укутал потеплее, потому что начинался озноб, обложил подушками; думал – задремлет, хотел отойти, но она подозвала его.
– А что у вас? Как дела? Давно не рассказывал…
Он понял, что она спрашивает о Тайном Обществе.
Знала о нем; он долго не хотел рассказывать – боялся, как бы не проговорилась государю, не выдала нечаянно; но, наконец, рассказал, только не называл никого по имени. Не мог скрыть: она все о нем знала, как и он о ней, вещим знанием. И потом, здесь, в комнате больной, может быть, умирающей, Тайное Общество, революция, республика казались ему игрушками, которыми он тешил ее как больное дитя. Но иногда чувствовал с ужасом, что она понимает больше, чем он говорит, и что игрушки эти опасные: не одна ли из них – тот острый нож, которым он ранил ее до смерти?
Так и теперь начал рассказывать что-то, думая только об одном: как бы развлечь и не ранить – подальше спрятать нож.
– Зачем не говоришь всего? – вдруг остановила она и заглянула ему в глаза пристально. – У тебя революция точно детская сказочка: Серый Волк – тиран, а свобода – Красная Шапочка. Но ведь это не так. Не так было – не так будет. Я же знаю…
О стыд! О ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары!..
Падут бесславные удары…
Погиб увенчанный злодей[72].
Вот как, а не Красная Шапочка… Ты эти стихи знаешь?
– Знаю. А ты откуда? Кто тебе дал?
– Дядя, Дмитрий Львович. Добренький он. Все что хочу с ним делаю. Вот и дал, только велел никому не показывать, а то ему достанется… Это об убийстве императора Павла Первого. И няня тоже рассказывала…
Помолчала и вдруг шепнула ему на ухо:
– А как ты думаешь: он знал?
Опять заглянула ему в лицо еще пристальней.
Голицын понял: спрашивала, знал ли государь-наследник Александр Павлович о том, что заговорщики хотят убить отца его, императора Павла I.
– Что же ты молчишь? Говори…
– Не надо, Софья! Зачем? Кто может судить, кроме Бога?
– Нет, надо. Я хочу знать все, что ты думаешь. Говори же, только не скрывай, не обманывай. Знал ли он?
– Я думаю, всего не знал, – ответил он через силу.
– А если бы знал, – продолжала она, – если бы знал, то все-таки… Ведь нельзя иначе? Ведь император Павел злодеем был, извергом?
– Какой изверг! Просто больной, несчастный…
– Все равно, сумасшедший.
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты Богу на земле[73].
Пятьдесят миллионов людей в руках сумасшедшего – разве можно это терпеть? Надо было убить. Никто не виноват, никто не может судить, кроме Бога. Сам Бог устроил так, что убивать надо. Умирать и убивать. Уж лучше бы не было Бога!.. И ты, и ты убил бы, если бы надо?.. Молчишь? Не хочешь сказать? Ну все равно, я знаю, что ты думаешь…
И вдруг опять зашептала ему на ухо:
– Намедни-то что мне приснилось. Будто входим с тобой в эту самую комнату, а у меня на постели кто-то лежит, лица не видать, с головой покрыт, как мертвец саваном. А у тебя в руках будто нож, убить хочешь того на постели, крадешься. А я думаю: что, если мертв? Живых убивать можно – но как же мертвого? Крикнуть хочу, а голоса нет; только не пускаю тебя, держу за руку. А ты рассердился, оттолкнул меня, бросился, ударил ножом, саван упал… Тут мы и увидели, кто это… Знаешь кто? Знаешь кто?.. – повторяла она задыхающимся шепотом, и он слышал, как зубы у нее стучат. – Ох Валенька, Валенька, знаешь кто?
Он знал: ее отец!
– Не надо, Софья, не надо! – сказал он, закрывая лицо руками. – Ведь это только сон, дурной сон от болезни. Пройдет болезнь – и не будет страшных снов…
– Опять лжешь? Опять скрываешь? Не говоришь всего? Я хочу знать все, слышишь, все! Я же понимаю, что от крови – Шапочка Красная. Знаешь от чьей? Думал ты о крови, когда шел к ним? Можно ли идти на кровь во имя Господа?.. Что вы все о крови думаете? Что? Говори…
– Не надо! Не надо! – повторял он одно только слово, ломая руки в отчаянии.
– Убивать надо, а говорить не надо?.. Нет, говори! Я больше не могу, не хочу! Говори же, не лги! Я знаю все, не обманешь! – проговорила она и отняла руки насильно от лица его, посмотрела на него в упор – в этом взгляде был острый нож, ранящий до смерти. – Говори: его убить хотите?
– Что ты делаешь, Софья…
– Что делаю? Иглу раскаленную втыкаю в тебя – острый нож в живого, а не в мертвого. Что, больно? Ну, ничего, потерпи, не мне же одной от боли корчиться…
Злоба засверкала в глазах ее, и от этой злобы стало ему еще жальче.
– Не со мною, а с собою что делаешь, Господи! Ну зачем?..
– Нет, не я, а ты, что ты со мной сделал?.. Ничего я не знала, была глупая девочка, ребенок; спокойна, счастлива. Ты пришел и разрушил все, возмутил, соблазнил… Помнишь, на концерте Виельгорского? От этого я и больна, умираю. Ведь об этом сказано: лучше бы мельничный жернов на шею…[74] Я же тебя не спрашивала. Начал – так и кончай… И чего теперь испугался? Что донесу, что ли? А может, и донесу… Знаю все, не обманешь, знаю, чего вы хотите… И за что? Что он вам сделал? Как у вас рука на него подымется? И у тебя, Валенька родненький, любимый мой, единственный! На него, на отца моего! Уж лучше бы ты меня!..
Он встал с мертвенно-бледным, но как будто спокойным лицом.
– Бог тебе судья, Софья! Думай как хочешь: злодеи, убийцы, изверги… А может быть, глупые дети – я ведь иногда и сам думаю: ничего не сделают, никого не спасут, только себя погубят. А все-таки правда Божья у них. И пусть недостоин я, пусть беру не по силам, не вынесу, а уйти от них не могу, даже если тебя, Софья…
Голос его оборвался, лицо исказилось, и, закрыв его руками, он только повторял сквозь рыдания:
– Не уйду, не уйду! И если тебя потеряю, от них не уйду!
– Да кто тебя держит? – усмехнулась она с тою же злобою, как давеча. – Ступай к ним! Ступай! Ступай!
Упала навзничь на подушки и вся затрепетала, забилась, как раненая птица, сначала в неистовых рыданиях, потом в раздирающем кашле. Ему казалось, что она задохнется, умрет сейчас на его руках.
Наконец кашель затих; но долго еще лежала с лицом белее белых подушек и с закрытыми глазами, как мертвая. Он думал, не позвать ли на помощь. Но пошевелилась, открыла глаза.
– Ты здесь? Не ушел? Ничего, не бойся, прошло. Дай воды… Как руки у тебя дрожат! Не бойся же, мне хорошо. Только не уходи, побудь со мною…
Вдруг наклонилась и стала целовать руки его; плакала, но лицо было ясное, тихое; тихая, ясная улыбка.
– Прости меня, Валя, голубчик! Это в последний раз, больше не будет. Только прости, не уходи, не покидай меня, я без тебя не могу…
Он упал перед ней на колени; она обняла голову его, гладила и целовала ему волосы.
– Ничего, ничего, полно, не плачь, все хорошо будет. Я знаю. Господь нам поможет. Мне будет полегче. Вот уже теперь так легко, так хорошо с тобою… Только обещай, что возьмешь меня к себе. Я не могу здесь больше, не могу, не хочу! Я должна быть с тобою. Где ты, там и я. Есди надо будет, убежим… Да? Далеко, далеко от всех!.. А потом и он будет с нами. Он ведь мне обещал оставить все и жить со мною. Вот и будем втроем: он, ты да я… И тогда все ему скажем. Он поймет, сделает! Ведь и он того же хочет, что вы? Ты сам говорил, что и он хочет того же… И не будет крови. Не надо крови… А если надо, то он сам отдаст свою кровь, вместе с вами, за вольность, за счастье России! Так будет, Валя, будет, да? Скажи, что будет! – повторяла как безумная.
– Будет! Будет! – повторял и он, чувствуя, что в этом безумии – пророчество: когда-то, где-то, может быть, в мире нездешнем – но так будет.
Вдруг оба прислушались. На мосту у ворот застучали копыта; песок садовой аллеи заскрипел под колесами. Голицын выбежал на балкон.
– Он? – спросила Софья, когда Голицын вернулся в комнату.
– Да, прощай…
– Нет, погоди. Слышишь: к маменьке прошел. Успеешь… Постой же, я хотела еще что-то сказать… Да, может быть, и лучше, если умру? Помирю вас, мертвая, скорее, чем живая… Но, живая или мертвая, всегда с тобою! И гнать будешь, не уйду – оттуда приходить буду. Помни же: куда ты, туда и я. И если Бог тебя осудит, то пусть и меня… Но не осудит Бог! Ну, дай, благословлю. Сохрани, помоги, помилуй вас всех, Господи! Спаси, Матерь Пречистая!
Перекрестила и поцеловала его с тою же тихою, ясною улыбкою.
– Ну, ступай, ступай скорее!
Он выбежал из комнаты. Но было поздно: шаги государя слышались на лестнице; Голицын встретился с ним, посторонился с низким поклоном. Государь посмотрел на него, как будто хотел что-то сказать, но молча нахмурился, кивнул головой и прошел мимо.
Давно уже просил он Марью Антоновну не принимать Голицына. Софья, под предлогом болезни, не пускала к себе на глаза жениха своего, графа Шувалова, а Голицын проводил с нею целые дни. Это казалось государю неприличным; к тому же заметил он, что беседы эти вредно влияют на ее здоровье, волнуют ее, расстраивают. Решил ей самой это высказать.
Но, когда увидел ее, забыл о своем решении: такая перемена произошла в ней за два дня, что он испугался, как будто теперь только понял, что она смертельно больна.
Обрадовалась, ласкалась к нему как всегда. Но оба чувствовали, что разделяет их какая-то неодолимая преграда. Обнимая, целовала его; но в лице двусмысленное противоречие между слишком нежною улыбкою губ и жестокой морщиною лба опять поразило ее, так же как некогда в Торвальдсеновом мраморе; вдруг вспомнилось ей, как в детстве обнимала, целовала она этот мрамор и как теплел он под ее поцелуями, казался живым.
И стало страшно – как бы теперь, когда целовала живого, не показалось, что целует мертвого.
Глава пятая
В первых числах мая назначено было у Рылеева собрание Тайного Общества, чтобы выслушать предложение Пестеля.
В маленькой квартире все было перевернуто вверх дном. Ненужную мебель вынесли, открыли двери настежь в кабинет и гостиную, Наташа с Настенькой уехали ночевать к знакомым.
Заседание назначено в восемь часов вечера, а сходиться начали к семи. Это было редкостью: обыкновенно опаздывали или не приходили вовсе. На лицах – тревога и торжественность. Многие явились в орденах и мундирах. Говорили вполголоса, курить выходили на кухню. Ожидали Пестеля, каждый раз, как открывалась дверь, оборачивались: не он ли?
Никита Михайлович Муравьев, капитан гвардейского генерального штаба, лет тридцати с небольшим – бледно-желтый геморроидальный цвет лица, бледно-желтые редкие волосы, бледно-желтые, точно полинялые, от света прищуренные глаза – настоящий петербургский чиновник – сидя за столом, поодаль от всех, читал бумаги и делал на полях отметки карандашом. Только что кончик тупился – чинил торопливо и тщательно: мог писать только самым острым кончиком, подобно Сперанскому, которому поклонялся и подражал во всем. Напишет два-три слова и чинит, каждый раз привычным движением подымая бумагу к близоруким глазам и сдувая кучку графитовой пыли с таким озабоченным видом, как будто судьба предстоящего собрания зависела от этого. Сочинитель Северной конституции, главный противник Пестеля за его республиканские крайности – готовился ему возражать; но волновался и не мог сосредоточиться.
Друзья считали Муравьева единственным в Обществе умом государственным: что Сперанский для нынешней России, то Муравьев для будущей. Кабинетный ученый, осторожный и умеренный, он составлял законы российской конституции так же кропотливо, как часовщик собирает под лупою пружинки, колесики, винтики. Работал в Тайном Обществе как в министерской канцелярии. Написанное казалось ему сделанным. Признавал необходимость революции, но втайне боялся ее как всякой чрезмерности. Пестель шутил, что Муравьев похож на человека, который просит ваты заткнуть себе уши, чтобы не надуло, когда его ведут на смертную казнь. Действовать в революции мешала ему эта вечная вата в ушах, и геморрой, и жена: чуть что, она увозила его в деревню и там держала под замком, пока все успокоится.
Чиня карандаши, невольно прислушивался к мешавшим ему разговорам.
В ожидании Пестеля говорили о нем. Рассказывали об отце его, бывшем сибирском генерал-губернаторе – самодуре и взяточнике, отрешенном от должности и попавшем под суд; рассказывали о самом Пестеле – яблочко от яблони недалеко падает, – как угнетал он в полку офицеров и приказывал бить палками солдат за малейшие оплошности по фронту.
– Бить-то их бьет, а они его все-таки любят: лучшего, говорят, командира не надо.
«Годится на все: дай ему командовать армией или сделай каким хочешь министром, везде будет на месте», – приводили отзыв графа Витгенштейна, главнокомандующего Второю армией.
– Государь на Тульчинском смотру был особенно доволен полком Пестеля. «Превосходно, точно гвардия!» – изволил сказать и три тысячи десятин земли ему пожаловал. А как узнал, что Пестель в Тайном Обществе, испугался, говорят, не на шутку…
– Государь вообще боится нас, – усмехнулся Бестужев, самодовольно поглаживая усики.
«Умный человек во всем смысле этого слова», – напоминали отзыв Пушкина о Пестеле.
– Умен как бес, а сердце мало, – заметил Кюхля.
– Просто хитрый властолюбец: хочет нас скрутить со всех сторон… Я понял эту птицу, – решил Бестужев.
– Ничего не сделает, а только погубит нас всех ни за денежку, – предостерегал Одоевский.
– Он меня в ужас привел, – сознался Рылеев, – надобно ослабить его, иначе все заберет в руки и будет распоряжаться как диктатор.
– Знаем мы этих армейских Наполеошек! – презрительно усмехался Якубович, который успел в общей ненависти к Пестелю примириться с Рылеевым после отъезда Глафиры в чухломскую усадьбу.
– Наполеон и Робеспьер вместе. Погодите-ка ужо, доберется до власти – покажет нам кузькину мать! – заключил Батенков.
Слушая как сквозь сон, князь Валерьян Михайлович Голицын смотрел в окно на вечернюю звезду в золотисто-зеленом небе и вспоминал глаза умирающей девочки. Ее спасение или спасение России – что ему дороже? Ну, пусть революция, а ведь все-таки – смерть. И почему судьба человека меньше, чем судьба человечества? Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Перед смертью, перед вечностью не прав ли тот, кто сказал: «Политика только для черни»? И как непохоже то, что говорят эти люди, на вечернюю звезду в золотисто-зеленом небе и на глаза умирающей девочки.
Непохоже, не соединено. В последнее время все чаще повторял он это слово: «не соединено». Три правды: первая, когда человек один; вторая, когда двое; третья, когда трое или много людей. И эти три правды никогда не сойдутся, как все вообще в жизни не сходится. «Не соединено».
– Он! Он! – пронесся шепот, и все взоры обратились на вошедшего.
Однажды, на Лейпцигской ярмарке, в музее восковых фигур, Голицын увидел куклу Наполеона, которая могла вставать и поворачивать голову. Угловатою резкостью движений Пестель напомнил ему эту куклу, а тяжелым, слишком пристальным, как будто косящим взглядом – одного школьного товарища, который впоследствии заболел падучею.
Уселись на кожаные кресла с высокими спинками, за длинный стол, крытый зеленым сукном, с малахитовой чернильницей, бронзовым председательским колокольчиком и бронзовыми канделябрами – все взято напрокат из Русско-Американской компании; зажгли свечи без надобности – было еще светло, – а только для пышности. Хозяин оглянул все и остался доволен: настоящий парламент.
– Господа, объявляю заседание открытым, – произнес председатель, князь Трубецкой, и позвонил в колокольчик, тоже без надобности, было тихо и так. – Слово принадлежит директору Южной управы, полковнику Павлу Ивановичу Пестелю.
– Соединение Северного Общества с Южным на условиях таковых предлагается нашею Управою, – начал Пестель. – Первое: признать одного верховного правителя и директора обеих управ; второе: обязать совершенным и беспрекословным повиновением оному; третье: оставя дальний путь просвещения и медленного на общее мнение действия, сделать постановления более самовластные, чем ничтожные правила, в наших уставах изложенные, понеже сделаны были сии только для робких душ, на первый раз, и, приняв конституцию Южного общества, подтвердить клятвою, что иной в России не будет…
– Извините, господин полковник, – остановил председатель изысканно-вежливо и мягко, как говорил всегда, – во избежание недоумений позвольте узнать, конституция ваша – республика?
– Да.
– А кто же диктатор? – тихонько, как будто про себя, но так, что все услышали, произнес Никита Муравьев, не глядя на Пестеля. В этом вопросе таился другой: «Уж не вы ли?»
– От господ членов Общества оного лица избрание зависеть должно, – ответил Пестель Муравьеву, чуть-чуть нахмурившись, видимо, почувствовав жало вопроса.
– Не пожелает ли, господа, кто-либо высказаться? – обвел председатель глазами собрание.
Все молчали.
– Прежде чем говорить о возможном соединении, нужно бы знать намерения Южного общества, – продолжал Трубецкой.
– Единообразие и порядок в действии… – начал Пестель.
– Извините, Павел Иванович, – опять остановил его Трубецкой так же мягко и вежливо. – Нам хотелось бы знать точно и определительно намерения ваши ближайшие, первые шаги для приступления к действию.
– Главное и первоначальное действие – открытие революции посредством возмущения в войсках и упразднения престола, – ответил Пестель, начиная, как всегда в раздражении, выговаривать слова слишком отчетливо: раздражало его то, что перебивают и не дают говорить. – Должно заставить Синод и Сенат объявить временное правление с властью неограниченною…
– Неограниченною, самодержавною? – опять вставил тихонько Муравьев.
– Да, если угодно, самодержавною…
– А самодержец кто?
Пестель не ответил, как будто не слышал.
– Предварительно же надо, чтобы царствующая фамилия не существовала, – кончил он.
– Вот именно об этом мы и спрашиваем, – подхватил Трубецкой, – каковы по сему намерения Южного общества?
– Ответ ясен, – проговорил Пестель и еще больше нахмурился.
– Вы разумеете?
– Разумею, если непременно нужно выговорить, – цареубийство.
– Государя императора?
– Не одного государя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Говорил так спокойно, как будто доказывал, что сумма углов в треугольнике равна двум прямым; но в этом спокойствии, в бескровных словах о крови было что-то противоестественное.
Когда Пестель умолк, все невольно потупились и затаили дыхание. Наступила такая тишина, что слышно было, как нагоревшие свечи потрескивают и сверчок за печкой поет уютную песенку. Тихая, душная тяжесть навалилась на всех.
– Не говоря об ужасе, каковой убийства сии произвести должны и сколь будут убийцы гнусны народу, – начал Трубецкой, как будто с усилием преодолевая молчание, – позволительно спросить, готова ли Россия к новому вещей порядку?
– Чем более продолжится порядок старый, тем менее готовы будем к новому. Между злом и добром, рабством и вольностью не может быть середины. А если мы не решили и этого, то о чем же говорить? – возразил Пестель, пожимая плечами.
Трубецкой хотел еще что-то сказать.
– Позвольте, господин председатель, изложить мысли мои по порядку, – перебил его Пестель.
– Просим вас о том, господин полковник!
Так же как в разговоре с Рылеевым, начал он «с Немврода». В речах его, всегда заранее обдуманных, была геометрия – ход мыслей от общего к частному.
– Происшествия тысяча восемьсот двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого годов, равно как предшествовавших и последовавших времен, показали столько престолов низверженных, столько царств уничтоженных, столько переворотов совершенных, что все сии происшествия ознакомили умы с революциями, с возможностями и удобностями совершать оные. К тому же имеет каждый век свой признак отличительный. Нынешний – ознаменован мыслями революционными: от одного конца Европы до другого видно везде одно и то же, от Португалии до России, не исключая Англии и Турции, сих двух противоположностей, дух преобразования заставляет всюду умы клокотать…
Говорил книжно, иногда тяжелым канцелярским слогом, с неуклюжею заменою иностранных слов русскими, собственного изобретения: революция – превращение, тиранство – зловластье, республика – народоправление. «Я не люблю слов чужестранных», – признавался он.
«Планщиком» назвал Пушкин стихотворца Рылеева; Пестель в политике был тоже планщик. Но в отвлеченных планах горела воля, как в ледяных кристаллах – лунный огонь. Говорил как власть имеющий, и очарование логики подобно было очарованию музыки или женской прелести.
Одни пленялись, другие сердились; иные же пленялись и сердились вместе. Но чувствовали все, так же как намедни Рылеев, что бывшее далекою мечтою становится близким, тяжким, грозным и ответственным.
Перейдя к разбору муравьевской конституции, не оставил в ней камня на камне. С неотразимою ясностью обнаружил сходство ее с древнею удельною системой, от которой едва не погибла Россия, – «ужасное вельможество и аристокрацию богатств».
– Сии аристокрации, главная препона благоденствия общего и главное утверждение зловластия, одним только республиканским образованием правления устранены быть могут.
Муравьев хотел произнести свою речь, когда Пестель выскажет все до конца, но сидел как на иголках и, наконец, не выдержал.
– Какая же аристокрация, помилуйте! Ни в одном государстве европейском не бывало, ни в Англии, ни даже в Америке, такой демокрации, каковая через выборы в нижнюю палату Русского Веча, по нашей конституции, имеет быть достигнута…
– У меня, сударь, имя не русское, – заговорил вдруг Пестель с едва заметною дрожью в голосе, – но в предназначение России я верю больше вашего. «Русскою Правдою» назвал я мою конституцию, понеже уповаю, что правда русская некогда будет всесветною и что примут ее все народы европейские, доселе пребывающие в рабстве, хотя не столь явном, как наше, но, быть может, злейшем, ибо неравенство имуществ есть рабство злейшее. Россия освободится первая. От совершенного рабства к совершенной свободе – таков наш путь. Ничего не имея, мы должны приобрести все, а иначе игра не стоит свеч…
– Браво, браво, Пестель! Хорошо сказано! Или все, или ничего! Да здравствует «Русская Правда»! Да здравствует революция всесветная! – послышались рукоплескания и возгласы.
Если бы он остановился вовремя, то увлек бы всех и победа была бы за ним. Но его самого влекла беспощадная логика, посылка за посылкой, вывод за выводом – и остановиться он уже не мог. В ледяных кристаллах разгорался лунный огонь – совершенное равенство, тождество, единообразие в живых громадах человеческих.
– Равенство всех и каждого, наибольшее благоденствие наибольшего числа людей – такова цель устройства гражданского. Истина сия столь же ясна, как всякая истина математическая, никакого доказательства не требующая и в самой теореме всю ясность свою сохраняющая. А поелику из оного явствует, что все люди должны быть равны, то всякое постановление, равенству противное, есть нестерпимое зловластие, уничтожению подлежащее. Да не содержит в себе новый порядок ниже[75] тени старого…
Математическое равенство, как бритва, брило до крови; как острый серп – колосья – срезывало, скашивало головы, чтоб подвести всех под общий уровень.







