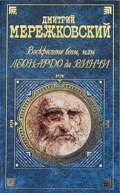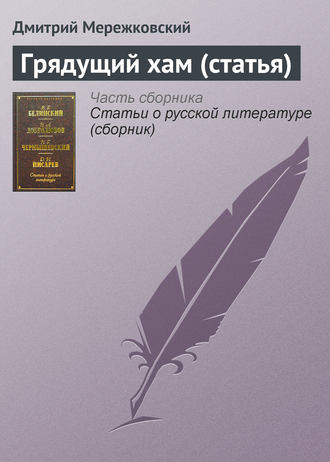
Дмитрий Мережковский
Грядущий хам (статья)
Кто верен своей физиологии, тот и последователен, кто последователен, тот и силен, а кто силен, тот и побеждает. Япония победила Россию. Китай победит Европу, если только в ней самой не совершится великий духовный переворот, который опрокинет вверх дном последние метафизические основы ее культуры и позволит противопоставить пушкам позитивного Востока не одни пушки позитивного Запада, а кое-что реальное, более истинное.
Вот где главная «желтая опасность» – не извне, а внутри; не в том, что Китай идет в Европу, а в том, что Европа идет в Китай. Лица у нас еще белые; но под белою кожей уже течет не прежняя густая, алая, арийская, а все более жидкая, «желтая» кровь, похожая на монгольскую сукровицу; разрез наших глаз прямой, но взор начинает косить, суживаться. И прямой белый свет европейского дня становится косым «желтым» светом китайского заходящего или японского восходящего солнца. В настоящее время японцы кажутся переодетыми обезьянами европейцев; кто знает, может быть, со временем европейцы и даже американцы будут казаться переодетыми обезьянами японцев и китайцев, неисправимыми идеалистами, романтиками старого мира, которые только притворяются господами нового мира, позитивистами. Может быть, война желтой расы с белою – только недоразумение: свои своих не узнали. Когда же узнают, то война окончится миром, и это будет уже «мир всего мира», последняя тишина и покой небесный, Небесная империя, Серединное царство по всей земле от Востока до Запада, окончательная «кристаллизация», всечеловеческий улей и муравейник, сплошная, облепляющая шар земной «паюсная икра» мещанства, и даже не мещанства, а хамства, потому что достигшее своих пределов и воцарившееся мещанство есть хамство.
«Подумай, – можно заключить эти мысли, так же как некогда заключил Герцен, – подумай, и у тебя волос станет дыбом».
У Герцена были две надежды на спасение Европы от Китая.
Первая, более слабая – на социальный переворот. Герцен ставил дилемму так:
«Если народ сломится – новый Китай неминуем. Но если народ сломит – неминуем социальный переворот«.
Спрашивается: чем же и во имя чего народ, сломивший социальный гнет, сломит и внутреннее духовное начало мещанской культуры? Какою новою верою, источником нового благородства? Каким вулканическим взрывом человеческой личности против безличного муравейника?
Сам Герцен утверждает:
«За большинством, теперь господствующим (то есть за большинством капиталистического мещанства), стоит еще большее большинство кандидатов на него (то есть пролетариата), для которых нравы, понятия, образ жизни мещанства – единственная цель стремлений; их хватит на десять перемен. Мир безземельный, мир городского пролетариата не имеет другого пути спасения и весь пройдет мещанством, которое в наших глазах отстало, а в глазах полевого населения и пролетариев представляет образованность и развитие».
Но если народ «весь пройдет мещанством», то, спрашивается, куда же он выйдет? Или из настоящего несовершенного мещанства – в будущее совершенное, из неблагополучного капиталистического муравейника – в благополучный социалистический, из черного железного века Европы – в «желтый» золотой век и вечность Китая? У голодного пролетария и у сытого мещанина разные экономические выгоды, но метафизика и религия одинаковые – метафизика умеренного здравого смысла, религия умеренной мещанской сытости. Война четвертого сословия с третьим, экономически реальная, столь же нереальна метафизически и религиозно, как война желтой расы с белою; и там и здесь сила против силы, а не Бог против Бога. В обоих случаях одно и то же недоразумение: за внешнею, временною войною – внутренний вечный мир.
Итак, на вопрос, чем народ победит мещанство, у Герцена нет никакого ответа. Правда, он мог бы позаимствовать ответ у своего друга, анархиста Бакунина, мог бы перейти от социализма к анархизму. Социализм желает заменить один общественный порядок другим, власть меньшинства – властью большинства; анархизм отрицает всякий общественный порядок, всякую внешнюю власть во имя абсолютной свободы, абсолютной личности – этого начала всех начал и конца всех концов. Мещанство, непобедимое для социализма, кажется (хотя только до поры до времени, до новых, еще более крайних выводов, которых, впрочем, ни Герцен, ни Бакунин не предвидели) победимым для анархизма. Сила и слабость социализма как религии в том, что он предопределяет будущее социальное творчество и тем самым невольно включает в себя дух вечной середины, мещанства, неизбежное метафизическое следствие позитивизма как религии, на котором и сам он, социализм, построен. Сила и слабость анархизма в том, что он не предопределяет никакого социального творчества, не связывает себя никакой ответственностью за будущее перед прошлым и с исторической мели мещанства выплывает в открытое море неизведанных исторических глубин, где предстоит ему или окончательное крушение, или открытие нового неба и новой земли. «Мы должны разрушать, только разрушать, не думая о творчестве, – творить не наше дело», – проповедует Бакунин. Но тут уже кончается сознательный позитивизм и начинается скрытая, бессознательная мистика, пусть безбожная, противобожная, но все же мистика. Когда Бакунин в «Dieu et l'etat» полагает свой «антитеологизм», вернее, антитеизм теоретической основой безвластия, он касается слишком опасных пределов отрицания, где минус на минус, отрицание на отрицание легко дает неожиданный плюс, нечаянное утверждение какой-то обратной, бессознательной религии. Бакунинский «абсолютно свободный человек» слишком похож на фантастического «сверхчеловека», не-человека, чтобы со спокойным сердцем мог его принять Герцен, который боится всякой мистики больше всего, даже больше самого мещанства, не сознавая, что этот суеверный страх мистики уже имеет в себе нечто мистическое. Как бы то ни было, правоверный социалист Герцен отшатнулся от впавшего в ересь анархиста Бакунина.