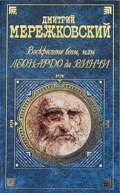Дмитрий Мережковский
Вечные спутники
«Я утверждаю, – говорит Пушкин у Смирновой, – что Петр был архирусским человеком, несмотря на то, что сбрил свою бороду и надел голландское платье. Хомяков заблуждается, говоря, что Петр думал как немец. Я спросил его на днях, из чего он заключает, что византийские идеи Московского царства более народны, чем идеи Петра». Вопрос ядовитый и опасный не только для таких романтиков старины, как Хомяков! Странно, что даже те, кто глубже всех проникает в дух пушкинской поэзии, т. е. Гоголь и Достоевский, ослепленные односторонним христианством, не видят или не хотят видеть эту связь Пушкина с Петром. А между тем без Петра не могло быть воплощения русского созерцания в Пушкине, без Пушкина Петр не мог быть понят как высшее героическое явление русского духа.
Пушкин не закрывает глаз на недостатки и несовершенства своего героя.
«Петр был нетерпелив, – говорит он в заметке „О просвещении России“, – став главою новых дней, он, может быть, дал слишком крутой оборот огромным колесам государства. В общее презрение ко всему народному включена и народная поэзия, столь живо проявившаяся в грустных народных песнях, в сказках и летописях».
Но, с другой стороны, безграничная сила, которая так легко, как бы играя, переступает пределы возможного, исторического, народного, даже человеческого, не кажется Пушкину одним из несовершенств героя. Искупаются ли радостью великого единого страдания бесчисленных малых? – Пушкин понимает, что это вопрос высшей мудрости. «Я роюсь в архивах, – говорит Пушкин, – там ужасные вещи, действительно много было пролито крови, но уж рок велит варварам проливать ее, и история всего человечества залита кровью, начиная от Каина и до наших дней. Это, может быть, неутешительно, но не для меня, так как я имею в виду будущность… Петр был революционер-гигант, но это гений каких нет». В одном наброске политической статьи 1831 года мы находим следующие слова: «Pierre I est tout à fois Robespierre et Napoléon (la révolution incarnée) – Петр есть в одно и то же время Робеспьер и Наполеон (воплощенная революция)». Вероятно, с этим проникновенным замечанием Пушкина согласились бы и Достоевский и Лев Толстой. Но разница в том, что оба они, подобно русским староверам, с ужасом отшатнулись бы от этого смешения Робеспьера и Наполеона, как от наваждения антихристова, тогда как Пушкин, несмотря на односторонность Петра, которую он понимает не хуже всякого другого, видит в нем не только возвестителя неведомого миру могущества, скрытого в русском народе, но и одного из величайших всемирных гениев.
Уже в третьей песне «Полтавы» Петр является страшным и благодатным богом брани:
Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный глас Петра:
«За дело с Богом!» Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры.
Он прекрасен, Он весь, как Божия гроза.
……………………………….……….
И он промчался пред полками,
Могуч и радостен, как бой…
Русский богатырь напоминает здесь того дельфийского демона, который соблазняет отрока, бежавшего от целомудренной Наставницы.
…лик младой
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.
Это сходство в описании русского героя и эллинского бога, конечно, несознательно, но и не случайно.
А вот в том же образе – милосердие, прощение врагу. Милосердие для героя – не жертва и страдание, а новое веселие, щедрость, избыток силы.
Что пирует царь великий
В Петербурге-городке?
Отчего пальба и клики,
И эскадра на реке?
Озарен ли честью новой
Русский штык иль русский флаг?
Побежден ли швед суровый?
Мира ль просит грозный враг?
………………………
Нет, он с подданным мирится;
Виноватому вину
Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну;
И в чело его целует,
Светел сердцем и лицом;
И прощенье торжествует.
Как победу над врагом.
Подобно тому, как в «Цыганах» с наибольшею полнотою отразилась всепрощающая мудрость первобытных людей, так противоположная сфера пушкинской поэзии – обоготворение силы героя – воплотилась в «Медном всаднике». Это – последнее из великих произведений Пушкина: только по этому обломку недовершенного мира можно судить, куда он шел, что погибло с ним. «Петр не успел довершить многое, начатое им, – говорит поэт, – он умер в поре мужества, во всей силе творческой своей деятельности, еще только в пол-ножны вложив победительный свой меч». Эти слова могут относиться и к самому Пушкину.
Здесь вечная противоположность двух героев, двух начал – Тазита и Галуба, старого Цыгана и Алеко, Татьяны и Онегина, взята уже не с точки зрения первобытной, христианской, а новой, героической мудрости. С одной стороны, малое счастье малого, неведомого коломенского чиновника, напоминающего смиренных героев Достоевского и Гоголя, простая любовь простого сердца; с другой – сверхчеловеческое видение героя. Воля героя и восстание первобытной стихии в природе – наводнение, бушующее у подножия Медного всадника; воля героя и такое же восстание первобытной стихии в сердце человеческом – вызов, брошенный в лицо герою одним из бесчисленных, обреченных на погибель этой волей, – вот смысл поэмы.
На потопленной площади, – там, где над крыльцом «стоят два льва сторожевые, на звере мраморном верхом, без шляпы, руки сжав крестом, сидел недвижный, страшно бледный, Евгений».
Его отчаянные взоры
На край один наведены
Недвижно были.
Словно горы,
Из возмущенной глубины,
Вставали волны там и злились,
Там буря выла, там носились
Обломки… Боже. Боже! там —
Увы! близехонько к волнам,
Почти у самого залива —
Забор некрашеный, да ива
И ветхий домик: там оне,
Вдова и дочь – его Параша,
Его мечта… Или во сне
Он это видит? Иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка рока над землей?
………………………….
И, обращен к нему спиною,
В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою,
Сидит с простертою рукою Гигант на бронзовом коне.
Какое дело гиганту до гибели неведомых? Какое дело чудотворному строителю до крошечного ветхого домика на взморье, где живет Параша – любовь смиренного коломенского чиновника? Воля героя умчит и пожрет его, вместе с его малою любовью, с его малым счастьем, как волны наводнения – слабую щепку. Не для того ли рождаются бесчисленные, равные, лишние, чтобы по костям их великие избранники шли к своим целям? Пусть же гибнущий покорится тому, «чьей волей роковой над морем город основался»:
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О, мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию вздернул на дыбы?
Но если в слабом сердце ничтожнейшего из ничтожных – «дрожащей твари», вышедшей из праха, – в простой любви его откроется бездна не меньшая той, из которой родилась воля героя? Что, если червь земли возмутится против своего Бога? Неужели жалкие угрозы безумца достигнут до медного сердца гиганта и заставят его содрогнуться? Так стоят они вечно друг против друга – малый и великий. Кто сильнее, кто победит? Нигде в русской литературе два мировых начала не сходились в таком страшном столкновении:
Кругом подножия кумира
Безумец бедный обошел
И взоры дикие навел
На лик державца полумира.
Стеснилась грудь его. Чело
К решетке хладной прилегло,
Глаза подернулись туманом,
По сердцу пламень пробежал,
Вскипела кровь; он мрачно стал
Пред горделивым истуканом —
И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной —
«Добро, строитель чудотворный!»
Шепнул он, злобно задрожав, —
«Ужо тебе!»… И вдруг стремглав
Бежать пустился. Показалось
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось…
Смиренный сам ужаснулся своего дерзновения, той глубины возмущения, которая открылась в его сердце. Но вызов брошен. Суд малого над великим произнесен: «Добро, строитель чудотворный!.. Ужо тебе!..» – это значит: мы, слабые, малые, равные, идем на тебя, Великий, мы еще будем бороться с тобой, и как знать – кто победит? Вызов брошен, и спокойствие «горделивого истукана» нарушено, ибо он в самом деле еще не знает, кто победит. Медный Всадник преследует безумца:
И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой
Как будто грома грохотанье,
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой —
И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне.
И во всю ночь безумец бедный
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал.
«Дрожащая тварь» еще более смирилась: теперь каждый раз, как ему случится проходить мимо «горделивого истукана», в лице несчастного изображается смятение, он поспешно прижимает руку к сердцу, снимает изношенный картуз и, потупив глаза, идет сторонкой.
Поэма кончается после ужаса привидения не меньшим ужасом обыкновенной жизни:
…Остров малый
На взморье виден. Иногда
Причалит с неводом туда
Рыбак, на ловле запоздалый,
И бедный ужин свой варит;
Или чиновник посетит,
Гуляя в лодке в воскресенье,
Пустынный остров. Не взросло
Там ни былинки. Наводненье
Туда, играя, занесло
Домишко ветхий. Над водою
Остался он, как черный куст.
Его прошедшею весною
Свезли на барке. Был он пуст
И весь разрушен. У порога
Нашли безумца моего,
И тут же хладный труп его
Похоронили, ради Бога.
Так погиб верный любовник Параши, одна из невидимых жертв воли героя. Но вещий бред безумца, слабый шепот его возмущенной совести уже не умолкнет, не будет заглушен «подобным грому грохотаньем», тяжелым топотом Медного Всадника. Вся русская литература после Пушкина будет демократическим и галилейским восстанием на того гиганта, который «над бездной Россию вздернул на дыбы». Все великие русские писатели, не только явные мистики – Гоголь, Достоевский, Лев Толстой, но даже Тургенев и Гончаров – по наружности западники, по существу такие же враги культуры, – будут звать Россию прочь от единственного русского героя, от забытого и неразгаданного любимца Пушкина, вечно одинокого исполина на обледенелой глыбе финского гранита, – будут звать назад – к материнскому лону русской земли, согретой русским солнцем, к смирению в Боге, к простоте сердца великого народа-пахаря, в уютную горницу старосветских помещиков, к дикому обрыву над родимою Волгой, к затишью дворянских гнезд, к серафической улыбке Идиота, к блаженному «неделанию» Ясной Поляны, – и все они, все до единого, быть может, сами того не зная, подхватят этот вызов малых великому, этот богохульный крик возмутившейся черни: «Добро, строитель чудотворный! Ужо тебе!»
IV
Необходимым условием всякого творчества, которому суждено иметь всемирно-историческое значение, является присутствие и в различных степенях гармонии взаимодействие двух начал – нового мистицизма, как отречения от своего Я в Боге, и язычества, как обожествления своего Я в героизме.
Только что средневековая поэзия достигает всемирного значения, как у самого теологического из новых поэтов – у Данте, чувствуется первое веяние воскресшей языческой древности, – правда, лишь римской, не греческой, но латиняне для католиков всегда служили естественным путем в глубину язычества – к эллинам. Влияние латинского мира сказывается у Данте не только в образе воскресшего мантуанского лебедя, нежного певца «Энеиды» и «Георгик», озаренного во мраке ада первым лучом классического солнца; не только на идее всемирной монархии, представителем которой для флорентийского гибеллина[159] были Цезарь и Александр – два языческих полубога. Еще более это влияние отразилось на образе главного, хотя и невидимого, героя «Божественной комедии» – Законодателя и Судьи, Монарха вселенной, распределяющего – в чисто-римской беспощадной симметрии подземных кругов и небесных иерархий – казни и награды, муки и блаженства.
С другой стороны, в самом сердце трагического героизма, среди кровавых жертвоприношений богу Пану и Дионису, среди страшных гимнов Року и Евменидам, мелькают первые проблески еще безымянного, но уже божественно-прекрасного милосердия.[160] Эти проблески, как искры глухо тлеющего под пеплом огня, вспыхивают нежданно, то здесь, то там, на всем протяжении греко-римского язычества. Рядом с Эдипом, кровосмесителем, отцеубийцей – этим воплощением титанической гордыни и скорби – целомудренный образ Антигоны,[161] озаренный сиянием чистейшей любви и милосердия? Рядом с волшебницей Медеей, матерью, обагряющей руки в крови детей, видение кроткой Алькестис,[162] напоминающее легенды о христианских мученицах, – Алькестис, которая, исполняя еще не сказанную, но уже написанную Богом в сердце человека заповедь любви, отдает жизнь свою за друзей своих. Под сводами древнего Аида светлые тени Алькестис и Антигоны полны такою же ангельскою прелестью, как Маргарита[163] и Беатриче[164] в сонме небесных видений. Быть может, христианское чувство всего прекраснее в те времена, когда, только что родившись из бездны трагической безнадежности, оно еще само себя не знает, не умеет назвать по имени.
Здесь и там, в языческой трагедии и в христианской поэме, два начала не только не уравновешивают друг друга, не примиряются, но одно из них до такой степени подчинено другому, подавлено и поглощено другим, что они еще не стремятся к примирению, даже не борются. У Данте ветхая паутина средневековой схоластики, уродливые ужасы теологического ада омрачают первый ранний луч высшей мудрости. У греческих трагиков безнадежные вопли жертв Диониса, беспощадные гимны Року заглушают первый ранний лепет божественной любви и милосердия.
Вот почему дух Возрождения (попытки которого начались в Италии с XIV века и в течение последних пяти веков много раз возобновлялись во всей Европе) выше, чем дух эллинского и средневекового мира. Дух Возрождения освободил язычество из-под гнета католицизма и в то же время освободил родники христианского чувства из-под развалин и обломков язычества, схоластики и варварской латыни. Два мировых начала в первый раз встретились в духе Возрождения и вступили в живое взаимодействие, в борьбу, как два равноправных, равносильных бойца. Достижимо ли полное примирение? Это – неразрешенный, быть может, даже неразрешимый, вопрос будущего.
Во всяком случае, драгоценнейшими плодами усилий и борений человечества, признаками подъема на вершины творчества, являются те редкие мгновения, когда два мира достигают хотя бы бессознательного и несовершенного примирения, хотя бы неустойчивого равновесия.
Пушкин первый доказал, что в глубине русского миросозерцания скрываются великие задатки будущего Возрождения – той духовной гармонии, которая для всех народов является самым редким плодом тысячелетних стремлений.
С этой точки зрения становится вполне ясной ошибка тех, которые ставят Пушкина в связь не с Гёте, а с Байроном. Правда, Байрон увеличил силы Пушкина, но не иначе, как побежденный враг увеличивает силы победителя. Пушкин поглотил Евфориона,[165] преодолел его крайности, его разлад, претворил его в своем сердце, и устремился дальше, выше – в те ясные сферы всеобъемлющей гармонии, куда звал Гёте и куда за Гёте никто не имел силы пойти, кроме Пушкина.
Русский поэт сам сознавал себя гораздо ближе к создателю «Фауста», чем к певцу «Дон-Жуана». «Гений Байрона бледнел с его молодостью, – пишет двадцатипятилетний Пушкин Вяземскому вскоре после смерти Байрона, – в своих трагедиях, не исключая и „Каина“, он уже не тот пламенный демон, который создал „Гяура“ и „Чайльд-Гарольда“. Первые две песни „Дон-Жуана“ выше следующих. Его поэзия, видимо, изменилась. Он весь создан был навыворот. Постепенности в нем не было; он вдруг созрел и возмужал – пропел и замолчал, и первые звуки его уже ему не возвратились».
В разговоре со Смирновой Пушкин упоминает о подражаниях Мицкевича Байрону как об одном из его главных недостатков. «Это – великий лирик, – замечает Пушкин, – пожалуй, еще слишком в духе Байрона, он всегда более меня поддавался его влиянию, он остался тем, чем был в 1826 году».
Вот как русский поэт понимает значение «Фауста»: «Фауст» стоит совсем особо. Это последнее слово немецкой литературы, это особый мир, как «Божественная комедия»; это – в изящной форме альфа и омега человеческой мысли со времен христианства».
В критической заметке о Байроне Пушкин сравнивает «Манфреда» с «Фаустом»: «Английские критики оспаривали у лорда Байрона драматический талант; они, кажется, правы. Байрон, столь оригинальный в „Чайльд-Гарольде“, в „Гяуре“ и „Дон-Жуане“, делается подражателем, как только вступает на поприще драмы. В „Manfred“ он подражал „Фаусту“, заменяя простонародные сцены и субботы другими, по его мнению, благороднейшими. Но „Фауст“ есть величайшее создание поэтического духа, служит представителем новейшей поэзии, точно как „Илиада“ служит памятником классической древности».
Пушкин не создал и, по условиям русской культуры, не мог бы создать ничего, равного «Фаусту». Но у Гёте, кроме этого внешнего, исторического, есть и великое внутреннее преимущество перед русским поэтом. Как ни ясна и ни проникновенна мысль Пушкина, она не озаряет всех бездн его творчества. Художник в нем все-таки выше и сильнее мудреца. Пушкин сам себя не знал и только смутно предчувствовал все неимоверное величие своего гения. «Ты, Моцарт, – бог, и сам того не знаешь». Отсутствие болезненного разлада, который губит таких титанов, как Байрон и Микель-Анжело, гармония природы и культуры, всепрощения и героизма, нового мистицизма и язычества – в Пушкине естественный и непроизвольный дар природы. Таким он вышел из рук Создателя. Он не сознал и не выстрадал своей гармонии.
То, что Пушкин смутно предчувствовал, Гёте видел лицом к лицу. Как ни велик «Фауст» – замысел его еще больше, и весь этот необъятный замысел основан на сознании трагизма, вытекающего из двойственности мира и духа, на сознании противоположности двух начал:
Du bist dir nur einen Triebs bewusst;
O lerne nie den andern kennen!
Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust,
Die eine will sich von der andern trennen;
Die eine hält in derber Liebeslust,
Sich an die Welt mit klammernden Organen.
Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust
Zu den Gefilden hoher Ahnen.[166]
Из этого разлада двух стихий – «двух душ, живущих в одной груди», возникает двойник Фауста, самый страшный из демонов – Мефистофель. Борьба Отца Светов с духом тьмы, борьба этих вечных врагов в сердце человека, неутолимо-жаждущем единства, – таков смысл трагедии Гёте. Небо и ад, благословения ангелов и проклятья демонов, христианская мученица любви Маргарита и языческая героиня Елена, дух северной готики и дух эллинской древности, сладострастные ведьмы на Броккене и священные призраки умерших богов над Фессалийскою равниною, самоубийство мудреца, достигшего предела знаний, и детская радость пасхальных колоколов, поющих «Христос воскресе», – от начала до конца во всей поэме стихия восстает на стихию, мир борется с миром – и над всем веет дух гармонии, дух творца поэмы.
Пушкин менее сознателен, но зато, с другой стороны, ближе к сердцу природы. Пушкин не боится своего демона, не заковывает его в рассудочные цепи, он борется и побеждает, давая ему полную свободу. Осторожный Гёте редко или почти никогда не подходит к неостывшей лаве хаоса, не спускается в глубину первобытных страстей, над которой только двое из новых поэтов – Шекспир и Пушкин – дерзают испытывать примиряющую власть гармонии. По силе огненной страстности автор «Египетских ночей» и «Скупого рыцаря» приближается к Шекспиру; по безупречной, кристаллической правильности и прозрачности формы Пушкин родственнее Гёте. У Шекспира слишком часто расплавленный, кипящий металл отливается в гигантскую, но наскоро слепленную форму, которая дает трещины. В поэзии Шекспира, как и Байрона, сказывается один отличительный признак англосаксонской крови – любовь к борьбе для борьбы, природа неукротимых атлетов, чрезмерное развитие мускулов, сангвиническая риторика. Пушкин одинаково чужд и огненной риторики страстей, и ледяной риторики рассудка. Если бы его гений достиг полного развития, – кто знает? – не указал ли бы русский поэт до сих пор неоткрытые пути к художественному идеалу будущего – к высшему синтезу Шекспира и Гёте. Но и так, как он есть, – по совершенному равновесию содержания и формы, по сочетанию вольной, творящей силы природы с безукоризненной сдержанностью и точностью выражений, доведенной почти до математической краткости, Пушкин, после Софокла и Данте, – единственный из мировых поэтов.
По-видимому, явления столь гармонические, как Пушкин и Гёте, предрекали искусству XIX века новое Возрождение, новую попытку примирения двух миров, которое начато было итальянским Возрождением XV века. Но этим предзнаменованиям не суждено было исполниться: уже Байрон нарушил гармонию поэта-олимпийца, и потом, шаг за шагом, XIX век все обострял, все углублял разлад, чтобы дойти, наконец, до последних пределов напряжения – до небывалого, безобразного противоречия двух начал в лице безумного язычника Фридриха Ницше и, быть может, не менее безумного галилеянина Льва Толстого. Многозначительно и то обстоятельство, что эти представители разлада конца XIX века явились в отечестве Гёте и в отечестве Пушкина, т. е. именно у тех двух молодых северных народов, которые в начале века сделали попытку нового Возрождения. Как это ни странно, но Ницше – родной сын Гёте, Лев Толстой – родной сын Пушкина. Автор «Jenseits von Gut und Böse»[167] довел олимпийскую мудрость Гёте до такой же заостренной вершины и обрыва в бездну, как автор «Царствия Божия» галилейскую мудрость Пушкина.
Русская литература не случайными порывами и колебаниями, а вывод за выводом, ступень за ступенью, неотвратимо и диалектически правильно, развивая одну сферу пушкинской гармонии и умерщвляя другую, дошла, наконец, до самоубийственной для всякого художественного развития односторонности Льва Толстого.
Гоголь, ближайший из учеников Пушкина, первый понял и выразил значение его для России. В своих лучших созданиях – в «Ревизоре», «Мертвых душах» Гоголь исполняет замыслы, внушенные ему учителем. В истории всех литератур трудно найти пример более тесной преемственности. Гоголь прямо черпает из Пушкина – этого родника русского искусства. И что же? Исполнил ли ученик завет своего учителя? Гоголь первый изменил Пушкину, первый сделался жертвой великого разлада, первый испытал приступы болезненного мистицизма, который не в нем одном должен был подорвать силы творчества.
Трагизм русской литературы заключается в том, что, с каждым шагом все более и более удаляясь от Пушкина, она вместе с тем считает себя верною хранительницею пушкинских заветов. У великих людей нет более опасных врагов, чем ближайшие ученики, – те, которые возлежат у сердца их, ибо никто не умеет с таким невинным коварством, любя и благоговея, искажать истинный образ учителя.
Тургенев и Гончаров делают добросовестные попытки вернуться к спокойствию и равновесию Пушкина. Если не сердцем, то умом понимают они героическое дело Петра, чужды славянофильской гордости Достоевского и сознательно, подобно Пушкину, преклоняются перед западной культурой. Тургенев является в некоторой мере законным наследником пушкинской гармонии и по совершенной ясности архитектуры, и по нежной прелести языка.
Но это сходство поверхностно и обманчиво. Попытка не удалась ни Тургеневу, ни Гончарову. Чувство усталости и пресыщения всеми культурными формами, буддийская нирвана Шопенгауэра, художественный нигилизм Флобера гораздо ближе сердцу Тургенева, чем героическая мудрость Пушкина. В самом языке Тургенева, слишком мягком, женоподобном и гибком, уже нет пушкинского мужества, его силы и простоты. В этой чарующей мелодии Тургенева то и дело слышится пронзительная, жалобная нота, подобная звуку надтреснутого колокола, признак углубляющегося душевного разлада – страх жизни, страх смерти, которые впоследствии Лев Толстой доведет до последних пределов. Тургенев создает бесконечную галерею, по его мнению, истинно русских героев, т. е. героев слабости, калек, неудачников. Он окружает свои «живые мощи» ореолом той самой галилейской поэзии, которой окружены образы Татьяны, Тазита, старого цыгана. Он достигает наивысшей степени доступного ему вдохновения, показывая преимущества слабости перед силою, малого перед великим, смиренного перед гордым, добродушного безумия Дон-Кихота перед злою мудростью Гамлета. У Тургенева единственный сильный русский человек – нигилист Базаров. Конечно, автор «Отцов и детей» настолько объективный художник, что относится к своему герою без гнева и пристрастия, но он все-таки не может простить ему силы. Поэт как будто говорит нам, указывая на Базарова и не замечая, что это вовсе не герой, а такой же недоносок, неудачник, как его «лишние люди», ничего не создающий, обреченный на гибель: «Вы хотели видеть сильного русского человека – вот вам сильный! Смотрите же, какая узость и ограниченность воли, направленной на разрушение; какая грубость и неуклюжесть перед нежною тайною любви; какое ничтожество перед величием смерти. Вот чего стоят ваши герои, ваши русские сильные люди!» Если бы иностранец поверил Гоголю, Тургеневу, Гончарову, то русский народ должен бы представиться ему народом единственным в истории, отрицающим самую сущность героической воли. Если бы глубина русского духа исчерпывалась только христианским смирением, только самопожертвованием, то откуда эта «божия гроза», это великолепие, этот избыток удачи, воли, веселия, которое чувствуется в Петре и в Пушкине? Как могли возникнуть эти два явления безмерной красоты, безмерной любви к жизни в стране буддийского нигилизма и жалости, в стране «мертвых душ» и «живых мощей», в силоамской купели калек и расслабленных?
Гончаров пошел еще дальше по этому опасному пути. Критики видели в «Обломове» сатиру, поучение. Но роман Гончарова страшнее всякой сатиры. Для самого поэта в этом художественном синтезе русского бессилия и «неделания» нет ни похвалы, ни порицания, а есть только полная правдивость, изображение русской действительности. В свои лучшие минуты Обломов, книжный мечтатель, неспособный к слишком грубой человеческой жизни, с младенческой ясностью и целомудрием своего глубокого и простого сердца, окружен таким же ореолом тихой поэзии, как «живые мощи» Тургенева. Гончаров, может быть, и хотел бы, но не умеет быть несправедливым к Обломову, потому что он его любит, он наверное хочет, но не умеет быть справедливым к Штольцу, потому что он втайне его ненавидит. Немец-герой (создать русского героя он и не пытается – до такой степени подобное явление кажется ему противоестественным) выходит мертвым и холодным. Искусство обнаруживает то сокровенное, что поэт чувствует, не смея выразить: не в тысячу ли раз благороднее отречение от жестокой жизни милого героя русской лени, чем прозаическая суета героя немецкой деловитости? От Наполеона, Байрона, Медного Всадника – до маленького, буржуазного немца, до неуклюжего семинариста, уездного демона искусителя. Марка Волохова, – какая печальная метаморфоза пушкинского полубога!
Но это еще не последняя ступень. Гоголь, Тургенев, Гончаров кажутся писателями, полными уравновешенности и здоровья по сравнению с Достоевским и Львом Толстым. Без того уже захудалые и полумертвые русские герои, русские сильные люди – Базаров и Марк Волохов – оживут еще раз в лице Раскольникова, Ивана Карамазова, в уродливых видениях «бесов», чтобы подвергнуться последней казни, самой утонченной адской пытке в страшных руках этого демона жалости и мучительства, великого инквизитора – Достоевского.
Насколько он сильнее и правдивее Тургенева и Гончарова! Достоевский не скрывает своей дисгармонии, не обманывает ни себя, ни читателя, не делает тщетных попыток восстановить нарушенное равновесие пушкинской формы. А между тем он ценит и понимает гармонию Пушкина проникновеннее, чем Тургенев и Гончаров, – он любит Пушкина, как самое недостижимое, самое противоположное своей природе, как смертельно больной – здоровье, – любит и уж более не стремится к нему.
Литературную форму эпоса автор «Братьев Карамазовых» уродует, насилует, превращает в орудие психологической пытки. Трудно поверить, что язык, который еще обладает весеннею свежестью и целомудренной ясностью у Пушкина, так переродился, чтобы служить для изображения мрачных кошмаров Достоевского.
Последовательнее Тургенева и Гончарова Достоевский еще и в другом отношении: он не скрывает своей славянофильской гордости, не заигрывает с культурою Запада. Эллинская красота кажется ему Содомом, римская сила – царством Антихриста. Чему может научиться смиренная, юная, богоносная Россия у гордого, дряхлого, безбожного Запада? Не русскому народу стремиться к идеалу Запада, т. е. к всемирному язычеству, а Западу – к идеалу русского народа, т. е. к всемирному христианству. Ясно, что здесь между Достоевским и Пушкиным существует глубокое недоразумение. У Смирновой на утверждение Хомякова, будто у русских больше христианской любви, чем на Западе, Пушкин отвечает некоторою досадою: «Может быть; я не мерил количества братской любви ни в России, ни на Западе, но знаю, что там явились основатели братских общин, которых у нас нет. А они были бы нам полезны». Или, другими словами, Пушкину представляется непонятным, почему Россия, у который был Иван Грозный, ближе к идеалу Царствия Божия, чем Запад, у которого был Франциск Ассизский, Здесь Пушкин возражает не только Хомякову, но и Достоевскому: «Если мы ограничимся, – прибавляет он далее, – своим русским колоколом, мы ничего не сделаем для человеческой мысли и создадим только „приходскую“ литературу». Очевидно, пожелай только Достоевский понять Пушкина до глубины, и – кто знает – не оказалась ли бы целая сторона его поэзии нерусской, враждебной, зараженной языческими веяниями Запада?
Тем не менее, как художник, он ближе к Пушкину, чем Тургенев и Гончаров. Это единственный из русских писателей, который воспроизводит сознательно борьбу двух миров. Великая душа Достоевского – как бы поле сражения, потрясаемое, окровавленное, полное скрежетом и воплями раненых, – поле, на котором сошлись два непримиримых врага. Кто победит? Никто никогда. Эта борьба безысходна. На чьей стороне поэт? Мы знаем только, на чьей стороне он хочет быть. Но именно в те мгновения, когда более всего доверяешь его христианскому смирению, где-нибудь в темном опасном углу психологического лабиринта с автором происходит вдруг что-то неожиданное: сквозь смирение мученика мелькает неистовая гордыня дьявола, сквозь жалость и целомудрие страстотерпца – сладострастная жестокость дьявола. Пушкинская благодатная гармония превратилась здесь в уродливое безумие, в эпилептические припадки демонизма.