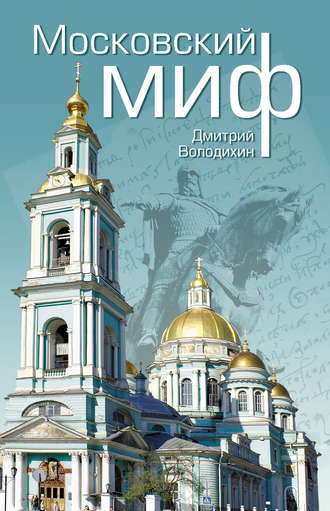
Дмитрий Володихин
Московский миф
Во-первых, Владимир Мономах, происходящий по материнской линии от византийского императора Константина IX Мономаха, имел шанс унаследовать от матери какие-то предметы, ранее принадлежавшие правителю ромеев (пресловутую «сердоликовую шкатулку», например, уж очень это знаковый предмет, не напрасно он запомнился).
Во-вторых, князь мог получить в дар от Алексея I Комнина некий высокий титул или же драгоценные вещи (в том числе и венец) из императорской казны. А может быть, церковные реликвии. Чрезвычайно оживленные и не всегда мирные связи между Киевской Русью и Византией в эпоху Владимира Мономаха – неоспоримый факт. Дары подобного рода Византия рассылала щедро, не исключая и венцы, притом некоторые из них дошли до наших дней. Отчего ж не отправить их на Русь? В подобном деянии византийской дипломатии нет ничего нелогичного.
Сейчас, конечно, невозможно с точностью определить, какие именно регалии получил Владимир Мономах, и случилось ли это на самом деле. Да и не настолько это важно.
Важнее другое: московский историософ XVI века перебрасывал «мостик царственности» из XII столетия в современность. Тогда правитель Руси уже имел царское звание? Превосходно! Следовательно, нынешним государям России уместно возобновить царский титул – как и произойдет в 1547 году. Идея царства, царской власти медленно, но верно пускала корни в русской почве. Москва начала примерять венец царственного города задолго до того, как сделалась «Порфироносной» в действительности.
4
Великокняжеские игры с генеалогией намного уступали по смелости, масштабности и глубине тому, что высказали церковные интеллектуалы. Государи обзавелись официальной исторической легендой о собственной династии. Им… хватило.
Но Церковь мыслила на два-три шага дальше.
Ученые монахи-иосифляне первыми начали понимать: Московская Русь – более не задворки христианского мира. Отныне ей и воспринимать себя следует иначе.
Незадолго перед тем произошли события, ошеломительные и для Русской церкви, и для всех образованных людей нашего отечества, и для политической элиты Руси.
Во-первых, благочестивые греки «оскоромились», договорившись с папским престолом об унии в обмен на военную помощь против турок. Митрополит Исидор – пришедший на Московскую кафедру грек, активный сторонник унии, – попытался переменить религиозную жизнь Руси. Очень скоро он очутился под арестом, а потом едва унес ноги из страны.
Во-вторых, Русская церковь стала автокефальной, то есть независимой от Византии.
В-третьих, в 1453 году пал Константинополь, казавшийся незыблемым центром Православной цивилизации.
И все это – на протяжении каких-то полутора десятилетий!
А затем, до начала XVI столетия, государь Иван III превратил крошево удельной Руси в Московское государство – огромное, сильное, небывалое по своему устройству.
На падение Константинополя в Москве, пусть и не сразу, вспомнили таинственные предсказания, издавна приписывавшиеся двум великим людям – Мефодию, епископу Патарскому, а также византийскому императору Льву VI Премудрому, философу и законодателю. Первый погиб мученической смертью в IV веке, второй царствовал в конце IX – начале X столетия. Традиция вкладывала им в уста мрачные пророчества. Христианство, «благочестивый Израиль», незадолго до прихода Антихриста потерпит поражение в борьбе с родом Измаиловым. Племена измаильтян возобладают и захватят землю христиан. Тогда воцарится беззаконие. Однако потом явится некий благочестивый царь, который победит измаильтян, и вера Христова вновь воссияет. С особым вниманием наши книжники вглядывались в слова, где будущее торжество приписывалось не кому-то, а «роду русему».
После 1453 года московские церковные интеллектуалы постепенно приходят к выводу: Константинополь пал – свершилась часть древних пророчеств; но и вторая часть свершится: «Русский род с союзниками (причастниками) … всего Измаила победит и седьмохолмый [град] примет с прежними законами его и в нем воцарится». А значит, когда-нибудь Москва придет со своими православными полками на турок, разобьет их, освободит от «измаильтян» Константинополь.
Почва московская испускала жаркий сухой свет иноческой жажды всё понимать, всё объяснять, привязывая к Богу. Мысль поднявшейся к державным высотам Москвы постоянно напитывалась им и оттого пришла в лихорадочное возбуждение.
Из медленного, но неотвратимого осознания какой-то высокой роли Москвы в искалеченном, истекающем кровью мире восточного христианства, из очарования волнующими откровениями тысячелетней давности родился целый «веер» идей, объясняющих судьбу новорожденной державы и его стольного града. Чудесное превращение Московского княжества в единое общерусское государство вызвало у «книжных» людей того времени рассуждения не только о корнях и особой миссии московского княжеского дома. Они мыслили о смысле существования новой державы. Не напрасно же родилась такая мощь! Не напрасно милая лесная дикарка Москва неожиданно для всех оказалась в роли державной владычицы! Не напрасно вышла она из-под иноверного ига как раз в тот момент, когда прочие народы православные в него угодили!
5
Именно тогда появилась книга «Русский Хронограф», составитель которой показал Русь как музыканта, получившего сольную партию в оркестре Православной цивилизации.
В исторической литературе Древней Руси было два основных жанра. Во-первых, всем известная летопись, содержавшая сведения о прошлом Руси. Во-вторых, хронограф – едва ли не более популярный у современников, чем летопись, но ныне мало кому известный. Он рассказывал о прошлом всего мира.
Древнейшие русские хронографические памятники – «Хронограф по великому изложению» и другие – включали известия по ветхозаветной истории, евангельский сюжет, кое-какие сведения об античных державах, а также биографию мировой христианской общины. Последняя излагалась в виде череды правлений православных монархов, но далеко не всех. В центре внимания была Византийская империя, затем Болгария и Сербия. Западные державы, в религиозном отношении подчиненные Риму, существовали там лишь в «фоновом режиме», на задворках повествования.
Что же касается Руси, то она вообще не фигурировала в ранних хронографах. Причина проста: сведения по всемирной истории наши книжники брали из византийских и сербских источников. А для Византии и Сербии Русь пребывала на периферии интересов, в тамошних исторических сочинениях ее упоминали мало.
В отечественной исторической мысли столетиями не возникало идеи вписать свою землю и свой народ в судьбу мирового христианства. Отчасти это можно объяснить относительной молодостью Руси как христианской страны. Отчасти же наших книжников завораживал прекрасный мираж Царьграда, который долгое время воспринимался как величайший культурный центр мира. Было очень трудно осознать себя чем-то самостоятельным, пребывая в тени величественной Византии. Русь в хронографах выглядела далеким северным отблеском великой Православной цивилизации. Не более того.
Кроме того, в период ордынского ига и удельной раздробленности требовалось незаурядное умственное усилие, чтобы вообще помыслить страну как единое целое…
Вот почему имя Руси почти не звучит на страницах древних хронографов.
В свою очередь летописцев очень мало интересовало всё находящееся за пределами Руси. Поэтому летопись от начала удельной эпохи до восхода Московской державы несла отпечаток своего рода культурной провинциальности. Летописцы представляли судьбу Руси с необыкновенной тщательностью, но сама мысль соединить летописание и хронографию, вписать Русь как активно действующий субъект в историю Православного мира созревала крайне медленно.
Буря событий, произошедших в середине – второй половине XV века, послужила катализатором.
«Русский Хронограф» составлялся скорее всего в Иосифо-Волоцком монастыре, между 1516 и 1522 годами. Предположительно, его творец – Досифей Топорков, племянник и ученик святого Иосифа Волоцкого. Он являлся убежденным и весьма деятельным иосифлянином, прославился как крупный церковный писатель, великий знаток книжного слова.
Чтобы получить представление о «Русском Хронографе», надо переплести пальцы правой и левой руки, а потом крепко сжать их. Именно так перемежаются в нем известия мировой и древнерусской истории. Собственно русские известия начинаются со времен Рюрика и первых Рюриковичей – ближе к концу памятника. Но в дальнейшем они присутствуют постоянно и в значительном объеме.
Более ранние хронографы представляют собой набор известий, без особого порядка выписанных из разных источников и собранных подобно нестройной толпе на вечевом «митинге». «Русский Хронограф» – совсем другое дело. Досифей Топорков проводил тщательную литературную обработку его статей, добиваясь единого стиля, гармоничного звучания текста.
На протяжении всего периода с начала XIII и до конца XV столетия повествование о событиях, случившихся в Северо-Восточной Руси, проходит под чередующимися заголовками: то «Великое княжение Русское», то «Великое княжение Московское». В начале XVI века всем ясно: ведущей политической силой на Руси является государь московский, прямой наследник древних князей владимирских, в частности знаменитого Всеволода Большое Гнездо. Конечно, существуют еще независимая Рязань и Литовская Русь, но Москва первенствует самым очевидным образом. Однако в не меньшей степени ясно и другое: ни в XIII столетии, ни в первые десятилетия XIV века она политическим лидером всех русских земель не была.
Таким образом, составитель хронографа показывает: история блистательного ожерелья северных русских городов была преддверием триумфа Москвы и ее великих князей. В 70-х годах XV столетия, при Иване III, возник Московский летописный свод, четко сформулировавший точку зрения государей московских на русскую историю. Он оказал столь сильное влияние на всю последующую историческую мысль России, что даже сейчас авторы учебников, не осознавая того, плывут порой по фарватеру, открытому летописцами Ивана III… В 1495 году появился сокращенный летописный свод, уходящий корнями в этот монументальный памятник. Его-то и использовал Досифей Топорков как главный источник знаний по истории Руси.
Составитель «Русского Хронографа» скорбит о печальной судьбе других православных народов. Они попали под власть турецкого султана. Столь плачевное положение – следствие кары Господней за грехи всей Православной цивилизации. Тут Досифей Топорков не делит православных на греков, сербов, болгар и так далее, оказавшихся «более грешными», и русских, за которыми числится, как можно было бы подумать, меньшее количество прегрешений. Этого нет и в помине. Виноваты все православные. Он пишет: Господь «…не до конца положил в отчаяние благочестивые царства: если и предает их неверным, не милуя их, то отмщая наше прегрешение и обращая нас на покаяние. И сего ради оставляет нам семя, да не будем как Содом и не уподобимся Гоморре. Это семя яко искра в пепле – во тьме неверных властей; семя же глаголя – патриаршие, митрополичьи и епископские престолы…». Таким образом, беда греков и южных славян по сути своей – призыв к великому покаянию всех православных. И когда это произойдет, гнев Господень сменится на милость: «Православнии же надежду имеют, что после достаточного наказания нашего согрешения вновь всесильный Господь погребеную, яко в пепле, искру благочестия во тьме злочестивых властей вожжет зело и попалит измаильтян злочестивых царства, якоже терние, и просветит свет благочестия и паки возставит благочестие и царя православныя».
Чем же отличается Русь, не только не попавшая под иго османов, но, напротив, относительно недавно освободившаяся от власти ордынцев? Особой государственной силой? Особым благочестием? Особой чистотой веры?
Досифей Топорков не заносится мыслями столь высоко. Более того, он даже не пытается толковать непознаваемую сущность воли Господней, исключившей страну из зоны великого наказания христианских народов. Он лишь подчеркивает сам факт: другие «благочестивые царства» – Византия, Сербия и прочие, – пали, а Русь уцелела. Не вооруженной силой, а молитвой спасена. Древние православные страны «…грех ради наших Божиим попущением безбожнии турки попленили и опустошили, и покорили под свою власть. Наша же Росийская земля Божиею милостию и молитвами Пречистыя Богородицы и всех святых чудотворцев растет и младеет, и возвышается. Ей же, Христе милостивый, дай же расти и младети и разширятися и до скончания века».
Тем самым составитель «Русского Хронографа» сообщает соотечественникам: по милости Божией мы освобождены от страшной кары и ныне обрели особенную судьбу – лучше, чем ту, что выпала на долю греков и сербов. Сохранение этой особенной судьбы зависит от силы упования на любовь Божию к Руси и от молитв о благом устроении дел ее Высшим Судией. Другого пути нет.
Это значит: Русь оказалась достойна не только войти в компанию великих православных царств, она получила преимущество над всеми ними.
Русь не выглядит чище, благочестивее, высоконравственнее Византии, Сербии или, скажем, Болгарского царства. Нет, вовсе нет. Просто над нею сжалилась Богородица – ведь Москва мыслила себя как «Дом Пречистой Богородицы», а главный собор города освящен был во имя Ее Успения. И это небесное покровительство Пречистой, по словам Досифея Топоркова, не исчезнет «до скончания века» – до Страшного суда.
«Русский Хронограф» приобрел на Руси исключительную популярность. Науке известно о существовании около 130 списков (копий) этого памятника, созданных в XVI, XVII и даже XVIII столетиях! Он мощно повлиял на более поздние русские летописи и хронографы. Немудрено: именно «Русский Хронограф» вывел отечественную историческую мысль с провинциального уровня на мировой. Именно в нем Русь впервые была представлена как великая православная держава.
6
Идеи мудрых книжников, живших при Иване Великом и его сыне Василии, напоминают зеркала. Молодая Москва, еще не осознавая вполне своей красы, своего величия, капризно смотрелась то в одно, то в другое, и всё никак не могла решить, где она выглядит лучше.
Самое знаменитое «зеркало», в которое смотрелась тогда Москва, родилось из нескольких строк.
В 1492 году пересчитывалась Пасхалия на новую, восьмую тысячу лет православного летоисчисления от Сотворения мира. Разъясняющий комментарий митрополита Зосимы сопровождал это важное дело. Там об Иване III говорилось как о новом царе Константине, правящем в новом Константинове граде – Москве…
Вот первая искра.
Большое же пламя вспыхнуло в переписке старца псковского Елеазарова монастыря Филофея с государем Василием III и дьяком Мисюрем Мунехиным. Филофеем была высказана концепция Москвы как Третьего Рима. Русский ум воспринял ее с ленцой. И лишь по истечении продолжительного времени его растревожил смысл новой идеи. Надо помнить и понимать: она отнюдь не имела господства над мыслями тогдашнего «образованного класса» и очень долго обреталась на периферии.
Филофей рассматривал Москву как центр мирового христианства, единственное место, где оно сохранилось в чистом, незамутненном виде. Два прежних его центра – Рим и Константинополь (Второй Рим) – пали из-за вероотступничества. Филофей писал: «…все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя по пророческим книгам, то есть Ромейское царство, поскольку два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быть». Иначе говоря, «Ромейское царство» – неразрушимо, оно просто переместилось на восток и ныне Россия – новая Римская империя. Василия III Филофей именует царем «христиан всей поднебесной». В этой новой чистоте России предстоит возвыситься, когда государи ее «урядят» страну, установив правление справедливое, милосердное, основанное на христианских заповедях. Но более всего Филофей беспокоится не о правах московских правителей на политическое первенство во вселенной христианства, а о сохранении веры в неиспорченном виде, в сбережении последнего средоточия истинного христианства. Его «неразрушимое Ромейское царство» – скорее духовная сущность, нежели государство в привычном значении слова. Роль московского государя в этом контексте – в первую очередь роль хранителя веры. Справятся ли они со столь тяжкой задачей?
По словам историка средневековой русской литературы А. М. Ранчина, у Филофея «…Москва является последним Римом, потому что приблизились последние времена, в преддверии которых число приверженцев истинной веры, согласно Откровению святого Иоанна Богослова, уменьшится. Именно поэтому эстафета передачи метаисторического Ромейского царства уже завершена. Но неизвестно, удастся ли и Москве – Третьему Риму исполнить свою миссию, свое оправдание перед Богом». Филофей, таким образом, вовсе не поет торжественных гимнов молодой державе, он полон тревоги: такая ответственность свалилась на Москву!
Идея Москвы как Третьего Рима долго не получала широкого распространения. Слова, сказанные в «Русском Хронографе», завоевали признание у русских «книжников» быстро и прочно. А вот рассуждения Филофея не имели равной известности.
Лишь во второй половине XVI века их начинают воспринимать как нечто глубоко родственное московскому государственному строю.
Так, они проникли в величественное сказание о борьбе Москвы с осколками Орды – «Историю о Казанском царстве».
Когда повествователь доходит до победы, одержанной Москвою на Угре, и до запустения Большой Орды, он поет хвалу великому городу, связывая его с иными древними столицами христианских держав. «И тогда великая наша Русская земля освободилась от ярма… и начала обновляться, как бы от зимы на тихую весну прилагаться. И взошла вновь к древнему своему величию и доброте, и благолепию. Как прежде, при великом князе при Владимире преславном, дал ей премилостивый Христос расти как младенцу и увеличиваться, и расширяться и скоро прийти в возраст совершеннолетия… И воссиял ныне стольный преславный град Москва, второй Киев. Не усрамлюсь… назвать ее и Третий новый великий Рим. Просияв в последние лета яко великое солнце в великой нашей Русской земле, во всех градех… и во всех людех страны сея, красуйся и просвещайся святыми многими церквами… яко… небо светится пестрыми звездами, утвержденный православием незыблемо от злых еретиков, возмущающих Церковь Божию!»
При утверждении в Москве патриаршества была составлена «Уложенная грамота». Писавшие ее московские книжники вложили в уста патриарха Иеремии похвалу царю Федору Ивановичу: «Твое… благочестивый царю, Великое Российское царствие, Третей Рим, благочестием всех превзыде, и вся благочестивое царствие в твое воедино собрася, и ты един под небесем христьянский царь именуешись во всей вселенной, во всех христианех…»
Конечно, и сам Иеремия, и всё греческое священноначалие Православного Востока едва-едва познакомилось с московской историософией; вряд ли они разделяли такой взгляд на Москву и Россию; но, во всяком случае, наши интеллектуалы приписали греку идею Москвы – Третьего Рима как нечто само собой разумеющееся.
7
Выше говорилось о «веере» идей.
Вот еще одна его «лопасть».
В допетровской России любили сравнивать Москву с Иерусалимом. Русские книжники и русские власти были твердо уверены: новая русская столица переняла особенную божественную благодать от Иерусалима, который был ею прежде щедро наделен, но впоследствии утратил. Теперь Москва – город городов, огромная чаша, где плещется эта благодать.
Историк искусства А. М. Лидов весьма точно выразился по этому поводу: «Идея о схождении Горнего града, в котором праведники обретут вечную жизнь и спасение, присутствует и в иудаизме, и в исламе. Однако в христианстве она приобрела совершенно особое, исключительно важное звучание – это в некотором смысле основа христианского сознания: обетование и ожидание Нового Иерусалима как конец пути и обретение счастья, гармонии, торжества справедливости. С этой идеей связана традиция перенесения образов Святой земли, попытки воспроизвести то особое сакральное пространство, в котором должно произойти сошествие Небесного града».
Так вот, в Москве желали уподобления Иерусалиму идеальному, образу Небесного Града, запечатленному в Иерусалиме «ветхом», историческом, но лишенному там должного вероисповедного наполнения. Достигнув такого уподобления, став совершенной христианской державой, Россия с Москвой в сердце слилась бы, по представлениям книжников того времени, с небесным прообразом Иерусалима.
Москву уподобляют Иерусалиму в летописях XV века. Святому Петру-митрополиту приписывают пророчество, согласно которому Москва в будущем «наречется Вторым Иерусалимом».
Но чаще всего Москву ведут по пути воиерусалимливания усилия зодчих.
Так, в середине XVI века Кремль украсился храмом Воскресения Христова со звонницей. Церкви дали имя центральной иерусалимской святыни для христиан[9].
Образ «Второго Иерусалима», города со множеством светлых храмов, отразился в особенном, необычном облике Троицкого храма что на рву – его позднее называли Покровским собором и собором Василия Блаженного.
На рубеже XVI и XVII веков Борис Годунов задумал уподобить Московский Кремль Иерусалиму. Он указал возвести православную «Святая святых», иначе говоря, русский храм Гроба Господня – как во Святой земле. Началось строительство; но смерть царя остановила воплощение дивного замысла, а разгорающийся пожар Смуты лишил его малейшей возможности счастливо завершиться.
В середине XVII столетия патриарх Никон выстроил под Москвой величественный Новоиерусалимский монастырь, все главные постройки которого символизируют места и здания в Иерусалиме-первом, связанные с евангельской историей.
Прежде всего, Никон начал возводить подобие Иерусалимского храма Гроба Господня, или, иначе, храма Воскресения Господня. Каждая постройка, каждая деталь оформления новой обители соответствовали реалиям пребывания Иисуса Христа в Иерусалиме и расположению иерусалимских святынь – как его представляли себе в России XVII столетия. В соборе воспроизведены священные подобия горы Голгофы, «пещеры» Гроба Господня, места трехдневного погребения и Воскресения Христа. Новоиерусалимский Воскресенский собор строился по разборной модели храма Гроба Господня из кипариса, слоновой кости и перламутра. Ее доставил в Москву патриарх Иерусалимский Паисий. А иеромонах Арсений специально произвел обмеры храма в Иерусалиме. Однако Новоиерусалимская церковь отнюдь не стала точной копией храма Гроба Господня. Она не являлась таковой даже в планах. В конце концов храм Гроба Господня представляет собой хаотичное наслоение разновременных зданий и пристроек. Возводя свою «версию», наши зодчие приспосабливали архитектурные формы всемирно известной постройки к русским обычаям, улучшали, модернизировали, добивались единства стиля. Подмосковный собор должен был выглядеть лучше «протографа». И в эстетическом смысле он действительно превосходит свой образец.
Вся местность вокруг обители наполнилась евангельской символикой. Холм, на котором воздвигали собор, назвали Сионом, а соседние холмы – Елеоном и Фавором. Ближайшие села обрели названия Назарет и Капернаум. Даже подмосковная речка Истра – там, где она протекала по монастырским владениям, – стала именоваться Иорданом. А ручей, обтекающий монастырский холм, превратился в Кедронский поток.
В создании Новоиерусалимской обители отразилась идея, близкая московским интеллектуалам еще с рубежа XV–XVI столетий, со времен Ивана III: действительная сила Православного мира постепенно уходит от греческого священноначалия и сосредоточивается в Москве.
Многочисленные греческие патриархи, митрополиты и прочие архиереи обладают превосходными библиотеками, умирающей, но все еще сносной системой училищ и большим духовным авторитетом. Однако они пребывают под гнетом турок-османов, поддаются влиянию Римско-католической церкви, они просто очень бедны, наконец. А Москва богата и независима. Москва спасает греческих архиереев и греческие монастыри от нищеты. Центр православного мира должен переместиться сюда! Соответственная «великая идея», или, вернее, целая интеллектуальная программа, получила выражение в камне.
Новый Иерусалим под Москвой – символический перенос духовного центра православия на новое место. Он словно извещал весь Православный Восток: благодать отошла от древних городов и ныне почиет на землях московских.
8
Имелся во всей этой историософии один изъян.
Русский паломник шел в Царьград или на Святую землю, томимый жаждой облобызать древние святыни, помолиться у чудотворных икон, отстоять службы в храмах, которые старше самой Руси. Тамошние власти его интересовали очень мало. Что такое император византийский в конце XIV века? Фигура слабая, небогатая, великому князю московскому не чета. А уж для XV века и сравнения быть не может! Слишком оно, это сравнение, окажется не в пользу рассеивающегося цареградского миража. Но вот святыни – это серьезно. Их сила и слава не ослабевают.
В понимании нашего церковного мудреца, Москва как новый Рим или новый Иерусалим должна была превратиться в такое же скопище святынь, как столица василевсов и столица древнего Израиля. Станет она такою – чего ж еще желать? Теперь и ездить не надо в такую даль – всё будет под боком!
Подобное понимание в каком-то смысле абсурдно. Нынешний Лондон становится известен большинству российских школьников по знаменитому учебному тексту, где сказано, что сей город – The Capital of The Great Britain, – средоточие «контрастов» и обиталище Тауэра, Биг-Бена, Трафальгарской площади. Допустим, кто-то назовет Москву «новым Лондоном». Сам того не понимая, он попытается произвести в умах миллионов людей, когда-то проходивших оный текст, странную метаморфозу. «А что, Тауэр и Биг-Бен к нам тоже перенесут?»
Умы сопротивляются…
Вот и в XVI веке коллективный разум русского интеллектуалитета, как видно, гордясь новой ролью Москвы, отчего-то… противился ей. Третий Рим? Второй Иерусалим? Отчего ж, красиво! Но как-то… не на первом месте.
9
В 1560-х годах возникает грандиозный памятник богословско-исторической мысли – Степенная книга. Там русская история изложена по «граням» (степеням) «царского родословия» – от правителя к правителю. Россия показана как Новый Израиль, а подданные московского государя как народ богоизбранный, который когда-нибудь освободит Константинополь, низвергнув силу ислама.
Степенная книга – венец размышления Москвы о себе. То, что в ней сказано, определит будущий московский миф надолго. Известно полторы сотни рукописных копий ее! Это при поистине титаническом объеме… Степенную книгу почитали в допетровской России. Ее, конечно, дописывали, развивали, кое в чем исправляли, но прежде всего – именно почитали, обращались к ней как к истине, соединившей правду веры и правду действительных исторических событий.
Что в ней такое Москва?
Прежде всего, оплот царственности.
Церковные интеллектуалы, составлявшие Степенную книгу, четко провели идею «трансляции царства». Иными словами, перехода с течением времени центра русской державности от одного города к другому. В самом начале эта идея высказана с полной ясностью: «От Рюрика начася державство в Новеграде. От Игоря же сына его – в Киеве и до Всеволода Юрьевича державствоваху; от них же вси страны трепетаху, ближнии и дальнии; и сами гречестии царие вси повиновахуся им; Угрове и Чахи, и Ляхи, и Ятвяги, и Литва, и Немцы, и Чюдь, и Корела, и Устюг, и обои Болгары, Буртасы и Черкассы, Мордва и Черемиса, и сами Половцы дань даяху и мосты мостяху; Литва же тогда бояхуся и из лесов выницати… От Всеволода же Юрьевича и до Данила Александровича в Владимери державствоваху. От Данила же на Москве Богом утверждено бысть царствие русских государей».
Москва как крепость – дитя Суздаля. Она стояла на страже Суздальской земли, она облеклась в одеяние из прочных стен и высоких башен по воле Юрия Долгорукого, государя суздальского. Но Москва как царственный город, как Порфирогенита – дочь Владимира и от него приняла венец державного первенства.
Степенная книга с большим разбором называет кое-кого из правителей Руси «самодержцами»: Владимира Святого – да, Всеволода Ярославича – да, Святослава Ярославича – нет, Святополка Изяславича – нет, Юрия Долгорукого – нет. А вот его отца Владимира Мономаха – да. И, далее, после Юрия Долгорукого, – самых достойных из рода Владимира Мономаха, к коему принадлежал, кстати, и Московский княжеский дом.
Всеволода Большое Гнездо Степенная книга твердо именует «самодержцем всей Русской земли». Он правит «скипетром Русского царствия». Он завещает наследникам «Владимирское скипетродержавие». Но уже и об Андрее Боголюбском сказано, что он самодержавствовал «…в Суждальской земле, в преименитом граде Владимире».
Даниил Московский, родоначальник московского княжеского семейства, предстает как человек, избранный Богом для особого служения. «Сего блаженного великого князя Данила храняй Господь от пелен матерних… Сего блаженного Данила избра Бог и возрасти и снабде нератуема ни от кого же; ему же и поручено бысть в наследие богоснабдимое державство преименитого града Москвы, его же и праведное семя возлюби Бог и прослави, наипаче же благоволи царствовати в роды и роды».
А великого князя Василия III Степенная книга прямо именует «царем». Хотя и иносказательно, как «царя над страстями», но все же именно царя, – пусть формально, по титулу, пока еще великого князя.
Чего же больше в Степенной книге? Глядясь в зеркала истории, видит ли Москва себя в одеяниях «Третьего Рима»? Или, может быть, «Второго Иерусалима»?
По капельке в Степенной книге можно отыскать и то, и другое. Но над всеми этими «капельками» преобладает ливень совершенно другого мифа. А именно того, который уходил корнями в древнерусскую реальность, а не в византийскую. Родное возобладало.
Что такое Новгород Великий? Дом святой Софии.
Что такое Псков? Дом святой Троицы.
Что такое Тверь? Дом Спасителя.
В эпоху удельной старины всякая земля выбирала себе небесное покровительство и выражала его в освящении главного храма всей области. А потом держалась за это покровительство с необыкновенной цепкостью.
К Москве «царственность» перешла от Владимира. А Владимир имел небесной покровительницей Пречистую Богородицу. Степенная книга проводит эту мысль без малейшего сомнения, без малейшей оговорки. Собственно, вся «царственность» самого Владимира началась с «путешествия» Пречистой из Киевской земли в дальний лесной край, на Клязьму. После рассказа о смерти Юрия Долгорукого и о последовавшей за нею междоусобной борьбе за Киев сказано: «Начало Владимирского самодержавства: уже тогда киевские великие князи подручни были владимирским самодержцам. Во град ибо Владимир тогда начальство утвержашеся пришествием чюдотворного образа Богоматери. С ним же прииде из Вышеграда великий князь Андрей Георгиевич и державствова». Андрей Боголюбский действительно привез с Киевщины чудотворную икону Богородицы. Для московского «книжника» середины XVI века ясно без комментариев: с иконой-то утекла оттуда и вся державная сила. Ушедшая икона явилась знаком возобладания Севера над Югом.







