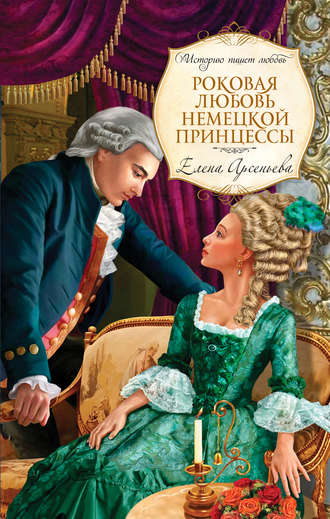
Елена Арсеньева
Роковая любовь немецкой принцессы
Красивой женщине много чего могу простить. Красивому мужчине – еще больше.
Екатерина II
«Вот так и пройдет моя жизнь… Вот в этом безнадежном ожидании счастья пройдет. А оно так и не явится ко мне. А кому нужно, чтобы я была счастлива? Кому вообще я нужна? Кому интересно, что я умнее всех, кто меня окружает? Как раз тем, кто меня окружает, это вовсе и не интересно. Они мне завидуют. Умна, да еще и красива… фу! Они будут счастливы, если я вдруг умру… от чахотки… А почему я вдруг умру от чахотки? Откуда она возьмется?! Не знаю… откуда-нибудь да возьмется… Ветром нанесет. Таким неудачницам вроде меня, красавицам, умницам, но бедным, ужасно бедным бесприданницам, вечно не везет! Чахотка прицепится. Или чума, или холера… Причем я уверена, что этих двух дур, моих сестричек, никакая хвороба не возьмет, а я, самая очаровательная из дочерей ландграфа Гессен-Дармштадтского, непременно сойду до времени в могилу. Как все же несправедливо распорядилась судьба, что я родилась столь поздно… Родись я раньше, тогда, конечно, никакая не Фредерика, старшая сестрица, а я, я, только я стала бы женой Фридриха-Вильгельма, наследника прусской короны, племянника самого Фридриха Великого! Да-да, король выбрал бы для него меня и только меня!
Конечно, он ужасный бабник, этот Фридрих-Вильгельм… с ним вечно учиняются какие-нибудь скандалы. Чтобы жениться на сестрице Фредерике, он развелся с первой женой, Элизой-Кристиной Брауншвейгской, а теперь вовсю бегает за какой-то графиней Фосс. Конечно, дядюшка больше не позволит ему разводиться, не то не видать ему престола, но ходят слухи, что он хочет сделать эту графиню своей морганатической супругой. И еще у него целая куча любовниц! Бедная Фредерика, иметь такого мужа… Нет, женщина сама виновата, если муж от нее гуляет, если таскается за юбками. Вот ведь папенька не гуляет от маменьки! Он ее боготворит, потому что она – умнейшая из женщин. Она умеет его держать под башмаком! Вот и я умела бы… О, я бы держала Фридриха-Вильгельма под таки-им башмаком, что он и вздохнуть не решался бы без моего изволения! А я… о, я бы жила, как хотела, в свое удовольствие. Я бы завела себе фаворита, как это делает русская императрица. Говорят, она меняет фаворитов, как перчатки. Ах, вот это женщина… Конечно, она уже замшелая старуха, конечно, фавориты нагло врут, когда говорят ей о любви, а вот меня… о, меня они любили бы, обожали бы, носили бы на руках! Я бы только и знала, что наставляла бы мужу рога, а он бы об этом даже не догадывался и благодарил бы меня за каждый ласковый взгляд, за каждую улыбку! Ах, какую бы я себе устроила жизнь, если бы мне повезло выйти за… ну ладно, не за Фридриха-Вильгельма, все же он уже обвенчан с Фредерикой, а… хоть за какого-нибудь принца или за герцога!.. Но придется ждать, пока не пристроят за кого-нибудь Амалию, она старше, ее первой надо выдавать замуж… Ой, как ужасно – ждать своей очереди! Конечно, Луизе ждать еще дольше, ведь она младше меня… да что мне до Луизы? Что мне до кого-то?! Меня заботит только моя судьба! Моя несчастливая судьба… Ах, как мне не везет в жизни! И даже если вдруг объявится какой-нибудь принц, то небось самый завалященький! Право, мне иногда хочется броситься в пропасть! Ну что это за жизнь, в которой не видно никакого просвета?!»
Так размышляла семнадцатилетняя Вильгельмина Гессен-Дармштадтская, которая ехала в карете вместе со своими двумя сестрами, возвращаясь от кузины. Та долго и тяжело болела, да вот с помощью святых небесных сил выздоровела, ну и матушка, Генриетта-Каролина, отправила трех дочек навестить родственницу. Девицы были счастливы… впрочем, не потому, что так уж сильно обожали кузину и сочувствовали ей, просто они ловили всякую возможность вырваться из дому и поглазеть на мир. О, конечно, маменька-ландграфиня, урожденная принцесса Цвейбрюкенская – образованнейшая из женщин своего времени, о, конечно, в замке гостят то великий Гете, то Гердер, то Виланд[1], а все-таки для юных девиц гораздо привлекательней не о высоких материях дискутировать, а просто поболтать о любви, о молодых кавалерах, о балах, о том, кто на ком женился и кто у кого родился. Поэтому они поехали к кузине с превеликим удовольствием и возвращались, щебеча и сплетничая. То есть щебетали и сплетничали Луиза и Амалия, ну а Вильгельмина, как всегда, предавалась мыслям о своей несчастливой судьбе. Она прекрасно понимала, что достойна лучшей участи, однако – и это она тоже понимала прекрасно! – надежды на изменение своей унылой судьбы у нее не больше, чем при этой спокойной, нетряской езде вывалиться из кареты…
Ой!
Карета внезапно осела на один бок, и Вильгельмина, которая сидела у самой дверцы, вылетела вон.
Несколько мгновений она лежала распластавшись, не в силах понять, жива она еще или уже насмерть убилась (совершенно как ее крестная мать, графиня Франциска Гессенская, которая точно так же выпала из кареты много лет назад и сломала себе шею), но вскоре до нее сквозь шум в ушах начали доноситься перепуганные голоса форейторов, и она поняла, что из колеса выпала чека, колесо отвалилось, карета накренилась – вот и все.
Ганс Шнитке, доверенный слуга ее матери, которому та поручила сопровождать дочерей, бросился к Вильгельмине, помог подняться. От беспокойства у него руки тряслись, а лицо, и без того изуродованное шрамом на щеке, было искажено гримасой ужаса.
– Проклятье! – бормотал он. – Я убью этого глупца кучера! Клянусь, что ее светлость ландграфиня выгонит его вон! Посидите вот здесь, милая барышня, я помогу поднять карету.
Вильгельмина огляделась. Два форейтора помогали выбраться из кареты перепуганным, хнычущим Амалии и Луизе.
– Вот глупые курицы! – сердито сказала Вильгельмина, у которой ужасно разболелась спина. – Чего вы кудахчете? С вами-то ничего не случилось. Это мне не повезло…
– Ничего, – послышался незнакомый гортанный голос, – совсем скоро тебе повезет, красавица, да так, что ты только изумишься! Хочешь, все расскажу?
Вильгельмина вытаращила глаза. Сестры тоже. Еще бы! Рядом с ними стояла невысокая и худая смуглая женщина с крючковатым носом, который делал ее похожей на диковинную птицу, с распущенными черными волосами, с кольцами в ушах, с монистами на груди, в браслетах на тонких загорелых руках, босая и в широких пестрых юбках. А на поясе у нее висела трубка.
С ума сойти… Неужели женщина может курить трубку?!
Ну, наверное, может, ведь это не просто женщина, а цыганка…
Цыганка! La Bohémienne, как говорят французы!
– Что? – спросила Вильгельмина с запинкой, выпрямляясь и даже забывая о боли в спине. – Что вы… что ты расскажешь?
– Вилли! – зашипела рядом Амалия. – Ты с ума сошла! Ты говоришь с богемьен!
– Не скупись, красавица! Позолоти ручку! – весело воскликнула цыганка. – А я тебе такого жениха нагадаю!
– Вилли! – всплеснула руками Амалия. – Она с тобой разговаривает! Эта ужасная богемьен!
Цыганка бросила пренебрежительный взгляд на Амалию и снова повернулась к Вильгельмине:
– Ну что ж, дашь руку? Хочешь знать, что с тобой будет? Хочешь знать, что тебя ждет?
Боже мой! Неужели… неужели ее в самом деле ждет что-то иное, чем та унылая участь, которую она себе вообразила, пока ехала в карете?!
Девушка протянула дрожащую руку, и сухие, тонкие пальцы с длинными ногтями так и вцепились в нее, словно птичьи когти. Вот только птичьи когти не бывают унизаны тяжелыми медными и оловянными перстнями… и птицы не говорят. А эта богемьен говорила. И что она говорила, что говорила, Боже мой!
– Будешь, будешь королевой. Нет, императрицей! Будешь императрицей, вот помяни мое слово! Тебя полюбит несравненный красавец, и ты полюбишь его, и у вас родится сын… Но бойся ревнивой королевы, бойся злой королевы, бойся старой королевы! – выкрикивала цыганка, сверкая черными очами и, такое впечатление, пьянея от каждого своего слова. – Ты уедешь в далекую страну, в далекую зимнюю страну!
– А ну, пошла прочь! – раздался крик с козел, и длинный кучерской кнут угрожающе щелкнул над головой цыганки. Та вздрогнула, отшатнулась.
– Извольте войти в карету, ваши высочества, – пригласил Ганс Шнитке. – Мы поправили колесо, можно ехать. А ты уходи, ну-у! – И по его знаку кучер снова замахнулся на цыганку.
Амалия и Луиза, подбирая юбки, так и ринулись в карету.
– Скорей едем! – наперебой трещали они. – Ты представляешь, что с нами сделает матушка, если узнает, что ты болтала с богемьен и она брала тебя за руку?!
Да, герцогиня очень строга по части приличий… Даже трудно представить количество наставлений, которые обрушатся на бедную голову Вильгельмины! В самом деле, пора уезжать. Девушка, поддерживаемая Гансом, ступила на подножку. Все равно цыганка врет. Но как интересно! Как обворожительно-интересно!
Вильгельмина оглянулась.
Богемьен смотрела на нее с усмешкой.
– Хочешь, еще скажу о том, что тебя ждет? – спросила она своим таинственным, гортанным голосом. – Но только позолоти мне ручку, иначе гаданье не сбудется.
– Да кому нужно твое гаданье! – пискнула из глубины кареты Амалия. – Ганс! Гони ее вон!
Ганс угрожающе стиснул кулаки, кучер снова занес кнут, но на сей раз цыганка и бровью не повела. Только засмеялась, глядя на Вильгельмину:
– Не хочешь знать, что будет дальше? Ну что ж…
И она, окинув Вильгельмину таким же пренебрежительным взглядом, каким раньше смотрела на Амалию, неторопливо пошла к шатрам, раскинутым чуть поодаль, на опушке леса. Там горел костер, там бегали чумазые полуголые дети, оттуда доносились веселые голоса…
Вильгельмина вошла в карету, плюхнулась на сиденье и откинулась на спинку. Карета тронулась.
Девушка взглянула на сестер. Конечно, они не пропустили ни единого слова из пророчества богемьен, однако, когда Вильгельмина обернулась, и Луиза и Амалия живо отодвинулись на противоположный конец сиденья и сделали самые скучающие лица. Впрочем, ядовитая зависть, которой были с малолетства переполнены все три принцессы Гессен-Дармштадтские, не позволила им сохранить спокойствие.
– Смотри-ка! С ума сойти! – тоненьким злым голоском пропела младшая, Луиза. – Она станет королевой! Нет, императрицей! Ее полюбит красавец! Какая чепуха! Зачем красавцам эта унылая уродина?
Вильгельмина только скривила презрительно губы. Вовсе она не уродина и уж тем паче не унылая. Она не визжит от восторга, когда выпадает возможность поездить верхом, или когда приходит приглашение на бал, или когда отец устраивает катания на лодках, – да, это истинная правда. Не визжит! Но не потому, что ей не нравится ездить верхом или танцевать. Ее бесит кудахтанье сестер, она не может видеть, как они всплескивают руками и закатывают от восторга свои бледные глазки. Она не хочет уподобляться им. Она хочет быть другой!
И разве это плохо? Окажись она такой же трусихой, как Амалия и Луиза, к ней не подошла бы цыганка и не напророчила бы чудес, из-за которых сестрички просто изнемогают от зависти!
Честное слово, они вот-вот расплачутся!
– Не горюйте, барышни, – усмехнулась Вильгельмина. – Как только я стану императрицей, я приглашу вас обеих погостить и немедленно найду вам самых красивых и богатых женихов в своих владениях.
Малышка Луиза, куда более добродушная, чем старшая сестра, радостно засверкала своими небольшими светло-голубыми глазками. Зато вредная Амалия сразу приняла высокомерный вид.
– Ох, какая добренькая! – противно засюсюкала она. – Да ты сначала стань этой самой императрицей! Веришь в какую-то глупую болтовню и нас с толку сбиваешь!
– Почему же это глупая болтовня? – вступилась Луиза. – Разве ты не знаешь, что цыганское гаданье всегда сбывается?
– Сбывается, если за него заплачено! – засмеялась Амалия. – А разве Вилли позолотила этой богемьен ручку? Нет! Значит, и гаданье не сбудется! Цыганка сама это сказала!
И сестры наперебой принялись потешаться над каждым словом цыганки и занимались этим всю дорогу.
Вильгельмине очень хотелось наброситься на сестер и, сорвав с них парики, хорошенько отодрать за жиденькие волосенки (у нее-то были роскошные волосы, которые жаль было неволить под париками и которым эти противные девчонки ужасно завидовали), но она предпочитала хранить высокомерное молчание, хотя и с трудом удерживала слезы.
Не заплатила! А чем ей было заплатить? Принцессам не давали денег! И теперь чудесное гадание не сбудется!
Но вот карета въехала в ворота замка.
– Посмотрите-ка! – воскликнула Амалия, сидевшая у окна, обращенного к дому. – Что это с матушкой?
Сестры высунулись тоже и сразу поняли: дома что-то произошло. Ландграфиня Генриетта-Каролина мерила быстрыми шагами террасу. Это матушка-то, проповедница сдержанности и образец безупречных манер!
Уж не случилось ли что-то ужасное? Не хватил ли батюшку удар?!
«Если бы его хватил удар, – подумала Вильгельмина, – к нам съехались бы сочувствующие родственники. Все повеселей стало бы…»
– Девочки, скорей! Скорей! – замахала руками Генриетта-Каролина, когда дочки одна за другой выскочили из кареты и бросились к крыльцу. – Немедленно умываться, переодеться, причесаться. Даю вам полчаса времени. У нас гость! У нас такой гость!..
– Ну, матушка, не его же величество дядюшка Фридрих II прибыл с неожиданным визитом! – насмешливо протянула Вильгельмина.
Она все еще была слишком зла, чтобы быть вежливой даже с матерью. Правда, тут же струсила – ну, сейчас ей зададут! – однако мать, к ее изумлению, словно бы и не заметила этой дерзости.
– Нет, это не король, – возбужденно ответила она. – Но это… это что-то невероятное! Такой визит!
Генриетта-Каролина не могла больше хранить тайну. Обхватила всех трех дочек за плечи, притянула к себе:
– Прибыл барон Ассебург!
Сестры разочарованно переглянулись. Имя им ничего не говорило.
– Ну и кто же это? – осведомилась Амалия снисходительно.
– Это русский посланник при германском сейме. Он подданный нашего короля, но был датским посланником при российском дворе, а теперь перешел на российскую службу. И его… направила к нам сама императрица Екатерина! Она велела… она велела барону повнимательнее присмотреться к вам, мои дорогие девочки!
– Зачем? – выдохнули «дорогие девочки» взволнованным хором.
– Затем, что… – продолжала Генриетта-Каролина, заикаясь от волнения. – Затем, что императрица Екатерина ищет невесту для своего сына! Сначала господин Ассебург побывал у принцессы Луизы Саксен-Готской, но она отказалась перейти в православие, а это непременное условие императрицы. Потом барон Ассебург побывал у Софии-Доротеи Вюртембергской, однако она еще сущий ребенок, ей всего лишь двенадцать. А императрице нужна взрослая, разумная девушка. Поэтому посланник ее величества Екатерины прибыл к нам. Он знал, что у нас три дочери на выданье. Я думаю, что одна из вас непременно, непременно подойдет для русского принца!
И тут Генриетта-Каролина остолбенела. Вместо того чтобы начать возмущаться, что их очередь настала лишь после знакомства Ассебурга с другими претендентками, вместо того чтобы начать яростно спорить, кто из трех красоток Гессен-Дармштадтских больше подойдет на роль невесты для русского принца, сестры молча переглянулись, а потом Амалия и Луиза вдруг побледнели и уставились на Вильгельмину с таким выражением, словно увидели призрак. Да и выражение лица Ганса Шнитке было примерно таким же.
– Значит, эта богемьен все-таки не наврала! – пробормотала Луиза. – Россия – далекая зимняя страна!
Амалия обиженно надула губы, а Вильгельмина скромно, таинственно улыбнулась.
Она вспомнила… она вдруг вспомнила всем известную историю. Еще когда могущественная русская императрица была просто десятилетней принцессой Фикхен[2], ее увидел некий священник Менгден, который славился как прорицатель. Взглянув на скромницу Фикхен, он сказал ее матери: «На лбу вашей дочери вижу короны, по крайней мере три!»
Каково совпадение, а? Каково совпадение!
* * *
– Хо-ро-ши девки!
Мужской голос прозвучал совсем тихо, однако что-то все же обеспокоило одну из девушек, которые плескались в тесной мыльне. Мыльня находилась между двумя комнатами, в которых жили попарно фрейлины, вход имела и из коридора, и из этих комнат и, несмотря на то что девушки принадлежали к свите императрицы, выглядела довольно скромно. Две-три лохани из самого простого фаянса, ванна жестяная, вода в медных ведрах, суровые полотенца из тщательно отбеленного льна… Впрочем, многим барышням, привычным к обычным деревенским и полудеревенским банькам с их деревянными лавками и вечно рассохшимися шайками, мыленка сия казалась бы, наверное, роскошной. Другое дело, что одному из двух мужчин, которые сейчас украдкой в эту мыльню заглядывали, пробравшись в пустующую комнату, приходилось видывать куда более роскошные помещения для омовения красавиц. Например, он мог вспомнить гарем богатого турка на одном из островов Греческого архипелага: среди розовых кустов – мраморные бассейны, вокруг золоченая и высеребренная посуда, тонкие шелка, в которые оборачивали после купанья роскошные тела наложниц… аромат восточных благовоний смешивался с назойливым запахом роз… А тут, в России, девушки мыли свои чудные русые волосы какими-то обмылками, с которыми обращались с великой бережливостью. Молодой человек – его звали Андре – уже готов был упрекнуть русскую императрицу в чисто немецкой скупости (с другой стороны, что с нее, немки по происхождению, возьмешь?), потом вспомнил, что фрейлинское жалованье очень даже немалое, и если девушки жалеют тратить на себя деньги, то это их личное дело. А впрочем, он здесь не для того, чтобы рассуждать, широко или скупо живут молоденькие фрейлины императрицы. Гораздо приятней просто смотреть на этих белотелых тугих красоток и ни о чем не думать… вернее, предаваться лишь тем мыслям, которые посещают всякого мужчину при взгляде на молодое нагое женское тело. Вот спутник его, Поль, – он в полном восторге и, судя по выражению его лица, с трудом удерживается, чтобы не ворваться в мыльню и не сцапать в объятия ту, что окажется менее проворной и не успеет убежать.
– Хороши девки! – горячо воскликнул Поль вновь, уже гораздо громче, и девушки, переглянувшись круглыми с перепугу глазами, завизжали и кинулись прочь из мыльни. Они поняли, что за ними подглядывают!
– Вот дуры, – усмехнулся он. – Бежать голыми по коридору, где полно гвардейцев, – ну что может быть глупей и ущербней для стыдливости девичьей? Лучше бы дали нам досмотреть.
– Не так, – поправил его Андре. – Лучше бы дали нам… – он сделал ударение на слове «дали» и многозначительно умолк.
– И впрямь лучше! – зашелся смехом его приятель. Некрасивое лицо его раскраснелось, а руки находились в таком возбуждении, что, казалось, он с превеликим трудом удерживается от того, чтобы не предаться греху Онана, воплотив таким образом в жизнь известную пословицу о том, что лучше синица в руках, чем журавль в небе.
– Ну что, Поль, нагляделся на девчонок? Готов теперь с бабами se montrer galant?[3] – спросил первый молодой человек.
– Андре, ты циник! – вспыхнул Поль. – Ты что, думаешь, я пялюсь на этих девочек только для того, чтобы возбудиться?!
– А почему бы и нет? – лениво улыбнулся Андре. – Алымушка, как ее называет твоя maman-императрица, в самом деле прелесть, ее полудетские миленькие формы кого угодно приведут в боевую готовность, даже старикашку вроде Бецкого. Ты слышал, Поль? Он намерен забрать ее из Смольного и то ли жениться на ней, то ли удочерить – кажется, он и сам еще хорошенько не знает.
– От любви даже ослы танцуют, – насмешливо сказал Поль.
Андре чуть приподнял брови. Поскольку он принадлежал к известной – о, очень известной! – в России фамилии Разумовских и поскольку и отец, и дядя его в разное время побывали фаворитами бывшей императрицы, Елизаветы Петровны (более того, дядя стал ее морганатическим супругом, а отец, по слухам, в свое время пользовался особенной благосклонностью императрицы нынешней, Екатерины Алексеевны), – Андре, вернее, Андрей Кириллович не мог не быть посвященным в самые интимные секреты и жизни двора, и жизни самых знатных персон, вплоть до императрицы. Он был наслышан и о том, что этого самого господина Бецкого, о коем Поль, вернее, Павел… вернее, великий князь Павел Петрович только что выразился столь непочтительно, некоторые всерьез считают отцом – ах, страшно даже сказать! – отцом самой Екатерины Алексеевны! Якобы ее довольно шаловливая матушка, Иоганна-Елизавета, встретилась с ним в Париже, где Бецкой, внебрачный сын князя Трубецкого, служил секретарем русского посла. И от этой тайной связи родилось еще одно внебрачное дитя… впрочем, официально признанное герцогом Ангальт-Цербстским… Таким образом, называя Бецкого ослом, Павел, сын Екатерины, возможно, оскорбляет собственного деда!
А впрочем, даже если Бецкой – отец Екатерины, то это еще не значит, что он дед Павла… Ведь ходили тайные, очень тайные слухи, доступные лишь особо доверенным лицам (очень может быть, что только Разумовским!), будто Павел – вовсе не сын Екатерины! Якобы давным-давно, когда Екатерина Алексеевна еще была великой княгиней, выяснилось, что ее законный супруг, великий князь Петр Федорович, не способен дать стране наследника, и пришлось воспользоваться, так сказать, услугами графа и камергера Сергея Салтыкова, с которым у Екатерины была давняя любовная связь, – с ведома, между прочим, государыни Елизаветы, которая отлично знала о неспособности своего племянника к продолжению рода и молилась о продолжении династии любой ценой, пусть даже ценой откровенного адюльтера. Однако… однако Екатерина родила мертвого ребенка! Императрица была тут же, в Летнем дворце, около покоев молодой родильницы. Узнав о несчастье, она приняла решение мгновенно. Отряд доверенных гвардейцев сей же час на рысях вышел в чухонскую деревню Котлы, что возле Ораниенбаума. В эту ночь там появился на свет мальчик, о чем известили императрицу. Новорожденный был незамедлительно отвезен в Петербург и передан из рук в руки Елизавете. Было приказано палить из пушек Петропавловской крепости и сообщить, что у великого князя Петра Федоровича и великой княгини Екатерины Алексеевны родился сын.
Все это произошло в течение нескольких ночных часов. И еще до наступления утра всех крестьян деревни Котлы до единого и даже пастора местной церкви под строгим конвоем вывезли в далекую землю Камчатку, а их избы снесли и запахали само место, где стояли эти самые Котлы.
Разумеется, события той ночи никогда и никем не обсуждались. Только однажды, несколько лет спустя, уже на смертном одре, в бреду, Елизавета шепнула огорченно:
– Ну что б ему было родиться хотя бы в русской деревне!
Екатерина и Алексей Разумовский бодрствовали у постели умирающей. Они одни это слышали… Потом Алексей Григорьевич обмолвился брату… Андре подслушал их разговор случайно. Вот так он и узнал о происхождении своего друга, наследника престола.
Хм… Не много ли внебрачных детей возникает в этой истории? Да, порядочно, особенно если учесть, что и самого Андрея многие искренне считали внебрачным сыном Кирилла Григорьевича и покойной императрицы Елизаветы! Он знал об этом, и слухи эти льстили его самолюбию. Не то чтобы он не любил той, которая звалась его матерью, – Екатерины Ивановны Разумовской, урожденной Нарышкиной, – однако, согласитесь, люди добрые, приятно же думать, что ты вполне можешь считаться с некоего боку наследником русской короны, явно опережая в этом небезызвестного чухонца… И только врожденная порядочность удерживает тебя от того, чтобы корону у сего чухонца оспаривать, тем паче что он называет тебя своим другом и даже добавляет ласково: «Fidèle et sincère ami»[4]!
– Алымушка в тебя по уши влюблена, – проговорил в эту минуту Павел, и голос его прервал размышления Андре. – Смотри, как бы старина Бецкой тебя на дуэль не вызвал.
– Пусть он успокоится, – усмехнулся Андре. – Алымушка прелесть, но мне она не нужна. Яблочко, может, и сладкое, да недозрелое, я такие не люблю.
– А на мой счет ты, видимо, все же прав, – вздохнул Павел, наконец-то отходя от небольшой щели между портьерами, около которой друзья стояли. – Меня как начал граф Орлов, галант матушкин, «выводить в люди», «учить жизни» – он это так называл – и открывать мне женские прелести, начиная с подглядывания за фрейлинами, так я до сих пор люблю сие занятие. Более всего возбуждает оно во мне чувства самые пылкие и побуждает к забавам, любимым в стране Цитеры[5].
– Боже! – насмешливо вскричал Андре. – В стране Цитеры! Этак и мой отец уже не выражается! В каком старомодном лексиконе ты сих замшелых выражений набрался, друг мой?!
Павел расхохотался:
– Так выражался мой воспитатель, Семен Андреевич Порошин. Я влюбился тогда во фрейлину Верочку Чоглокову, полагал ее истинной чаровницей и сочинил в ее честь стихи…
Он встал в позу и торжественно произнес:
Я смысл и остроту всему предпочитаю,
На свете прелестей нет больше для меня,
Тебя, любезная, за то я обожаю,
Что блещешь, остроту с красой соединя.
Андре с преувеличенным восхищением заплескал в ладоши. Павел раскланялся с видимым упоением, а Андре подумал, что господа пииты все, как на подбор, совершенно лишены способности трезво оценивать свои творения.
– Порошин выслушал меня, – продолжал Павел, – и воскликнул: «О, ваше высочество! Вы хорошо начинаете! Предвижу, что со временем вы не будете ленивым или непослушным в стране Цитеры!»
– Так ведь оно и получилось, – мягко сказал Андре. – Ты любимец женщин.
Ему нравился Павел, и очень хотелось сказать ему что-нибудь приятное. Конечно, цесаревич был большой юбочник! Однако дамы не всегда бывали к нему благосклонны и искренни. Взять хотя бы ту же Верочку Чоглокову.
После прочтения вышеупомянутых стихов Павел на первом же балу пригласил ее танцевать, а потом начал нежно перебирать пальчики и осмелился пылко выдохнуть:
– Если бы сие пристойно было, я бы поцеловал вашу ручку!
Верочка, отводя поскучневший взор от курносой физиономии царевича, ответила, скромно поджав губки:
– Это было бы уж слишком, ваше высочество!
Однако Павел не унялся. Он донимал скромницу своими ухаживаниями, стихами, охами и вздохами. И показал себя истинным Отелло, когда ему почудилось, что предмет его сердечной склонности, в свою очередь, неравнодушна к смазливому пажу Девиеру. Этой вымышленной «измены» он так и не простил Верочке и простер свою благосклонность на другую «чаровницу».
Граф Орлов не баловал царевича разнообразием методов любовного воспитания. Он хаживал с юнцом в покои фрейлин и в комнаты служанок. Однако Екатерина, узнав об этом, рассердилась. Она вдруг заподозрила, что ее фаворит, который порой изменял своей царственной подруге, использует сейчас ее сына для прикрытия своих собственных распутных похождений. Именно граф получает все удовольствие, а Павел просто остается наивным зрителем, но отнюдь не участником действа-любодейства. Тогда императрица, привыкшая все в своем королевстве держать в руках, взяла в свои руки и дело любовного просвещения наследника. В ее штате была очаровательная вдова, фрейлина Софья Степановна Чарторыжская, которая по всем статьям подходила для того, чтобы сделаться наставницей Павла.
Софья Степановна была дочерью новгородского, а потом петербургского губернатора и сенатора, а также писателя Степана Федоровича Ушакова и его жены Анны Семеновны, которая в свете имела скандальную репутацию. Она была в первом браке за Иваном Петровичем Бутурлиным, а когда в нее влюбился Ушаков, ушла от своего мужа и вышла за любовника, «публично содеяв любодейственный и противный церкви брак», как было провозглашено с амвона. Высокий чин супруга и благорасположение, которое ему оказывала императрица, благосклонная к участникам романтических историй, спасли репутацию Анны Семеновны и обеспечили ее дочери покровительство Екатерины и удачную партию. В первом браке Софья Степановна была замужем за генерал-майором Михаилом Петровичем Черторыжским, флигель-адъютантом Петра III, но рано овдовела. От больного, чахоточного мужа детей она не имела, зато сохранила жадную страсть к едва познанным ею наслаждениям. Она была очаровательна, одевалась всегда щегольски, превосходя своим вкусом и обольстительностью других фрейлин. Павел давно на нее поглядывал с жадностью, так что императрица сделала правильный выбор.
Софье Степановне, которая была довольно образованной особой (все же дочь писателя!), понравилась мысль сделаться русской мадам де Бове[6], и вскоре Павел узнал, что в стране Цитеры произрастают не только эфемерные цветы платонических наслаждений, но и весьма сочные плоды сладострастия.
Эти плоды понравились ему. Он норовил рвать их как можно больше и как можно скорее. Красавицы, дарившие ему эти плоды, нежно и покорно улыбались наследнику престола, а про себя думали, что в объятиях какого-нибудь лакея или помощника истопника можно найти гораздо больше удовольствия, чем с этим царевичем, который думает только о себе.
Впрочем, новая «мадам Бове» слишком боялась императрицы, чтобы изменять наследнику, а потому спустя положенное время у нее родился сын, которого назвали Семеном Афанасьевичем Великим и которого императрица взяла к себе на воспитание.
Вскоре после рождения сына Софья вышла вторым браком за графа Петра Кирилловича Разумовского, обер-камергера, второго сына гетмана и старшего брата Андрея Кирилловича. То есть Андре вновь некоторым образом породнился с Полем… Его, и в самом деле циника-насмешника, очень забавляла эта ситуация – в отличие от его отца, графа Кирилла Григорьевича. Разумовский был очень недоволен этою свадьбой, ведь Софья была на пять лет старше мужа и очень расточительна. В этом, однако, она вполне подходила мужу, а своей нерешительностью и переменчивым характером была очень на него похожа; поэтому, вероятно, супруги нежно любили друг друга и жили очень дружно.
Впрочем, сие не суть важно для нашей истории, так же, как и упоминание о еще одном внебрачном ребенке: сделано оно всего лишь, как любят говорить французы, а propos, между прочим. К нашей же истории имеет отношение то, что, покинув беременную Софью Степановну, воодушевленный Павел воистину пустился во все тяжкие и не пропускал ни одной юбки.
Наконец слухи об этом начали утомлять Екатерину.
– Мальчишку пора женить, – сказала она Орлову. – А то он мне весь двор обрюхатит!
– Да уж, – самодовольно кивнул фаворит, который имел все основания гордиться размахом страстей своего воспитанника. – И в кого он такой уродился?
Екатерина нахмурилась: она была отнюдь не ханжа, но не терпела всуе намеков на свои любовные шалости. Тем паче, что вопрос о том, в кого уродился Павел, был большой загадкой для всех…







