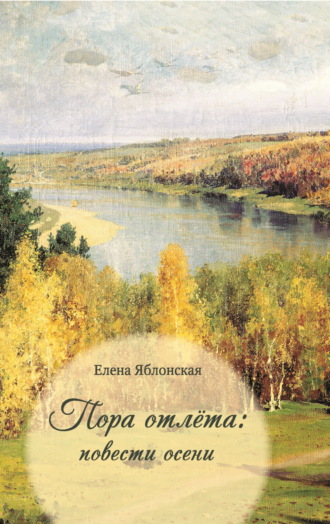
Елена Яблонская
Пора отлёта: повести осени
– Так как же, мама? У тебя есть идеал?
– Да, Чехов, Пастернак… – лепетала, чувствуя подвох, Галина.
– Мама! Ты же химик! А вот Эсфирь Самойловна сказала, что она восхищается, нет, боготворит… Менделеева!
9
Конечно, такому выдающемуся учёному, как Лев Яковлевич, не могли не найти применения в Израиле – он стал преподавать в каком-то университете на юге страны. Шеф здорово поддержал меня в девяносто восьмом, выбив грант для перевода своего учебника на английский. Переведённые главы я отсылала по электронной почте, а гонорар Лев Яковлевич направлял на мой счёт в Сбербанке. Деньги мне выдавали недели через три.
– Etogo ne mojet byt’! – возмущался Профессор по электронке. – Мне сказали, что деньги будут в Москве через день! Это наши бюрократы что-то напутали. Наташа, не волнуйтесь, я разберусь.
Я нисколько не волновалась и убеждала Льва Яковлевича, что это не их, а наши бюрократы «крутят» несчастные двести долларов. Они, говорят, даже пенсиями не брезгуют, а уж мой гонорар покрутить – сам бог велел! Профессор не верил – наша страна даже после дефолта представлялась ему образцом справедливости. Он возмущался израильской безработицей и отношением к учёным: в его университете все уборщицы – кандидаты наук из Советского Союза! Я писала своему учителю, что и у нас теперь не лучше: и безработица, и отношение к учёным, а самое скверное – дети не хотят учиться, а только непрерывно пьют пиво и разговаривают матом…
– Наташа, поверьте, – отвечал Лев Яковлевич, – всё это преходяще. Я знаю, вы всё переборете! Как бы я хотел быть рядом с вами, но нам с Фирой уже поздно менять жизнь.
А Эсфирь Самойловна, так и не осилившая ни иврита, ни английского, всё плакала и порывалась вернуться домой с бывшим зятем, который не мог найти работу, стал выпивать и из-за этого разошёлся с Еленой Львовной. Конечно, никуда они не уехали. Елена Львовна, впрочем, тоже не процветала – кажется, это она одно время была уборщицей – кандидатом наук. Вполне вписался в жизнь на исторической родине только подросший Яшка. Он отслужил в армии, к огорчению деда наотрез отказался поступать в университет, торгует компьютерами, ходит в ермолке и фыркает на безработного отца за то, что тот побоялся на старости лет подвергнуть себя обрезанию.
Лев Яковлевич, как и Эдька, уехал довольно поздно, в девяносто пятом. А первым лабораторию покинул Володька Ким. Это произошло незаметно – командировки его в Голландию становились всё длиннее, потом был предложен контракт на год, а потом Кимыч с женой переехали в Америку. Навсегда. Володька присылал фотографии: он на лестнице своего дома под руку с женой, которая на полголовы выше его, и на самурайской физиономии Кимыча застыло точно такое же выражение блаженства, как на широком добродушном лице его толстухи Марианны. «Ваша прекрасная фламандка», как в период Володькиного жениховства высокопарно величал её Лев Яковлич за пышные формы и пышные же рыжие волосы и за то, что Кимыч познакомился с ней в Голландии. Хотя, конечно, никакая она не голландка и не фламандка, а просто Маринка Зельцер – моя однокурсница.
Витя Дедович ушёл из института, но остался в Академгородке. Я иногда встречаю его на улице. Он работает в какой-то непонятной фирме и на вопрос «А ты куда ушёл?» загадочно отвечает: «К себе».
В церкви мы с Тамарой часто видим Цветану Георгиевну. Она сильно постарела и уже не узнаёт меня на улице. По-прежнему заведует лабораторией, хотя часто болеет и просится на пенсию. Заставила-таки Тамарку защититься: «Вы меня замените…»
Миша Хапицкий теперь владелец рынка и нескольких магазинов в Академгородке. Они с Нонкой живут в коттедже с башенками в новом районе за речкой Чернавкой.
– Да, Миша – миллионер, – важничает Нонка. – Правда, пока не долларовый.
Неугомонный Фаридиус организовал театр где-то на юго-востоке Москвы. Он там и режиссёр, и ведущий актёр, и рабочий сцены… К стыду своему, я так и не выбралась ни разу к нему на спектакль.
Ашот с Гюлей тоже было уехали. Сначала во Францию, потом в Канаду. Все думали – навсегда. Но они вернулись лет через пять.
– Я хочу, чтобы родным языком моих сыновей был русский, – сказал Ашот.
Гюлыпен была рада возвращению по другим причинам. Ни во Франции, ни в Канаде ей не давали разрешения на работу, да и с мальчишками кому-то надо было сидеть. А дома, в Академгородке, поочерёдно несли вахту бесчисленные бабушки и тётушки из Еревана и Баку. Теперь Гюля с Ашотом, кажется, чуть ли не единственные сотрудники, оставшиеся даже не в лаборатории, а на весь когда-то огромный отдел. Так и публикуются вдвоём в нашем журнале: «А. С. Аветисян, Г. Г. Махмудова. Фотохимическое поведение нового супрамолекулярного ансамбля в магнитном поле».
Недавно мне позвонили в домофон: «Наталья Алексеевна? Это по поводу статьи…» Я открыла дверь и от неожиданности отпрянула. На пороге, сверкая белозубой улыбкой над роскошной, отливающей антрацитом ваххабитской бородой, стоял высоченный широкоплечий красавец. Настоящий абрек!
– Здрасьте, тётя Наташа! – сказал абрек с таким щемящим душу московским выговором, какого никогда не добиться мне, крымчанке, хоть проживи я здесь ещё тридцать лет. – Папа просил статью закинуть в редакцию, а это от мамы.
В пакетике была домашняя пахлава, а испугавший меня «ваххабит» оказался Серёжкой, Саркисом Аветисяном, старшим сыном Ашота и Гюльшен.
Аркадий после бесплодного и мучительного романа с Тамаркой (мучились, впрочем, главным образом Аркадьевы друзья и Тамарины подруги) женился на москвичке и переехал в Москву. Теперь он проректор одного московского вуза, с женой развёлся. Аркадий звонил мне в редакцию полгода назад, передавал привет от Эдьки, с которым встречался на симпозиуме в Италии. Доктор Эдвин Байер заведует лабораторией органического синтеза в небольшой компании, у него жена, русская немка, и дочь – Наташа.
Внезапно запищал мобильник. У него, у Эдьки.
– Да, уже в Москве, подъезжаю. Через час буду…
Как же я могла принять за нашего Эдьку этого худосочного парня с тусклым голосом!..
В Москве накрапывал дождь. Мы выскочили из маршрутки и побежали к метро.
2007 год
Фёдор Иванович и другие
За высоту ж этой звонкой разлуки, О, пренебрегнутые мои, Благодарю и целую вас, руки Родины, робости, дружбы, семьи.
Борис Пастернак
1
Это началось давно, а конца что-то и не предвидится. Я имею в виду моё роковое увлечение, возможно несколько странное для дамы моих лет и статуса. Впрочем, какой там статус! Я редактор-переводчик в научном журнале, проще говоря, замотанная редакторша с красными от компьютера кроличьими глазками и ранней старческой дальнозоркостью. Да и считать моё пристрастие роковым можно только для меня самой и моей семьи. Правда, муж мой уже привык, что жена в течение последних десяти лет хотя бы раз в две недели притаскивает с работы «джентльменский набор» в большой хозяйственной сумке. В набор входят: 1) статьи для литературной правки, то есть авторская компьютерная писанина, неряшливо и неразборчиво исчёрканная зелёной шариковой ручкой научного редактора и называемая в редакционных кулуарах «кишками», 2) статьи на перевод – чистенькие, уже отредактированные и свёрстанные, 3) какой-нибудь новый словарь (теперь, слава богу, их издают во множестве, только цены жуткие!) и… 4) книжка по философии. А после того, как мы посмотрели по телевизору добрый советский фильм восемьдесят второго года «Время для размышлений», Игорь стал относиться к моему увлечению со снисходительным, хотя и несколько высокомерным юмором. В этом фильме измученная вычиткой корректур редакторша разводится с мужем. Муж – научный работник, получает «гроши», но позволяет себе собирать книги по философии. «Спиноза!» – с негодованием говорит бывшая жена. Мой Игорь – тоже научный работник, зарабатывающий гроши. Ну а я, стало быть, редакторша и Спиноза в одном лице! А главное, добытчик в семье я – имею право!
Лет пятнадцать назад подруга Татьяна дала мне почитать Карла Ясперса – «Смысл и назначение истории». Читать что-либо кроме редакционных статей мне удаётся только в транспорте. К счастью, от дома до работы почти два часа с пересадками, и потому Танька, живущая в двух троллейбусных остановках от своего и бывшего моего института, даже немного мне завидует. Я и читала Ясперса под «Осторожно, двери закрываются!», под шорох, шёпот, шум и шелест людского прибоя, который то вольётся в вагон говорливой волной, то облегчённо отхлынет, цепляясь за остроугольные скалы-«кейсы», пузатые валуны-портфели, неповоротливые старушечьи сумки на колёсиках и огромные полиэтиленовые мешки челночников. Читала и радостно удивлялась неугасимой вере старого немецкого профессора, пережившего фашизм. Высокой вере в Человека, а значит, и в эту мою толкающуюся и ругающуюся, разноплемённую и родную толпу в московском метро.
Потом был Мамардашвили – «Лекции по античной философии», «Кантианские вариации». Уже одно название серии «Путь к очевидности» издательства «Аграф» вызывало смутный восторг. Я завидовала Раисе Максимовне Горбачёвой, учившейся с философом на одном курсе. И зачем я поступала на химфак?! Правда, к удивлению Таньки, я совершенно не разделяла зависти, как почему-то принято было считать, всех советских женщин к нарядам тогдашней первой леди и её возможностям разъезжать по миру. Хотя модной одежды нам с Таней в своё время тоже остро хотелось, а уж о дальних странах мы тогда и мечтать не смели. Но вот философский факультет МГУ… Мне ведь даже на химфак не хватило одного балла, и я училась в небольшом и уютном химическом вузе, аббревиатуру которого – МИТХТ – мы с шиком расшифровывали непосвящённым как Московский институт театрально-художественного творчества. Мой Игорь, тогда студент Бауманки, тоже поначалу попался на эту удочку.
После Мамардашвили и Тойнби, «Истории новой философии» Виндельбанда и «Истории западной философии» Рассела, «Истории христианства» Тальберга и «Истории русской философии» Зеньковского пришло время русских религиозных философов. Бердяев, Шестов, Ильин, Франк, Лосский, Булгаков, Флоренский… Как раз в это время на первом этаже института, в здании которого помещалась наша редакция, появился киоск «Академкнига» с суровым пожилым продавцом Николаем Александровичем. Я его почему-то побаивалась и покорно покупала предлагаемые книги. Ну не все, конечно.
– Ольга, подойди ко мне! – разносился начальственный крик Николая Александровича под гулкими сводами институтского вестибюля, когда я пыталась, минуя киоск, прошмыгнуть к лифту.
– В перерыве, Николай Александрыч, я же опаздываю… – говорю умоляюще, нажимая кнопку лифта и косясь на висящие над входом часы.
Да ещё, как нарочно, наш заведующий Семён Львович прогуливается по вестибюлю с каким-нибудь автором и укоризненно поглядывает на меня поверх «дальнозорких» очков.
– Хорошая книга, только у меня сейчас денег нет! – честно говорю в перерыве.
Но Николай Александрович неумолим.
– Займи у товарищей! Я специально для тебя со склада вёз, а у меня, между прочим, радикулит!
Приходилось занимать у ребят – верстальщика Лёшки Хомякова или Павлика, нашего системного администратора.
– Ольга Геннадьевна, этот мужчина вас погубит! – хохочет Павлик.
– Он вас разорит! – поддерживает друга Лёшка.
– Да вы поймите, – оправдываюсь, – он же не от хорошей жизни… У него радикулит и пенсия маленькая, а до перестройки был, небось, руководителем. Каким-нибудь главным инженером или начальником отдела…
– Ага, начальником первого отдела он был, – веселятся мои злодеи. – Знаете такой отдел, Ольга Геннадьевна?
– Не знаю и знать не хочу! – сержусь я.
Конечно, я знала такой отдел и даже недавно общалась с Константином Николаевичем, престарелым начальником первого отдела моего бывшего института. Уйдя в редакцию, я продолжала по старой дружбе переводить статьи и отчёты для Юрия Степановича, моего завлаба из прошлой, «химической» жизни. Юру, однако, угнетала необходимость ради этого встречаться со мной в метро. Я обычно романтически назначала ему свидание «на нашем месте» – под мостиком перехода на «Библиотеке имени Ленина», но Юра вечно не успевал, забывал, путал и опаздывал, и я ждала его, читая новую философскую книжку под грохот набегающих поездов.
– Слушай, возвращайся к нам на полставки, – убеждал Юра, замотанный добыванием грантов и бесконечными отчётами. – Будешь приезжать раз в недельку, переведёшь, поболтаем, чайку попьём…
Ну что ж. Директор института по просьбе Юрия Степановича безропотно подписал приказ на полставки. Нужна была виза первого отдела. Я была там единственный раз – в том самом восемьдесят втором году, когда устраивалась на работу по распределению сразу после окончания МИТХТ. Тогда я называлась «молодым специалистом» и подписывала какие-то бумаги: «Обязуюсь не разглашать… после общения с иностранными гражданами… обязуюсь…»
За прошедшие семнадцать лет в убранстве первого отдела произошли существенные изменения. В восьмидесятые годы молодые специалисты робко жались к исцарапанным полосатым обоям в крохотной комнатёнке с тремя обтянутыми дерматином стульями и висевшим на стене чёрным аппаратом местного телефона. И стулья, и телефон казались вытащенными из тридцатых годов, не хватало только портрета сами понимаете кого, а Константин Николаевич или его помощница общались с народом через крохотное окошечко в стене. Теперь же обои были заменены белой матовой пластмассой – «сайдингом», отчего казалось, что тебя засадили в холодильник. А я была впущена в самоё «святая святых», оказавшееся просторным помещением с решётчатым оконцем, огромным железным шкафом в углу и совершенно пустым и обширным, как равнина, письменным столом. Я успела подумать: «Вот бы такой стол да к нам в редакцию!» За столом восседал Константин Николаевич с величественным видом египетского фараона или, скорее, каменной скифской «бабы». Он, казалось, совершенно не изменился: те же водянисто-серые глазки, небольшой круглый животик и трогательный белый пушок на лысине. Вот только мясистый утиный нос теперь был покрыт густой сетью красных жилочек – Юра сказал, что Константин Николаевич перенёс инсульт.
Мне было предложено подписать вынутые из железного шкафа, по-моему, те же самые, пожухлые и изрядно пожелтевшие за семнадцать лет, бумаги: «Обязуюсь не разглашать… после общения с иностранными гражданами… обязуюсь… в письменной форме…»
– Да как же это?! – аж задохнулась я. – Меня ведь берут именно для разглашения иностранным гражданам в письменной форме! Переводчиком.
– За это будет нести ответственность ваш завлаб, – смотрит прозрачными глазами Константин Николаевич. – А я не имею права пропустить вас на территорию института, если не подпишете. Готовы ли вы пойти на ограничение ваших прав?
– Ни за что! – с наслаждением отчеканила я, повернулась и вышла.
– Ольга, ну что ты как ребёнок! – сердился Юра «под мостиком». – Это же простая формальность! Да кому сейчас всё это надо…
– А вот как не пустят меня куда-нибудь за границу – и ни ты, ни директор ничего не сможете сделать! А мне в Грецию надо! За шубой!
На этом и закончилось моё знакомство с первым отделом – надеюсь, навсегда. А Николай Александрович всё же, думаю, был из какого-нибудь другого отдела, потому что он был никудышным психологом и иногда очень грубо «прокалывался».
– Ольга, подойди ко мне! Вот, специально для тебя привёз, – тащит из-под прилавка книженцию в яркой глянцевой обложке и читает торжественно: – Как это… сейчас… А, вот! Ты хочешь быть успешной на работе и дома?
– Ни за что на свете! – совершенно искренне кричу я и бегу к лифту.
Конечно, чаще я что-то покупала, а коллектив принимал в этом самое горячее участие.
– Ну-с, что приобрели? – смотрит поверх очков Семён Львович.
– Вот, Франк, – показываю книжку.
– А, тёзка! Похвально, – одобряет шеф.
– Эс Эл Франк. «Свет во тьме», – Лёшка засматривает на обложку. – Он что, тоже Семён Львович?
– Он Семён Людвигович! – торопится Павлик. – А его родной брат, Михаил Людвигович, – математик, а оба племянника – академики, физик и биофизик…
Это Павлик так ностальгирует по науке. Он пришёл к нам, бросив аспирантуру физтеха – что-то с темой не сложилось, руководитель уехал…
2
Особенно памятно мне обсуждение книги Бердяева «Диалектика божественного и человеческого», потому что в тот день я потеряла в метро любимую енотовую шапку, привезённую из Греции в придачу к шубе. Раньше я ведь читала как дышала, вися в вагоне чуть ли не вниз головой, уцепившись за поручень, а теперь приходится лезть в сумку за очками, а их там не сразу и найдёшь, перед пересадкой надо снимать очки, запихивать в сумку вместе с книгой… Вот шапка и выпала. Я опомнилась только на другой ветке.
– Так вам и надо! – злорадно сказал Лёшка. – Поразвешивали тут… шкуры убитых животных!
Действительно, в шкафу завелась моль, и мы развесили шубы на гвоздиках и плечиках вдоль стен, от чего редакция приобрела вид компьютеризованной пещеры. Нутриевая шуба Людочки, Галин опоссум и мой «греческий» енот. И холодно, как в пещере! В институте опять не топят.
Женская половина редакции защищает права на шубы.
– Носить меха – наша традиция! – говорит Галя.
– И единственное утешение русских женщин, – вздыхает Людочка.
Муж Люды пьёт. Был завотделом отраслевого НИИ, а когда их разогнали, пришлось заняться «бизнесом», то есть чем-то торговать, чуть ли не гербалайфом, ну и… понятно…
– В Европе гринписовцы вас бы краской облили! – поддаёт жару Павлик.
– Вольно им в Европе дурью маяться! Там тепло, а у нас морозы! – парирую я.
– То-то вы распаренная, как из бани! – не поднимая головы от корректуры, замечает Семён Львович.
– Так я из метро!
Украдкой смотрю в зеркало. И вправду – рожа воспалённая, красная, лоб блестит от пота. Надо с собой что-то делать! Пудриться начать, что ли…
Потом Семён Львович заявил, что Бердяева читать вообще вредно, а мне в особенности, потому что у меня якобы и без «всех этих белибердяевых» каша в голове.
– А вот вы не правы, Семён Львович! У Бердяева много, конечно, вещей взаимоисключающих, но есть и совершенно трезвые и крайне для нас сегодня актуальные, например рассуждения о дьяволе!
– Чего-чего? – оживляется Павлик.
Все разом начинают говорить. Кто бы мог подумать, что у каждого в связи с дьяволом так наболело! А Лёшка бросил вёрстку, привычно развернулся от компьютера на своём кресле на колёсиках и даже рот открыл.
Звонит мой мобильник. Это Юрий Степаныч.
– Оля, у нас отчёт по гранту. Переведёшь? Только срочно!
– Ну, скинь по мейлу.
– Да Владимир Николаевич опять свою часть от руки написал, ты ж его знаешь… Пять страниц, не набирать же!
– Тогда под мостиком в восемь!
– А где ты была, когда я звонил? – любопытствует Юра вечером «под мостиком».
– В редакции, где же ещё…
– А чего у вас там такой крик стоял? Я думал, ты где-то на митинге…
– Видишь, в каких условиях приходится работать!
Тогда я доказывала, что Бердяев справедливо подметил, что дьяволом не пугать народ надо, а, напротив, объяснять, что этот господин скучен, пошл, банален…
Но Семён Львович, как всегда, разворачивает дискуссию:
– Оля, дорогая! Да кто и когда его боялся? Пошлость и привлекает… Вот и вы, Алексей, наверняка каждый день смотрите это ваше «За стеклом» или что-то в этом роде?
– «Дом два», – ехидно подсказывает Галя.
Лёшка конфузится:
– Да я изредка, только чтоб отвлечься… Обалдеешь тут от вёрстки…
– Вот, пожалуйста! Не то делаю, что люблю, а то творю, что ненавижу…
– А я не понимаю, почему Бердяев считает, что свобода была раньше Бога, – Павлик старается отвлечь всеобщее внимание от побагровевшего Лёшки.
– А вот это как раз и верно!
– Да господь с вами, Семён Львович! Как такое может быть? Это же ересь!
– Ересь, Ольга Геннадьевна, – это то, что вы коллектив от работы отвлекаете, – почему-то рассердился шеф. – Пожалуй, надо вас уволить!
– Молчу-молчу…
Я повернулась к компьютеру и забарабанила по клавиатуре, стараясь попадать в такт выпрыгивающей из радио цыганочке. Я знала, что шеф меня не уволит.
Он частенько вылезает из своего импровизированного кабинетика за шкафом и, останавливаясь у меня за спиной, говорит с удовольствием:
– Вы, Ольга Геннадьевна, прямо как шахтёр в забое! Как?! И обзор уже перевели? Вот это я понимаю! Дадим стране угля!
Правда, у моего друга-переводчика Валентина из редакции «Журнала новых химических проблем» несколько другие ассоциации.
Как-то, подобно Семёну Львовичу, он долго стоял у меня за спиной, мрачно подсказывая:
– Дефис пропустила.
– Да вижу, вижу!
– А без артикля специально? Я бы здесь «the» поставил…
Смотрел-смотрел, а потом вдруг и брякнул:
– Знаешь, Ольга, мне эта наша деятельность напоминает работу ассенизатора. Целыми днями перелопачиваем чьё-то дерьмо.
– Валя, – в восхищении зашептала я, откидываясь на спинку кресла, – я ведь точно так же думала, только озвучить стеснялась!
Нет, я тогда нисколько не испугалась угрозы увольнения, но обиделась за «белибердяевых», вспомнив повесть Юрия Трифонова «Предварительные итоги». Там ведь наш с Валей коллега, только гораздо более высокого полёта, поэт-переводчик Геннадий Сергеевич возмущается пристрастием жены к этим самым «белибердяевым». Но жена-то его нигде не работает и даже не справляется с домашним хозяйством в семье из трёх человек, и поэтому у них всегда живёт домработница. И где только Юрий Валентинович выискал такого монстра в семидесятом году? Ну а я сама себе переводчик, домработница и даже ассенизатор и буду читать что хочу!
А ещё, стуча по клавишам, я думала об овдовевшем философе Бердяеве, старом и беспомощном. О том, как он писал об ухаживавшей за ним сестре покойной жены – «Я бы не выжил без неё» – и об их таком же, как они, старом и уже умершем коте: «Всё время вижу, как он прыгает мне на колени…»
В другой раз я расплачивалась за удовольствие читать книжки по философии переводом длинного и мучительного китайского обзора. Китайского я, конечно, не знаю (мне только этого не хватало!), творение китайского автора надо было перевести с английского на русский. Ух, как же тяжело переводить на родной язык! Застреваешь на каждом предложении. То ли дело «американский» английский, будто специально придуманный для технических текстов! Вот все от переводов на русский и отлынивают до последнего…
– Не надо переводить, как Шекспир! – заклинал нас Семён Львович. – И никаких собственных измышлений! Ясность, лаконичность – вот что от вас требуется!
– Почему же «как Шекспир»? Мы ведь на русский переводим… Вы хотите сказать, не надо как Лев Толстой?
– И как Толстой тоже не надо!
В тот день я притащила из «Академкниги» сборник статей Константина Леонтьева «Храм и Церковь».
– Олечка, – сказал коварный Семён Львович, – вы такая милая женщина. Ну зачем вам эта «конституция с хреном», то бишь византизм и Царьград с проливами?
– С какими проливами?
– По-видимому, Босфор, Дарданеллы… Вам с Леонтьевым лучше знать. Вы что же, в книгу и не заглядывали? Там ведь эти проливы на каждой странице.
– При чём тут проливы? Леонтьев пишет про «цветущую сложность», это так важно в нашу эпоху глобализма и всеобщего массового усреднения…
– Про «цветущую сложность» вы, положим, в предисловии прочитали, а дальше на каждой странице «Царь-град с проливами»! Готов держать пари! Алексей, вы лицо незаинтересованное, будьте арбитром! Открывайте на любой странице, и, если там «Царьград с проливами», Ольга Геннадьевна берёт на перевод Хуан Фэня. К четвергу сделаете, Ольга Геннадьевна? Нет, лучше к среде.
– Ко вторнику не хотите? – говорю я как можно более ядовито: вторник – завтра.
– А я заинтересованное лицо, – неожиданно басит Лёшка.
– Отчего же? Вы ведь не переводите…
– Зато я верстаю! И верстаю, Семён Львович, восьмой номер! А между тем уже октябрь месяц.
– Да, действительно, – смущается шеф, – переводчики задерживают… Вот мы и нагоним с помощью Ольги Геннадьевны!
– Да что вы там нагоните! – вступает Галя. – Несчастный Хуан Фэнь валяется у нас уже полгода!
– И тем не менее… Павел, тогда я вас попрошу! А если «проливов» не окажется… Ольга Геннадьевна, чего вы желаете?
– Ничего я не желаю.
– Павел! Ольга Геннадьевна ничего не желает!
Лёшка не хочет уступить Павлику роль арбитра. Ухмыляясь, он вырывает у меня Леонтьева, мгновенно выхватывает опытным версталыцицким глазом требуемый текст и торжественно читает:
– Страница сто сорок… «И теперь… теперь… как страшно подумать, что нечто самое существенное для нас ускользнёт опять из наших рук! Самое существенное – это Царьград и проливы».
– Что и требовалось доказать! – ликует шеф. – Людочка, будьте добры, передайте Ольге Геннадьевне Хуан Фэня! Да-да, с «кишками»!
– Семён Львович, это нечестно!
– Отчего же?
Это «отчего же», употребляемое в редакции при всяком удобном случае, а часто и совсем не к месту, ввёл в обиход мой сын Серёжка.
3
Я устраивалась в редакцию в девяносто первом году, когда Серёжка учился во втором классе. Мама тогда ещё работала, а Серёжка ходить на продлёнку решительно отказывался. Меня это изумляло. Я-то очень любила свою продлёнку конца шестидесятых. Бабушка умерла, когда мне исполнилось семь лет, мама на первых порах готовила как-то не очень разнообразно и на ужин нам с папой всегда подавала густые разваренные борщи или гигантскую куриную ногу в бульоне, а на продлёнке мы вкусно и очень весело обедали. Главное же, честно приготовив уроки, мы «бесились». Не помню точно, в чём это выражалось, но сие действо представлялось нам совершенно упоительным. Чудесная смесь чего-то природно-инстинктивного и осознанно-ритуального, вроде вечернего «бешенства» домашних кошек, смутно припоминающих, что они были когда-то ночными хищниками.
Утром на переменках мы, к зависти не ходивших на продлёнку одноклассников, то и дело заговорщицки напоминали друг другу:
– Быстренько сделаем уроки – и будем беситься!
Не успевавшим сделать уроки «быстренько» все самоотверженно помогали. У Серёжки же в классе царил крайний индивидуализм.
– А Серёжа опять от нас… дистанцировался, – встречала меня в школьном дворе «продлёночная» учительница, отрешённо глядя куда-то в сторону.
– Серый! – кричали мальчишки, задрав головы. – За тобой пришли!
Под самой раздвоенной вершиной высокой ели намечалось лёгкое шевеление, затем оно плавно прокатывалось колючей зелёной волной вдоль ствола вниз, и из-под широких ёлочных юбок «раструбом» спрыгивал на палевую осеннюю траву Серёжка – с независимым видом, в выбившейся из штанов байковой рубахе, большеголовый и растрёпанный, как Страшила из «Волшебника Изумрудного города». Учительница очень беспокоилась о самочувствии ели, произносила какие-то смутные слова о том, что растения мыслят и чувствуют «не хуже нас с вами»… В общем, с продлёнки Серёжку пришлось забрать. Вот и приходилось таскать мальчишку с собой в редакцию.
Помню, в первый раз мы пожаловали вдвоём как раз в тот день, когда должен был решиться вопрос о моём зачислении в штат редакции.
– Здравствуйте, Семён Львович! А это, извините, младенец, которого не с кем оставить…
– Ну здравствуй! – сказал Семён Львович, глядя на Серёжку поверх очков.
Серёжка молчал, надменно его разглядывая.
– Ты что же, никогда ни с кем не здороваешься?
– Отчего же? – процедил мой сын, смеривая высокомерным взглядом предполагаемого начальника матери.
К моему удивлению, Семён Львович нисколько не оскорбился, охотно взял меня на работу и не возражал даже, когда я иногда приводила Серёжку на редакционные сабантуи.
– Ну-с, Сергей Игоревич, коньячку? – серьёзно спрашивал шеф, а Серёжка важно кивал и тянулся через стол чокнуться с Семёном Львовичем чашкой томатного сока.
Правда, всё это привело к тому, что мой ныне двадцатичетырёхлетний сын с тех пор и по сей день совершенно искренне убеждён, что на работе мать и её коллеги только и делают, что выпивают и закусывают. А пятнадцать лет назад маленький Серёжка со всех ног наперегонки с котом мчался к телефону и восторженно вопил:
– Мама! «Вести» звонят!
Журнал наш называется «Известия химических наук».
Знакомством с Фёдором Ивановичем Гиренком я тоже обязана «Вестям». Книгу его «Патология русского ума. Взгляд на русскую философию» из серии «Путь к очевидности» я впервые увидела в киоске у Николая Александровича в девяносто девятом году. Почему-то я тогда её не купила, да и Николай Александрович не настаивал: он пытался всучить мне «Священную книгу Тота. Великiе арканы Таро. Абсолютные начала синтетической философии эзотеризма. Опытъ комментарiя Владимiра Шмакова». Конечно, не Тот и не Шмаков меня сбили. Я поняла, что автор «Патологии» Ф. И. Гиренок – профессор философского факультета МГУ, а с этим учебным заведением у меня были застарелые сложные отношения, обострившиеся как раз в преддверии рокового двухтысячного.
Мой Серёжка учился в так называемом «классе МГУ» физматшколы и через год намеревался поступать туда и только туда: в университет на ВМК – факультет вычислительной математики и кибернетики.
– Что вам дался этот эмь-ге-у? – нарочно противно выговаривал мой папа. – Свет клином, что ли, сошёлся? Столько прекрасных вузов в Москве!
Под прекрасными вузами подразумевалась папина Тимирязевка и отчасти мой МИТХТ, но при всём к ним уважении это в данном случае не подходило. А в Бауманский, который закончил Игорь, Серёжка, без сомнения, и так поступит – там по русскому и литературе не сочинение, а зачёт. Он и поступил так же, как ещё в одиннадцатом классе поступил в МИЭМ – Московский институт электроники и математики, несмотря на то что в этом институте сдавали сочинение. Наш мальчик получил триумфальную тройку, сочинив на «свободную» тему что-то такое о компьютерах и их безусловном превосходстве над слабым человеческом разумом. Но это всё не то, не в счёт! Наш Зелёный признаёт только ВМК МГУ! Да и я, честно говоря, тоже.
Зелёный – это домашнее Серёжкино прозвище. Лет в шесть он болел ветрянкой и сидел дома, измазанный зелёнкой.
– А Серый скоро выйдет? – спросили во дворе Серёжкины приятели.
– Он не Серый, а Зелёный, – отвечал мой папа, – а выйдет, когда поправится.
Сейчас папа опять выступает с особым мнением:
– Если так уж необходим университет, пусть вон к деду Жене едет! В Астрахань!
Дед Женя – это мой дядя, мамин брат, профессор Астраханской консерватории.
– Ну, что ты, Гена, с какой стати? – возмущается мама. – Зачем Серёженьке поступать в провинциальный университет? Он же москвич!
– Подумаешь! И это не он москвич – это я москвич!
– Не надо, дедушка. Всё-таки я здесь родился, и мама тоже… А тебя привезли в Москву прадедушка и прабабушка.
Это нечто неслыханное. Серёжка в первый раз в жизни не согласен с дедом.
– Ну и поступайте в ваш эмь-ге-у!




