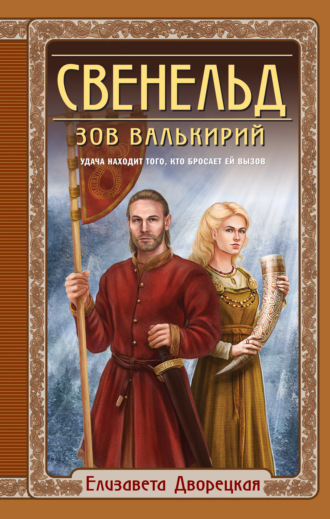
Елизавета Дворецкая
Свенельд. Зов валькирий
Вздыхая, прерываясь иногда перевести дух, наконец она приладилась. Радонега гладила ее по голове: дескать, бывает, само собой ничего сразу не получается, всему учиться надо! Витислава изо всех сил собиралась с духом: ведь дело важное – ворожба. Если она ради своего мужа не постарается, кто же его защитит? Только та «хаминга», о которой толковал Альмунд.
И привиделось ей, будто сидит здесь, в бане, та рослая жена в белом и ловко прядет нить из лунного света… Ведь их род – знатный, от князей датских, хаминга их и не такое должна уметь.
Когда наконец Радонега знаком показала, что достаточно, у Витяны уже руки отнимались.
Лучинка тем временем преспокойно спала на лавке в предбаннике, съежившись для тепла. Разбудив ее, отправились обратно в городец. Ночь уже заворачивала к утру, Витислава чувствовала себя разбитой, будто на ней пахали. Но Радонега одобрительно похлопывала ее по плечу, и сама она чувствовала, что кое-чему научилась. Сквозь усталость пробивалась гордость: пока ее ровесницы в лелешки тряпичные играют, она несет обязанность знатной жены оберегать мужа!
Днем Радонега позволила Витяне отоспаться, а вечером снова повела в баню. Нынешний урок был полегче: они всего лишь растопили печь, нагрели воды, сделали настой корня марены, размотали вчерашнюю пряжу и выкрасили в красный цвет. Витяне удалось даже подремать, пока пряжа настаивалась. Потом они ее прополоскали, развесили сушить над печью и пошли спать. Но мужчины уже с утра были так заняты подготовкой к походу – Альмунд толковал с каким-то мужиком о сушеной рыбе, а Свен увлеченно бранился с другим из-за ледоходных шипов для лошадей, которых оказалось недостаточно, – что никто и не замечал, что их женщины, особенно Витяна, бледны и зевают украдкой.
На третий вечер мужчины легли спать раньше обычного – завтра чуть свет Свену и Велераду предстояло выступать по Мсте на юго-восток, к землям мере. В этот день они сходили в баню, и когда Радонега с невесткой пришли туда, там стояло ровное влажное тепло с запахом распаренных веников и целебных трав. При огоньке светильника они заправили по четыре крашеные нити в отверстия ткацких дощечек и принялись ткать тонкие, но прочные плетежки[12]. Это делается обеими руками, и к этой работе Витислава привыкла с восьми лет, так что могла ее выполнять даже в полудреме. Только полагалось молчать.
– Теперь запоминай, – сказала Радонега, когда они закончили и свернули готовые плетежки. – Сильному слову тебя обучу. Его говорить надо так, чтобы другие не разобрали, и на память затвердить. Повторяй да запоминай: «Огораживаю я мужа моего, Свенельда, Альмундова сына, оградой крепкой от земли до неба, с закатной стороны на подвосточную…»
– С закатной стороны на подвосточную… – старательно повторяла Витислава, рисуя в голове все эти стороны, багряные от солнечных лучей, чтобы крепче держались.
– Ограждаю от зла черного, от худой немочи, от наведенного, от наговоренного…
– По воде напущенного, по ветру насланного…
Прикрыв веки, Витислава старалась шептать так же, как Радонега – невыразительным голосом, через узкую щель между губами. И видела это неясное, неразличимое зло, летящее на ветру или скользящее по поверхности текучей воды; зло походило на серые расплывчатые тени, но если их тронуть – опалит холодом, порежет, будто острый нож.
– Затворяю дорогу колдуну и колдунье, ведуну и ведунье, злым бабам чудским, лихим девкам мерьским, заговариваю от белого, от черного, от рудого, от русого, от красной девицы, от лихой вдовицы, от призора, от порчи, от сглаза. Отсылаю все болезни и хвори, призоры и прикосы черному медведю на хребет!
Витислава содрогнулась, как будто этот медведь вдруг выскочил черной глыбой из темноты. Но его нужно было не бояться, а заставить служить.
– Ты понеси, черный зверь медведь, в темные леса, в глухие болота, чтоб там жили, вовек не воротились…
Придя назад в девичью избу, Витислава улеглась, но до самого утра почти не спала. Три бессонные ночи за ворожбой, понимание того, что завтра все изменится, так ее растревожили, что сон не шел. Каждое мгновение казалось длинным, а ночь – бесконечной. Радонега твердила, что она, Витяна, должна сделать для Свена невидимую защиту. Но хорошо ли у нее вышло? Что будет, если его настигнут все эти злыдни и беды? Как там было: колдун и колдунья, ведун и ведунья, злые бабы чудские, лихие девки мерьские… Черный зверь медведь! Витислава снова вздрогнула. Ей представлялся Свен, с мечом выходящий против огромного черного медведя, величиной с избу, и становилось страшно, и хотелось помочь – но как? Не так чтобы она привязалась к мужу – за эти месяцы он стал ей привычнее, но не стал ближе. Однако Свен привез ее сюда, с ним она была знакома дольше всех прочих, и Радонега учила ее смотреть на него как на свою судьбу. Случись с ним беда – она останется вовсе без судьбы…
Потом кто-то тронул ее за плечо. Над ней склонилась Лучинка:
– Ступай, госпожа в ту избу зовет.
В ту избу – это значит, в хозяйскую. Быстро умывшись и одевшись, Витяна дала служанкам замотать и заколоть на ней покрывало, накинула кожух на белке – новый ей обещали, но еще не приготовили, – и перебежала в большую избу. За пазухой у Витяны лежал завернутый в платок красный шерстяной плетежок – ее рукоделие с трех ночей в бане.
Снаружи было еще совсем темно, однако утро наступило. Шел крупный снег, покрывая свежие отпечатки ног. Ворота стояли открытыми, отроки переносили на плечах из клети какие-то мешки, тиун отдавал распоряжения.
В большой избе уже все встали, две служанки собирали завтрак, на столе теснились блюда, горшки и миски.
– А вот и жена твоя! – Радонега кивнула Свену. – Вставай!
– Будь жива! – Свен шагнул навстречу Витяне и улыбнулся.
– Будь жив, господин! – шепнула она и вопросительно взглянула на Радонегу.
Та сделала сыну какой-то знак. Свен, сдерживая ухмылку – дело-то важное! – расстегнул узкий кожаный пояс с литой бронзовой пряжкой и задрал подол сорочки, так что стал виден верхний край портов, где гашник. Радонега показала Витяне: приступай.
Слегка дрожащими руками Витяна вынула из-за пазухи плетежок, развернула, опоясала им Свена, едва сумев обхватить его стан, и зашептала себе под нос, как учили:
– Огораживаю я мужа моего, Свенельда, Альмундова сына, оградой крепкой от земли до неба, с закатной стороны на подвосточную…
Иногда она сбивалась, останавливалась, вспоминая, что там дальше, но никто в избе не шевелился; даже дыхание все затаили, невольно вслушиваясь в шепот и не разбирая ни слова.
Добравшись до черного медведя, Витислава ему почти обрадовалась, как знакомому. В темные леса… в глухие болота… слово мое крепко, вовек нерушимо… Все!
Завязав плетежок на три узла, Витяна попятилась, Свен опустил подол сорочки и снова подпоясался верхним поясом. А тот, заговоренный, он теперь не снимет до самого возвращения домой, даже мыться будет с ним.
– Ну вот! – сказал Годред. – Теперь если кто скажет, что от твоей жены нет пользы…
– Я ему в морду дам! – перебил Свен, обернувшись к нему. – Отвешу хорошего такого, запоминающегося леща! Она – внучка князей и правнучка богов, как и мы. У нее тоже есть княжеская удача. И то, что она – моя, увеличивает мою удачу. Сказать, что от этого нет пользы, может только недоумок.
– Будь она еще немного поменьше, ты мог бы посадить ее в мешочек и носить за пазухой! – с мнимым миролюбием заявил Годред. – Был бы оберег всем на зависть.
– Напрасно ты все же остаешься дома! – с сожалением ответил ему Свен. – Мог бы пойти с нами и отыскать себе жену ростом с бортевую сосну! Вот такая была бы тебе под стать, и ты наконец-то перестал бы мне завидовать!
– Сейчас я для кого-то найду хорошего леща…
– Уймитесь, вы! – строго сказала Радонега. – Оба давно уже зрелые мужи, а бранитесь, как отроки!
– Была бы у него настоящая жена, – обратился к матери Годред, – я бы сам пошел за данью, а ему дал бы побыть с ней дома! Но коли он привез не столько себе жену, сколько тебе дочку, – он смерил взглядом молчаливо стоящую Витиславу, – то лучше ему заняться делом, а она, глядишь, тем временем и подрастет!
– Была бы дочка добрая да разумная, вот как Витяша, я бы всякой обрадовалась, – миролюбиво произнесла Радонега, приобнимая девочку, у которой от обиды слезы появились на глазах. – А рост – дело наживное, какие ее годы?
– Надеюсь, ростом с Годо она все же не будет… – проворчал Свен.
Пока позавтракали, рассвело, Свену и Велераду пришла пора трогаться в путь. Обоз собрался, лошадей запрягли, товары погрузили. С родичами отъезжающие простились в избе – оба брата обняли отца, мать, Годреда и Витиславу. Свен легонько поцеловал ее в щеку, и она вздрогнула – до этого он так же поцеловал ее только на свадьбе. Не так чтобы ей было неприятно, лишь слегка неловко: подходя к нему так близко, она яснее ощущала, как он непохож на нее, как от нее далек. И не верилось, что когда-нибудь это изменится. Ведь после свадьбы она уже сама себя считала взрослой женщиной и не могла представить, что со временем сделается еще взрослее, станет истинной ровней для этого рослого мужчины с уверенными ухватками.
На внешнем причале обождали среди толпы, пока появились Олав с семейством, чтобы еще раз пожелать своим людям удачи. Даже Ульвхильд благосклонно кивнула Свену и Велераду.
– Выберите для нас самых лучших куниц и бобров, – величаво пожелала она.
Обоз тронулся по дороге к реке Мсте, где начинался путь через подвластные Хольмгарду земли, лежащие на юго-востоке.
Радонега приобняла Витиславу за плечи. Та невольно вздохнула. Свен, будучи дома, не так уж часто ее замечал, но без него сразу стало как-то пусто. А из двоих других деверей лучше бы Велерад остался дома – он всегда был с ней приветлив. А не этот противный Годо, что смотрит на нее, будто на мышь, застигнутую посреди стола.
– Да будет с тобой хамингья… – прошептала Витислава, глядя вслед саням и уже не различая Свена, верхом ехавшего где-то впереди.
Ей виделась белая женщина, неслышно следующая за Свеном. Раз он отправился искать славного дела, она же должна идти за ним?
И черный медведь…
– Ничего, – сказала Радонега, тоже вздыхая. – Придет весна, они и воротятся.
Сейчас, на самой верхушке зимы, казалось, что до весны еще лет десять…
* * *
В Хольмгарде справили уже и «старый йоль», в этот раз отстоявший от «нового йоля» на месяц с лишним, когда явился гонец из Взвада – заставы на устье Ловати, впадающей в Ильмень-озеро с юга. Сообщили, что к Олаву едут посланцы из Киева. Весть эта взволновала весь дом: за ней неизбежно должно было последовать нечто важное. С людьми Хельги Хитрого – славяне произносили его имя как Олег и с недавних пор почтительно именовали Вещим – северные русы каждый год встречались на Десне, где ранним летом собирался ежегодный обоз для путешествия в Саркел, так что обычные киевские новости здесь знали. Посольство от Хельги означало нечто такое, что способно переменить весь порядок и уклад или подтолкнуть значительные события.
– Уж не затеял ли Хельги опять пойти на греков? – гадал Олав в кругу своих приближенных. – В тот раз он удачно сходил, но с договором цесари тянут уже три лета. Не задумал ли он подтолкнуть их копьем в задницу и просит нас о помощи?
– Тогда нам придется решать, куда идти – с ним или на сарацинов, – напомнил Торстейн.
– Я не прочь побывать у греков, пока в силах натянуть лук! – усмехнулся Альмунд. – Да и парням охота поглядеть, как виноград растет.
– Годо не вернется домой без цесаревой дочери, после того как Свен так отличился со своей женитьбой! – воскликнул Олав, и все засмеялись.
Заключения договора с цесарями, который дал бы право возить свои товары на константинопольские торги, с одинаковым нетерпением ждали и в Киеве, и в Хольмгарде. Еще один, новый путь к источникам серебра, золота, шелка, вина и прочего был очень важен на случай возможного разлада с хазарами.
– Если с самим Хельги ничего не случилось! – многозначительно заметила Сванхейд. – Он ведь человек уже не молодой…
– И этого нельзя исключить… – задумчиво ответил Олав.
Они с женой переглянулись. Если так, то следующий киевский князь сейчас находится в их доме, а это повод призадуматься.
Лет двадцать пять тому назад через Ладогу и Хольмгард прошел на юг некий вождь с дружиной по имени Хельги сын Асмунда, Хельги инн Витри, как его звали свои, то есть Хельги Хитрый. Он происходил из рода Скъёльдунгов, но ютландскими Кнютлингами был вытеснен из своих владений и отправился на Восточный путь поискать новых. Олав, в то время ребенок, самого Хельги не запомнил, у него осталось в памяти лишь смутное ощущение, будто происходит нечто важное. Это называлось «когда здесь были даны», и суть дела ему уже потом передавали отец и мать. Хельги желал отправиться в сторону чуди, где можно раздобыть ценные меха и восточное серебро, но туда его не пустил Хакон, отец Олава и тогдашний владыка Хольмгарда: этими мехами он сам брал дань, а потом сбывал хазарам. Уже более ста лет дорожка, вымощенная серебряными шелягами, тянулась с юго-востока, от берегов Хазарского моря, на северо-запад, до крайних пределов Страны финнов, за которой только Ётунхейм, и по этим светлым следам сюда, на Восточный путь, снова и снова стремились отважные охотники за славой и богатством.
– Но я не возражаю, если ты пойдешь на юг, – сказал Хакон молодому вождю. – Там уже немало русов – в Сюрнесе на верховьях Днепра, в Киеве на полпути к Греческому морю. Я слышал, лет двадцать назад они ходили на то море викингскими походами и стяжали славу. В тех краях отважный человек найдет свою долю.
Хельги понимал: те русы, что сидят на Днепре, не более самого Хакона захотят делиться своим счастьем. Но биться с Хаконом он был не в силах, и оставалось принять то, что ему предлагали.
Хакон, признаться, думал, что более никогда не услышит об этом удальце, что Хельги сгинет на славянских реках или будет убит в борьбе с Хёскульдом из Кенугарда, имевшим в союзниках самого цесаря. Но нет – изгнанника любили боги и вели туда, где припасли для него лучшую долю. Прошел год, и от Хельги прибыли посланцы: он сообщал, что овладел Кенугардом и прилегающими к нему землями, и теперь предлагал Хакону союз на равных. Пока что Хакону не было большого толка в этом союзе: земля Полянская, зажатая между древлянами на правом берегу Днепра и хазарскими данниками – на левом, ничего важного не могла ему предложить. Но Хельги и это сумел изменить. В ближайшие пять-семь лет в Хольмгард приходили вести о том, что он подчинил себе земли по Десне, до того подвластные хазарам. Это уже было важно: по Десне проходил торговый путь на верховья Оки, а потом на реку Дон, в город Саркел и далее в страну хазар. Туда увозили ценные меха северных лесов, а взамен доставляли шелк, серебро, другие сокровища восточных стран. На севере все дивились: видно, уж очень плохи дела у хазар, если они выпустили из рук такой важный узел торговых путей. «Думаю, это ненадолго, – говорил тогда Хакон. – Каган соберется с силами и вернет свое добро!» Два-три года Хакон выждал, не пришлет ли каган войско, чтобы вышвырнуть наглеца из Киева, которым когда-то, сто лет назад, владели сами хазары. Но у того, как видно, нашлись более важные заботы, чем судьба глухого клочка земли на другом краю света. Каган умер, нового по каким-то неведомым здесь причинам хазары так и не выбрали, а правившие вместо него хакан-беки были заняты чем-то другим. Десна и прилегающие земли оставались подвластны Киеву.
Этот успех Хельги Хитрого многое менял и для Хакона: богатство Хольмгарда обеспечивалось причастностью к этому пути. У Хакона имелся договор с хазарами о допуске северных товаров на реку Итиль, но теперь он не мог попасть туда без договора с Хельги киевским!
Хельги же не зря носил прозвище Вещего: в уме ему было не отказать. Он понимал, что засел на очень выгодном месте, но понимал и то, что, слетев отсюда, может сломать шею. Стремясь заручиться поддержкой, он предложил Хакону обмен заложниками: каждый должен был прислать в дом к другому своего наследника.
Основательный и в этом тоже, Хельги взял в жены девушку из старинного полянского рода, который возводили к Кию, богу-кузнецу. От этой жены у него родился сын, Грим-Бранеслав. Его, трехлетнего ребенка, привезли в Хольмгард, а взамен увезли пятнадцатилетнего Олава. Два года спустя Олава в Киеве женили на Гейрхильд, дочери Карла, ближайшего сподвижника Хельги. У самого князя тоже имелись дочери, но старшая в то время была шестилетней девочкой, и повзрослевший парень не мог ее ждать.
У молодой пары родилось двое детей, а тем временем в Хольмгарде умер Хакон. Как и было условлено, Хельги отпустил Олава в его владения, но оставил себе уже его наследника – годовалого Харальда с кормилицей и служанкой. Грим прожил в Хольмгарде пятнадцать лет: здесь он вырос, стал мужчиной, но ни разу больше не видел родителей и даже не знал их лиц. Единственной его связью с родиной были те вести, что раз в год привозили с юга торговые люди.
Неудивительно, что в ночь после известия о скором прибытии киевских послов Грим сын Хельги едва мог спать. Всеми силами души жаждал он угадать, что несут ему посланцы далекого отца, но снилась такая путаная чепуха, что принять ее за вещий сон было никак нельзя.
* * *
День спустя посланцы прибыли. Десяток саней в сопровождении трех десятков отроков, конных и пеших, поднялись со льда Волхова по зимнему въезду и через посадские ворота вступили в город. На площади между дворами их ожидала толпа любопытных, а впереди всех Альмунд, посланный Олавом встретить гостей и проводить в дом. Из сыновей с ним был только Годред, но еще рядом стоял крепкий парень лет восемнадцати-девятнадцати – без шапки, в распахнутом кожухе. По облику он ничем не выделялся среди отроков Хольмгарда: продолговатое лицо с крупноватым носом, золотистая мягкая щетина вокруг рта, светло-золотистые, немного вьющиеся волосы, падавшие на широкий покатый лоб и на глаза, отчего он смотрел немного исподлобья. Выделял его только кафтан, видный под кожухом, – темно-зеленой шерсти, с отделкой голубым шелком с серебром, с серебряными пуговками. Да и сам кожух, крытый коричневой шерстью и подбитый куницей, говорил о многом.
Обоз возглавляли несколько всадников, чьи дорогие кожухи и шапки, уверенный вид указывали: не простые люди, бояре.
– Карл! – Скользнув взглядом по их лицам, юноша порывисто шагнул вперед. – Здравствуй!
Мужчина лет пятидесяти обернулся на голос. Крупные черты обветренного лица, широкий нос, ровные рыжеватые брови, поседевшая рыжеватая борода – весь облик его дышал несокрушимым спокойствием и уверенностью. Взгляд глубоко посаженных голубых глаз был внимателен и цепок. Он еще ничего не сказал, не сошел с коня, однако само его появление, предвещавшее перемены, казалось, уже все меняло.
Прежде чем ответить, он окинул говорившего быстрым внимательным взглядом. Они не виделись четыре лета, а в юности это много – за это время мальчик становится мужчиной и порой делается неузнаваем. Взгляд Карла зацепился за пояс парня – длинный кожаный ремень был усажен узорными серебряными бляшками хазарской работы. Он сам четыре лета назад привез сюда этот пояс вместе с мечом, когда отроку исполнилось четырнадцать. Носить такие пояса было в обычае в Киеве, но в Хольмгарде он имелся лишь один и сам указывал на личность обладателя.
– Здравствуй, Грим! – на северном языке сказал Карл, сойдя с седла и отдав поводья отроку. – Здравствуй, Альмунд! Слышал, у вас все благополучно?
– А у вас? – Грим придвинулся к нему. – Вы… не за мной?
Ему с трудом дался этот вопрос, но выносить неизвестность больше не было сил.
Карл, которому он мешал толком поздороваться с Альмундом, снова взглянул на парня.
– Нет, – спокойно ответил он. – Не в том смысле, о чем ты подумал. Но наше дело переменит и твою жизнь – к лучшему, я надеюсь.
Грим, больше ни о чем не спрашивая, с некоторым стыдом опустил голову. Невозмутимость Карла служила упреком его нетерпению. Но ему хорошо – у него столько всего позади! Грим же только и делал, что ждал, когда придет его время хоть как-то себя проявить. Он родился старшим законным сыном могучего повелителя, но жил, будто девушка, почти не покидающая дома. Сыновья Альмунда, его приятели, почти к тому же возрасту успели повидать дальние страны и всякую зиму ходили в дань, а он был вынужден оставаться с женщинами – самый знатный заложник привязан к дому почти так же крепко, как самый ничтожный раб.
– О, Карл! – раздался рядом звонкий девичий голос: обернувшись, мужчины увидели Ульвхильд в наброшенной на плечи куньей шубке. Она была румяна от волнения, глаза ее живо блестели. – Меня не обманули – ко мне приехал мой дед! Я тебя сразу узнала, клянусь!
Ульвхильд подбежала к Карлу, и тут его невозмутимость растаяла: на лице появилась улыбка, выражавшая радость и восхищение,
– Неужели это моя внучка? – Он охотно обнял девушку. – Не может быть! Ты же была вот такой крошечной девочкой, а теперь ты готовая княгиня!
– Но ты же не думал, что я навсегда останусь мелкой козявкой! – горделиво засмеялась польщенная Ульвхильд.
– Конечно, нет, но с прошлого раза ты подросла на две пяди!
Карл был единственным дедом Ульвхильд, которого она знала; к тому же, рано потеряв мать, она еще сильнее устремилась душой к отцу покойной Гейрхильд.
– Ну, идем! – Ульвхильд потянула Карла за руку к хозяйскому дому. – Они ждут тебя в гриднице.
В честь такого важного гостя гридница была нарядно убрана: к скамьям прикреплены резные узорные доски, по бревенчатым стенам развешаны тканые восточные ковры и дорогие разноцветные одежды, кафтаны и плащи, так что все длинное помещение с двумя очагами посередине оделось яркими красками. Сама Сванхейд стояла перед очагом, держа рог с серебряной оковкой, а Олав ждал, сидя на своем высоком резном престоле.
Карл шел впереди своих спутников; на всех были цветные кафтаны греческого кроя, хазарские пояса, у двоих, кроме самого Карла, – мечи-корляги на перевязи.
– Приветствую тебя, Олав конунг! – Карл снял цветную шапку на черной лисе, открыв высокий прямоугольный лоб и две тонкие косички, заплетенные в длинных волосах по сторонам лица. – Да пошлют боги благополучия твоему дому, родичам, домочадцам и всем землям под твоей рукой!
– Здравствуй, Карл, рад видеть тебя! – Олав приветливо кивнул.
– Да пошлют боги тебе и твоим спутникам благополучие под нашим кровом! – Сванхейд подошла и вручила ему рог.
Прежде чем отпить, Карл бросил оценивающий взгляд на стан хозяйки, выдававший, что не пройдет и двух месяцев, как она подарит мужу еще одно дитя.
– Благодарю тебя, госпожа! Да пошлют дисы и добрая Фригг тебе всю помощь, которая может понадобиться!
– Хотели бы мы узнать ваши новости, но, думаю, сегодня вы предпочтете отдохнуть? Вам приготовлен гостевой дом и баня.
– Нам не худо будет отдохнуть, но потом я хотел бы поговорить с Олавом с глазу на глаз, – негромко сказал Карл, возвращая Сванхейд опустевший рог. – У меня есть важная новость, и хоть она печальна, именно с нее придется начать.
– Печальна? – вполголоса повторила Сванхейд и расширила глаза. – Не хочешь ли ты сказать…
Она огляделась, отыскивая глазами Грима.
– Нет, не то, – Карл, понимавший, о чем все подумают в первую очередь, мотнул головой. – Но… асы и ваны, а это что за светлый альв?
Среди толпы конунговых домочадцев его взгляд зацепился за дородную рослую женщину – Радонегу, а рядом с ней стояла худенькая девочка-подросток, одетая как взрослая, замужняя женщина.
– А! – Сванхейд засмеялась. Карл немало в жизни повидал – даже греческих цесарей Леона и Александра, но сейчас явственно был изумлен. – У нас тоже есть новости, и они, сдается мне, вас позабавят! Кое-кто у нас так отличился, что похитил этого альва из самого Рёрика!
– Надеюсь только, это не Грим… – проворчал Карл.
* * *
Для разговора с глазу на глаз Олав пригласил Карла в свой спальный чулан, называемый в языке русов шомнушей – небольшой покой, прирубленный к гриднице. Олегов посланец значил для него гораздо больше, чем просто боярин-посол: Олав знал Карла с тех пор, как пятнадцатилетним отроком был привезен в Киев. Своего родного отца, Хакона, Олав с тех пор больше не видел, поскольку получил возможность вернуться домой не ранее его смерти, и Карл, отец первой жены, в Киеве был его наставником и советчиком. Сейчас Олаву сравнялось тридцать, он имел собственных детей, но в Карле по-прежнему видел того, на чью мудрость и опыт мог положиться.
При их разговоре больше никто не присутствовал, даже Сванхейд. Вечером гости собрались на пир, и, когда Олав и Сванхейд показались из шомнуши, вид их вызвал тревожный гул. Сванхейд и вошедшая за ней Ульвхильд были одеты в голубое, синее и белое, а одежда Олава оказалась выворочена наизнанку. Лицо Ульвхильд выражало горе, а Сванхейд казалась озабоченной.
Поднявшись на свое почетное место, Олав повернулся к людям.
– Мой родич Карл привез мне горькую весть, – объявил он, не садясь. – Мой сын Харальд, тот, что жил в Киеве у Олега и должен был на следующую осень получить меч… умер минувшей осенью от лихорадки. Сейчас я поднимаю этот рог, – он повернулся к Сванхейд, и она подала ему рог, – в память моего старшего сына, чью нить норны оборвали так рано…
Олав поднял рог к кровле, потом плеснул на пол, потом отпил. Лицо его было спокойным, но погасшим. Он совсем не знал Харальда, с которым расстался более десяти лет назад, когда тот был годовалым чадом. Но все же это был его старший сын, его наследник, который уже вот-вот должен был из мальчика стать мужем, кого Олав в будущем видел господином Хольмгарда – пусть имел мало надежды познакомиться с ним, ведь и Харальд смог бы вернуться в родной дом только после смерти Олава. Однако несколько слов, сказанных удрученным Карлом, все переменили: Олав по-прежнему оставался владыкой обширных земель и немалых богатств, но больше не было у него самого главного – сына, которому он мог бы все это передать.
Сванхейд взяла у него рог и вручила Карлу.
– Господин мой Хельги повелел мне передать Олаву конунгу и всем жителям Хольмгарда, что он скорбит об этой потере не менее, – сказал киянин, плеснув медом на пол. – Десять лет мы растили этого отрока и видели, как много надежд он подавал и каким многообещающим и выдающимся мужем должен был стать… Я, его дед, старался заменить ему отца. Я клянусь, что никто в Киеве не желал ему зла, а если бы такие нашлись, то им пришлось бы иметь дело со мной и с самим князем. Княгиня Бранеслава и дочь ее Венцеслава ходили за Харальдом, как за своим родным сыном и братом, а это сведущие женщины, искусные во врачевании. Но никто не сильнее судьбы. Я прошу богов, чтобы они как можно скорее послали умножения роду Олава конунга и подарили ему семерых сыновей взамен этого одного!
Карл поднял рог, призывая богов его услышать, и отпил. Утешая Олава, он сам испытывал боль куда сильнее: он знал умершего отрока и остро чувствовал потерю. И если Олав мог приобрести еще семерых сыновей от Сванхейд, то самому Карлу никакие силы не дадут нового внука, ибо родившая Харальда сама была мертва.
Пока рог шел вдоль хёвдингов и званых на пир словенских бояр, не один и не двое тайком устремляли взгляд на Сванхейд. Пожелание Карла должно было сбыться уже скоро; под ее белым вышитым передником теперь скрывался первый наследник Олава. Если, конечно, это будет мальчик.
Поглядывали гости и на других родичей хозяина, на многих лицах читалось раздумье. У Хельги киевского больше нет заложника от Хольмгарда – кому придется заменить покойного? Одни косились на Ульвхильд – теперь она осталась единственным, кроме двухлетней Альвхильд, ребенком Олава. Другие посматривали на Ветурлиди – младшего брата господина.
– Так что же – теперь зять наш Ветролид в Киев поедет? – первым задал вопрос старейшина Станигость из Доброжа. – Он ведь не отрок – с женой и чадами придется с места трогаться.
Ветурлиди приходился Олаву сводным братом, от другой жены Хакона, и совсем на Олава не походил: был заметно выше ростом, к двадцати семи годам уже начал полнеть. С крупными чертами довольно полного лица, с длинными темно-русыми волосами, у окрестных славян он имел прозвище Водяной. Мать его была словенка из Внездичей, а жену себе он взял из Доброжичей – знатного рода, из тех, что на Ильмене и Волхове считался «старшим», и уже стал отцом троих сыновей.
– Да, и впрямь, – Ветурлиди, человек добродушный, придал лицу выражение озабоченности. – Что ты об этом думаешь, брат мой Олав? Если бы я был отроком семнадцати лет, то охотно поехал бы в Киев – посмотреть мир и получить от Хельги знатную красивую жену. Но у меня уже есть жена, и знатная, и красивая, и не хотелось бы пускаться в такую даль.
– Жаль – наш князь принял бы брата Олава как дорогого гостя, – улыбнулся Карл. – Но он задумал нечто другое. Надеюсь, кое-кто, по его замыслу, все же получит красивую и знатную жену.
– Кто же? – Ветурлиди с любопытством подался вперед. – Нам с братом уж нечего больше желать.
– Позволь, Олав конунг, я сперва расскажу о другом замысле моего князя. После нашего похода на греков, как вы знаете, цесари пообещали в ближайшие годы заключить с ним договор, чтобы он мог посылать нас с товарами на торги Миклагарда. Уже раз я с другими мужами ездил в Миклагард, и греки потом приезжали к нам. Грядущим летом василики снова должны приехать…
– Кто приехать? – не понял Олав.
– Василики – мужи цесаревы так зовутся, – Карл, не раз побывавший в Константинополе, запомнил немало греческих слов и мог ими щегольнуть при случае. – Приехать и привезти симфону, то есть договор, который их цесари пообещают соблюдать. Нам известно, что греки с сарацинами уже не первый век враждуют. Рассказывали нам послы о Ширване, чей посадник сарацинский, Юсуф, им, грекам, лютый враг. Сильно сарацины притесняют Христовых людей, что на Хазарском море живут, а те к цесарям за помощью шлют.
– Слышали и мы про Юсуфа ширванского, – кивнул Олав. – От самих хазар. Когда прошлым летом Боргар ездил в Итиль, там ему царь говорил: в последние годы у хазар война идет с сарацинами из города Чор, его иные именуют Аль-баб – и Ширвана. Та война длится уже десять лет. Аарон, царь хазарский, согласился пропустить наших людей на море с тем условием, что они помогут ему разбить ширван-шаха. Здесь выгоды их и наши сходятся, иначе не видать бы нам моря Хазарского.
– В этом деле, как я вижу, сходятся выгоды не только ваши и Арона, но еще выгоды цесарей – Леона и Александра, а с тем и моего господина Хельги, – Карл улыбнулся такой удивительной удаче. – Если ширван-шах будет разбит, это пойдет на пользу грекам, а если в этом деле помогут русы – это пойдет на пользу нашему договору с греками. Мы себя еще раз покажем людьми, владеющими силой, отвагой и удачей, надежными и нужными союзниками. Итак, – Карл выпрямился, давая понять, что сейчас скажет самое важное, – господин мой Хельги просит у брата своего[13] Олава позволения прислать своих людей для похода на Хазарское море.







